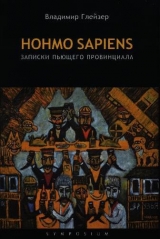
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
ЦИРК
Очаровательный аферист Адольф Вайденфельд, не изменяя своей харизме мошенника на доверии, начинал свою трудовую деятельность секретарем комсомольской организации магаданских приисков. Жестокий приступ аппендицита свалил кабинетного золотоискателя во время дележки неучтенных самородков с секретарем партийной организации. В результате чего дольщик был отправлен с запущенным перитонитом на Большую Землю в теплом больничном халате голым как сокол и при смерти.
Вернувшись с того света идейно разложившимся, Адольф в сердцах сжег все мосты, начиная с партийного билета. О чем горько сожалел, перейдя на скромную, но не менее золотоносную хозяйственную деятельность в родном по матери городе Саратове. По отцу – покойному шуцбундовцу Якову Ивановичу – Адольф, как и его знаменитый тезка, был австрийскоподданным и сыном чудом уцелевшего героя социал-демократического февральского вооруженного мятежа. Из школы Адик, балбес и второгодник, после окончания седьмого класса в семнадцать лет попал в учащиеся монтажного техникума. И сразу по получении справки о завершении образования старшая сестра Анька увезла его к мужу-геологу на Колыму со словами: «Лучше самоходом, чем по этапу!»
Наша многолетняя дружба началась с увлечений. На манеже саратовского цирка проходил аттракцион под названием «Первенссство Сссовет-ссского Сссоюза по класссичессской борьбе сссреди борцов-професссионалов». Именно так ежевечерне выкрикивал эти «ссслова» шпрехшталмейстер зрелища дядя Ваня Карелин, выводя на арену еще крепких, но сильно помятых годами и образом жизни мужиков, нелегким физическим трудом зарабатывающих деньги в соответствии со своими концертными ставками.
В партере работал запрещенный законом тотализатор. Ставки принимал напомаженный а-ля Кларк Гейбл и внешне с ним схожий замдиректора по административно-хозяйственной части родного монтажного техникума Адольф Вайденфельд. Своей неизбывной наглостью я так понравился букмекеру, что за десять дней «сссоревнований» на подставе заработал около трехсот рублей – и это были всего двадцать процентов от выручки Адольфа! Адик знал результаты всех поединков заранее с точностью до минуты победного туше – со слов магаданца, дядя Ваня пять лет сидел у него на приисках.
В жилищном кооперативе ветеранов труда «Север» через несколько лет мы оказались соседями. Ветеран солнечной Колымы к тому времени воровал старшим диспетчером в седьмом строительном тресте – подрядчике новостройки, так что его льготное появление в рядах застройщиков было даже более естественным, чем мое за взятку.
Въехал Адольф в большую трехкомнатную квартиру на четвертом этаже после двухгодичного ремонта за счет усушки и утряски трестовских стройматериалов уже без своей правой руки – жены, продавщицы Райки, сбежавшей в столицу с десятилетней дочерью к новому мужу. И без своей правой ноги, отрезанной по случаю гангрены, запущенной еще с отморожения конечностей на северном курорте.
Адольф и до, и после был мужественным человеком и азартным игроком. В самый разгар ремонта мы втроем играли в «секу» на нейтральном поле – в пустовавшей квартире его матери. Третьим был старший преподаватель мехмата Юрий Иванович Терентьев, умница и пьяница по кличке «Теркин», честнейший даже в картах человек. «Проиграл – не украл!» – было его девизом. Нам с Теркиным не везло, Адольфу перло, как из помойки. Нога у везуника распухала и чернела на глазах, но деньги у нас еще не кончились. «Скорую» мы с Теркиным вызвали, когда победитель был без сознания, а мы – без средств к существованию. Магаданский облом не повторился, так что на нас инвалид был не в обиде.
Самое место сказать похвальное слово игральным картам как средству интенсивной реабилитации.
Похудев на сорок кило (включая ампутированную конечность), Адольф вернулся из больницы законченным морфинистом, и не по своей вине. И хирурги, и терапевты сразу же поставили на нем крест и вместо лечения два месяца вводили обезболивающие, чтобы, приходя в сознание, пациент не орал. А мама работала заведующей аптекой. Когда чудом выжившего Адика привезли домой, она, видя неимоверные страдания прикованного к кровати изможденного ломкой одноногого сына, конечно же, подкалывала ему «лекарства».
Адольф между постоянными болезнями пил, курил, трахался, то есть вел нормальный образ жизни. Поэтому становиться наркоманом не хотел. Он как мог держался, царапая ногтями штукатурку и стеная, но силы покидали его. А мама с марафетом была тут как тут.
– Вовку зови! – кричал взмыленный Адик.
И я приходил. Вскрывали колоду и рубились в «терц», «белот» и «рамс» до Адольфова перехода к Морфею без морфия. Жизнь без наркотиков налаживалась картотерапией.
Адик вообще не держал ни на кого зла. Кроме как на изменщицу Райку. И вот как он ей отомстил.
После получения аттестата зрелости ни о каком московском вузе для смазливой куклы Наташки Вайденфельд не шло и речи. Райка созвонилась с отцом дочери и бывшим мужем, дабы выяснить аферные возможности Адольфа по пристраиванию общего ребенка в какой-нибудь саратовский институт.
Таковые, конечно, были: партнерами по зеленому сукну был не только честный старший преподаватель Теркин, но многие вороватые доценты. Среди них и должники.
Один из них за погашение долга в двести рублей обещал протащить дочурку кредитора в экономический институт со стопроцентной гарантией. Мстительный чадолюбец тотчас позвонил беглянке и сообщил, что за обещанную «самому ректору» взятку в четыре тысячи рублей (пополам с московской мамашей) берется за поступление. То ли для Москвы это была не сумма, то ли мать посчитала положение дуры-дочки безнадежным, но Адольф нажил на родной кровинушке ровно тысячу восемьсот рублей (с учетом погашения кредита)!
Новоявленной студентке было не скучно в папиной квартире за мамины деньги (принцип «пополам»!): в ней уже снимали комнату погодки брат и сестра Джанашвили, умницы и отличники, в отличие от хозяйской куклы. Юные Джанашвили учились в мединституте вдалеке от родины – Южной Осетии, где их отец Моисей держал частный проволочный завод в городе Цхинвали, официально служа на нем государственным директором. Моисей был одновременно азартным картежником и очень богатым человеком. Его вместе с остатками денег вывезли силком и уговорами саратовские профи Мишка-Аспирант и Милый из города-курорта Сочи, а точнее из пятого аэрария платного пляжа «Ривьера», известного на всю картежную страну игорного дома под открытым небом. Моисей как клиент был им нужен в Саратове постоянно.
Это Адольф придумал поступление его гениальных детей в Саратовский мединститут!
Богатей Моисей сам расплатился с институтскими взяточниками, а с партнерами по ломберному столу расплачивался теперь регулярно раз в месяц. Когда навещал с мешками еды и денег своих деток, ведущих под неусыпным взором Адиковой мамы предельно добропорядочный образ жизни.
Адольфа, кроме бывшей жены, любили женщины всех профессий и размеров. А он любил цирк. Звонит мне поздно вечером на седьмой этаж:
– Володя! Спускайся – сюрприз!
Захожу. Перед накрытым столом напротив зардевшегося от удовольствия хозяина на кучах подушек на диване сидят лилипут и две лилипутки. Хорошенькие, сантиметров по семьдесят, и водку пьют!
– Познакомься, Володя! Юля, Оля и Коля. Артисты из труппы Анны Русских. Еле уговорил в гости после представления зайти. Сказал девчонкам, что для компании у меня второй мальчик есть – ты. А Коля от девочки отказался – его право.
– Мы как большие, – говорят Юля, Оля и Коля, – нам и пить тоже можно. Но мало – на килограмм веса!
Через десять минут не известная нам норма была превышена. И мы с Адиком поперек односпальной кровати, придвинутой боком к стене, рядком аккуратно уложили отрубившихся артистов бай-бай.
– Цирк, да и только! – подытожил несостоявшуюся вечеринку режиссер-постановщик.
Прошло много времени, в сорок четыре года похоронили жизнерадостного Адольфа, под забором сгинул его ровесник честнейший Теркин, дал дуба тысячелетний советский рейх, и почти умерли мои воспоминания о генацвале из Цхинвали, как порванная нить истории неожиданно связалась узелком.
В 1995 капиталистическом году мы с женой совершали путешествие без Чарли в поисках Америки. Из Лос-Анджелеса позвонили своим саратовским знакомым – эмигрантам Сафоновым – и договорились с ними, что они закажут нам русскоязычную экскурсию в Вашингтон. После чего и прилетели к Сафоновым в Нью-Йорк.
Нас встретили, привезли домой, и мы с гостеприимным хозяином Вовкой с шести до двенадцати afternoon пили водку. Ровно в полночь раздался телефонный звонок. Турфирма подтвердила заказ: в пять утра туристы Глейзер должны сесть в автобус в Бронксе, адрес такой-то, ориентир – магазин «Моня и Миша».
Обязательный до бесстрашия драйвер Сафонов в момент завалился спать, рассчитывая за четыре часа прийти в норму, чего, разумеется, не произошло. Но, взяв в качестве штурмана жену Риту, из Манхеттена в Бронкс к месту встречи удачно доехал по безлюдному ночному Нью-Йорку вовремя.
Стоим под вывеской «MONYA & MISHA», в дрожащих руках – сигареты. Подъезжает длинный черный лимузин, из него выходит водитель – тощий коротышка в безупречном черном костюме, белоснежной сорочке и черных же лакированных туфлях на высоком каблуке. Если поверх них были бы белые краги – вылитый итальянский гангстер из кинофильма «В старом Чикаго». Покручивая брелоком с ключами, подходит к закрытой двери магазина. Ломая для родившейся хохмы английский язык, вежливо здороваюсь:
– Гуд моня!
– Я не Моня, а Миша! – с явным грузинским акцентом отвечает америкашка.
– Неужто грузин?
– Нет. Еврей из Цхинвали.
– Из Цхинвали? А семью Джанашвили знаешь?
– Хаима или Моше?
– Моше. Я его друг!
– А Хаим умер. Два года назад в Тель-Авиве. Богато хоронили. А где Моше?
– Живой! Сбежал за границу, в Петербург, после войны с грузинами. С деньгами. Все у него хорошо.
– Спасибо. Пошел магазин открывать.
– Пока, Миша. Очень рад был тебя встретить!
– Я тоже. Гуд бай!
И заходит в магазин.
Сафоновы в шоке. Глазам и ушам не верят. Уж не розыгрыш ли? За пять лет в эмиграции никого не встречали, кроме близких родственников, а тут такое – тать в нощи!
– Света, – говорят жене, – он это всё на месте придумал?
– Да нет, – отвечает жена, – у него ВСЁ – ТАК!
ХУК ПОСЕРЕДИНЕ
Есть правда жизни, есть правда искусства, но истина, несомненно, в вине.
Совершенно не задумываясь о последствиях, я рассказал о своем случайном знакомстве с популярным джазменом Игорем Бутманом своему другу, коллекционеру джаза Жоржу Покровскому. И забыл об этом.
Но однажды в наш город с антрепризой «Играем Стриндберг-блюз» в постановке Михаила Козакова приехал этот самый Бутман! И Жорж просто вцепился в меня, чтобы я познакомил его с джазовой знаменитостью.
Потакая страдальцу, я не только просмотрел спектакль, но и по окончании отвел Жоржа на фуршет в кабинет директора. Выпили, закусили, я провел обряд знакомства, но тут господин Бутман засуетился и сказал, что опаздывает на главный банкет, где застольем руководит САМ Михал Михалыч Козаков, и из вежливости предложил другу Жоржу присоединиться к ним по-английски – чуть позже.
Жорж только-только начал возбуждаться, а девушку увели из стойла! Чуть не на коленях он упросил меня поехать в тот кабак, где бы и продолжился плановый допрос музыканта.
Мне не очень-то и хотелось куда-то ехать, так как положенную дозу я уже принял, на улице было мерзко, здесь я был в своей компании и тарелке, но, вспомнив одну необычайную историю с участием артиста Козакова, отправился на чужой пир.
Машина доставила нас в заведение под названием «Камелот». Мы разделись и спустились в подвальчик, где за круглым столом уже пировали рыцари. Во главе с великим и ужасным, высоким и громогласным, пьяненьким далеко не с одной рюмки Михал Михалычем Козаковым!
Чтобы не быть хуже татарина, я в образе большого поклонника таланта Михал Михалыча поздравил маэстро с выдающимся успехом постановки, супругу маэстро с замечательным мужем, артистов труппы – с чудесной работой и предусмотрительно занял место за столом поближе к выходу. Очарованный Жорж пролез в самую середину для клинча с джазменом.
Великий и ужасный вел застолье, не держа паузу. Но я все же улучил момент и взял слово.
– Михал Михалыч, – сказал я, – хочу восстановить наше знакомство с вами, прервавшееся для меня столь неожиданно. Вы позволите напомнить вам в присутствии ваших поклонников и друзей один эпизод тридцатилетней давности?
Мне высочайше было позволено, и я продолжил:
– В те годы я был простым провинциальным советским ученым и в составе довольно большой делегации приехал в столицу на некую конференцию. В культурной программе имело место посещение театра. А именно МХАТа, где настоящим бульдозером сносили пивной ларек в пьесе «Сталевары». Мы с своим другом, ученым великаном Толей, были принипиально против актов вандализма над пивными ларьками, так как пользовались ими постоянно и с довольствием. Посему я предложил Толе оторваться от коллектива, попить пивка и пойти на настоящий спектакль. Например, в Театр на Малой Бронной, где Анатолий Васильевич Эфрос поставил «Дон Жуана» с Козаковым в главной роли и Леонидом Каневским в роли Сганареля, слуги Дон Жуана.
Михал Михалыч величавым кивком подтвердил состав действующих лиц и исполнителей. Я приступил к заключительной части:
– Взять билеты перед началом спектакля удалось с трудом, но какие билеты! Первый ряд, места пятнадцатое и шестнадцатое! Уселись. Сцена покатая (художник Давид Боровский), прямо перед нами в рамках постановочного решения устроились на бивуак главные герои. И в непосредственной близости от зрителей первого ряда начали выпивать как бы вино из огромного штофа. Великан Толя, не знакомый с деталями системы Станиславского, предположил, что в бутылке компот или подкрашенная вода, и по провинциальной непосредственности, мягко извинившись перед сценическими собутыльниками, протянул руку, взял бутылку и отхлебнул из горла содержимое. «Болгарское сухое!» – радостно отметил Толя под злобные взгляды заслуженных артистов и возмущенное роптание соседей.
Михал Михалыч насупился, явно ожидая подвоха в сценарии, но снова кивнул в знак согласия.
– Следующим в спектакле был новаторский проход героев между первым рядом и сценой. «Ты что хамишь, придурок?» – внятно прошептал Дон Жуан Козаков, отжимая к креслу Толины коленки. Толя обиделся и вытянул ноги, тем самым затруднив мизансцену. «Ответишь в антракте!» – прочревовещал разгневанный Козаков, преодолевая препятствие.
«Толя, – сказал я, – ты что с ментами связываешься?» – «Какими еще ментами?» – пробурчал обиженно Толя. «Как с какими? Один – майор Томин из «Следствие ведут знатоки», а другой – сам Феликс Дзержинский из «Рожденных революцией!» – «Ладно тебе», – успокоился Толя – и был не прав! Сдали нас эти «менты» как миленьких, и после первого отделения мы попали в сто второе отделение милиции города Москвы, так и не дождавшись шагов Командора.
На этом месте Михал Михалыч вскочил и заорал:
– Что за хуйню ты несешь? Спектакль семьдесят второго года, а Дзержинского я играл в восьмидесятом!
– Правда искусства важнее правды жизни, – возразил я.
– А ты еще и умный! Ты, бля, не знаешь, какой у меня хук слева! Чтоб тебя через минуту тут не было!
Мы явно перешли на «ты». И за мной оказалось последнее слово:
– Дядя Миша! – не без патетики высказал я. – Я-то уложусь и за полминуты, но ты анатомический урод, а я нет – у тебя хук слева, а у меня висит посередине!
До выхода мне было два шага, а Жоржу побольше, да и увлеченный беседой о прекрасном он не заметил, что хуксер дядя Миша, поняв, что я уже недоступен, полез именно на него с кулаками:
– А ты что сидишь, сука, мой салат жрешь! Уебывай вместе с дружком, а оливье возьми на память!
С этой гнусной отсебятиной он водрузил на голову бедного Жоржа остатки салата, и если бы руки маэстро художественно не заломили соратники, не избежать было ни в чем не повинному любителю джаза знаменитого хука слева.
Мокрый снег замел на голове очумелого Жоржа следы уголовного преступления, и я сказал с умилением:
– Жорж, а ты видел, кто держал за фалды распоясавшегося хулигана? Нет? Лично сам маэстро Бутман! Значит, ты ему понравился и вечер, в общем, прошел не зря!
УРОКИ ПОЛЬСКОГО
Начало семидесятых: в стране тишь, гладь, благодать, холодная война за мир во всем мире и всенародное построение чуши на шестой части суши. Потом этот отстой горбачевские умники назвали брежневским застоем.
Но жизнь на месте не стояла. И даже перемещалась на личном транспорте. В частности, в нашей компании постоянно тарахтел десятикопеечным бензиновым паром отечественный автоурод голубой рейтузной масти «москвич-412». Его наследственный владелец – мой единственный (что с удивлением выяснилось через пятьдесят лет) дружок Дядя-Вадя – был весьма предусмотрительным шофером. В то лето он пригласил меня с женой совершить небескорыстное путешествие в северно-солнечную Прибалтику. В складчину.
Эта практически терра инкогнита тогда для советских невыездных граждан была этакой безвизовой Европой, в которой все города назывались приезжим людом Магазинсками за непривычный набор дефицитного товара типа обуви, одежды и постельного белья. Чего в Неприбалтике не водилось со времен НЭПа.
Командором автопробега Дядя-Вадя назначил себя, а девизом предприятия рациональную мысль: «Ничего с собой не берем, остальное все купим!» Неуклонное соблюдение этой аскезы легко улеглось в багажник в виде двух пар носильной одежи на ячейку общества, четырех трико отечественной выделки типа «выкини меня», алюминиевой посуды той же судьбы, рюкзака консервов и шести флаконов водки на случай осознанной необходимости. Ночевать предполагалось в латаной брезентовой палатке и салоне «москвича» на сменку попарно. Готовить – на костерке, кипятить воду – на бензопримусе «Шмель».
После незабываемого для местных комаров первого бивуака я уговорил командора остановиться хотя бы на одну ночь в придорожном кемпинге, не доезжая до попутного города Минска, в котором недорого сдавали домик на четверых постояльцев с парковкой близ пристанища.
По соседству разместились прибывшие в двух белых «фиатах» (тех, которые вскоре стали у нас «жигулями») иностранцы, на вид – очень приятные. Примерно наши ровесники: две миниатюрные дамы, очень хорошенькие, явно семейные пчелки, и два крепких мужичка, все в американских джинсах. Интуристы бойко тараторили на каком-то близком, но непонятном наречии.
Да это же поляки, догадался я! Что, мы с ними общий язык не найдем? Небось с Речи Посполитой русский в школе лет сто учили! Правда, если как мы английский, то разговора не получится точно.
Так, и какие же речи товарищам из Речи толкать будем? Умничать без подготовки? И что я вообще-то знаю про старинных соседей, кроме того, что и Россия, и Советы порубали их королевство-царство-воеводство и генерал-губернаторство в разное время на мелкие части?
Из поляков известных одна мразота на память приходит: Дзержинский, Менжинский, Вышинский – но эту сволоту на ее исторической родине и не знает никто! Двое Сикорских, как бы не перепутать: один наш, который американец, другой их, который лондонское правительство? Люблю фантаста Станислава Лема, сатирика Ежи Леца, поэта Юлиана Тувима. Но все они почему-то оказались евреями, а бывший сталинский сиделец премьер Гомулка еще пять лет назад эту инородную нечисть из народно-демократической Польши вымел поганой метлой. Как бы не влипнуть по этой интернациональной линии! Ведь известных со школы Николая Коперника и Марии Склодовской-Кюри для затяжной застольной беседы было явно маловато.
Думай, Барабашкин, думай! Мицкевича Адама знаю, даже «Дзяды» его антирусские под одеялом на папиросной бумаге в студентах читал, но не помню даже имен главных героев! Фридерика Шопена знаю, точнее его «Революционный этюд», но это не романс – не напоешь! Стоп, есть что намурлыкать: «Полонез Огинского», он же «Прощание с Родиной»! Где же это его на всю катушку прокатывали? Вспомнил, Матка Боска Ченстоховска! «Пепел и алмаз» Анджея Вайды, с Цибульским в главной роли! Мировой киношедевр всех времен и народов, двухсотпроцентная гордость любого стопроцентного поляка! Эврика!
– Разрешите представиться: мой друг Вадим, его жена Таня, моя – Света, и я сам – Владимир, можно Вова. Все мы ученые-физики, кроме Тани – она ученый-биолог. Прибыли любоваться чем попало из города Саратова, с реки Волга.
– Я – Казимеж, то мой пржияцол Лех – мы лекарцы. Моя жона Гонората – архитектка, жона Леха Алиция – просто жона. Мы з Кракова. И тро-че знамо росийску мову. Вы дюже нам в радосчь.
Ну, если и мову нашу троче знают, то вперед, заре навстречу, товарищи в гульбе, врачам и архитекторам расскажем о себе!
– А нам, мало-англо-русско-язычным, с польским языком не повезло – чего не знаемо, того не понимаемо. Мой сосед, царство ему небесное, пан Янек Мотыльский, старичок портной сибирскоссыль-ный, приговаривал в усы: «Польска мова бардзо подобна до француской: падво, быдво, повидво!» Это не очень грубая лингвистическая шутка, Панове? А то извините! Sorry, так сказать. Как, кстати, по-польски «sorry»?
– Пржепрасжам.
– Как, как?
– Так, – смеется Казимеж, – пржепрасжам!
– Все, миль пардон, медамс и месье! Наврал покойный Янек, французскому до польского ой как далеко!
И мы со страшной силой начали дружить. Поляки пошли к «фиатам», мы – к «москвичу». Поляки вытащили из багажника сундучок со столовыми приборами, к ним мельхиоровые стопарики и бутылку поганой польской водки с закуской в плетеной корзинке – краковску киелбасу (не путать с одноименной и несъедобной нашей) и варживу (овощи домашнего консервирования).
Мы из своего – четыре железные кружки с четырьмя железными ложками, охотничий нож-кладенец, шматок сала в вощеной бумаге, толстый нарезной батон и пузырек настоящей «Столичной», купленной не где-нибудь, а по большому блату. Сюрпризом для пржияцолей была банка настоящего, то есть не индийского, а ленинградского растворимого кофе, чего в краковских чертогах отродясь не водилось: Польша тоже сидела в соцлагере, хоть и не так, как мы – на голых нарах, но «добрая кава» и в ней была дефицитом.
Архитектка Гонората расстелила на столик в общей беседке цветную скатерку, пан Лех раскупорил свой денатурат, просто жона Алиция изящно разложила еду на тарелочки, а пан Казимеж достал из чехла гитару. Дядя-Вадя споро порубал обоюдоострым клинком сало и подошел к Казику:
– А мне гитару дашь? Я тоже умею!
И соревнование началось: на музыкальном ринге у Вади с Казиком, на питейном – у меня с Леше-ком, на кулинарном – у паней с дамами. Проигравших не было – главным было участие, а не победа: еще Польска не сгинела, и не умер русский дух!
Как я и предполагал, важнейшее из искусств – кино – полностью оправдало свое ленинское определение! Я витийствовал по поводу «Пепла и алмаза», что Вайда – проповедник достоевщины и в своем шедевре смешал в одну кучу «идиотов» и «бесов», что только таким гениальным актером, как Збигнев Цибульский, этот микст удалось воплотить в одном герое. Это соображение было вовсе не озарением, а следствием моего длительного словоблудия в саратовском элитном «Киноклубе» продвинутых в разные стороны врачей братьев Штернов. Старший как был, так и остался земцем, а младший неожиданно проявился шведским иноземцем. Недаром проницательные чекисты считали киноклуб гнездилищем разврата.
Пани с дамами вспомнили знаменитых польских кинодив – двух Барбар, Брыльску и Крафтувну. Паны тут же перешли к острокритическому разбору шедевра Войцеха Хаса «Как быть любимой». С теми же Крафтувной и Цибульским в главных ролях. Фильма, скажу, на очень скользкую тему: что же это за такое – военное геройство, подвиг ли это только, черт побери? В широком прокате у нас он не шел, а в местном Доме кино для обкомовских и клубных из-под полы показали.
Вспомнили мы дружно также польско-советскую ленту «Прерванный полет», и как там Эльжбета Чижевска учила на сеновале нашего Белявского семипадежному польскому языку – «дробина с повыломынывыми щербинами», то есть – «лестница с выломанными ступеньками».
Умничали мы долго и естественно, как дома на кухне: польское кино того времени для совка было приоткрытой форточкой в Европу, а поляки искренне восхищались своими киногениями.
Так что в целом поговорили хорошо – «была ладна дискуссия». А также хорошо выпили. Что, как известно, одно другому не мешает. И решили завтрашний день провести в совместной экскурсии. Куда ехать? Утро вечера мудренее.
За легким, в сравнении с ужином, завтраком я предложил на двух машинах смотаться чуть в сторону от трассы – в мемориальный комплекс «Хатынь».
– Катынь? – удивился Казик.
– Нет, Хатынь, там немцы сожгли белорусскую деревню со всеми жителями, только что памятный музей открыли, – объяснил я.
– А у нас проблем, – вмешался Лех, лучше остальных, как этнический украинец, знавший русский язык и особенности восточного быта, – мы едем на Смоленск по консульскому маршруту, скок вправо, скок влево – розстржеливание. Так у эсэсэрцев?
– Ошибаешься, Лешек, в нашей стране – закон что дышло: куда повернешь, туда и вышло. Разумеешь, пан иностранец?
– Так, – перешел в волнении Лех на родную польскую мову, – а гжие ест постерунек полици? Пиесжечь на мапу поставить.
– Сидите-ка, паны, на лавочке с девочками, а мы с Дядей-Вадей в участок сбегаем и о печати на дорожную карту с полицией как-нибудь договоримся. Будет вам полный пиесжечь!
Отошли за угол, покурили и вернулись.
– Все в порядке, шановные паны. Пиесжечь не надо, мчимся на объект по устному разрешению в сопровождении верных друзей полиции из бригадмила, то есть нас с Дядей-Вадей! По коням, кавалеровичи!
Через час мы были в Хатыни – музей под открытым небом, помпезно, но торжественно, сняли шапки, постояли и уехали восвояси без приключений. Гаишников в Белоруссии сроду не водилось – народ вокруг бедный, отбирать нечего, чай, не Москва. По дороге свернули на местный базар, купили там зелени, солений, местной ряженки и печеной бульбы – картошки в мундире. Обиад, то есть ужин, был обеспечен! И он состоялся.
Пани дефилировали в вечерних платьях, наши дамы в отглаженных ковбойках навыпуск поверх закатанных тренировочных штанов – ноги у них были не под стать польским, почти до шеи. Все четверо – завитые и подкрашенные. Паны явились в пиджаках, мы с Дядей-Вадей в чистом нательном белье мужественно изображали без грима степных разбойников с Гуляй Поля.
Стол полн был яств. Про кино уже не говорили. Тема оказалась более серьезной.
– Вот бывали мы в Хатыни, – с грустью сказал Казик, – а едем в Катынь, обок Смоленска. У нас специальний маршрут. Ты, Вовек, значе сие Катыньский лас?
Я, как вы понимаете, был всезнайкой.
– Конечно, знаю. Там, в этом лесу, фашисты в Отечественную войну пленных польских офицеров расстреляли.
– Ниеправда то, Вовек! Ние фашисты, а акция росийского гестапо, и провадзичена она до вашей войны с ниемцами – в тыщенц джевеньчьсэт чтэр-жещчем року, когда Сталин с Гитлером пржияцолствовал. Там замордовачены наши ойчиецы: мой – надпоручник Шептицки, и Лешека – капитан Засядько. И ежсже пеньчь тыщёнцей. Вот мы и едем плакачь на их гроби. А их там – ние ма! Будемо на ровну землю гождзики кластчь.
Так я, дурак, узнал не только про Хатынь, но и про Катынь. К своему и нашему позору! Без перевода его с советского на немецкий.
Поутру наши экипажи разъехались по сторонам, каждый по своему маршруту…
Прошла треть века, жизнь вывернулась чуть ли не наизнанку, и стоят уже католические кресты в опоганенном Катынском лесу, и документы об этом невероятном злодеянии рассекречены. Но покаяния от нас как не было, так и нет.
А значит, нет и покоя душам невинно убиенных.








