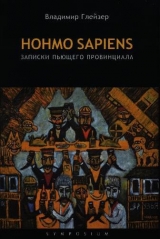
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
ПОЕХАЛИ!
Никакого бунта не было. Просто вырвались на волю обильные прыщи на румяных юношеских лицах. Скоропалительный уход из «лучшей в городе» школы № 19 двух пятнадцатилетних мальчиков и их пассий-близнецов из параллельного класса в обыкновенную среднюю школу № 18 имел вескую даже для родителей причину: оттепельные реформаторы образования в порядке эксперимента перевели покинутый источник знаний на одиннадцатилетнее обучение. У нас одним махом крали целый год послешкольной свободы! Вслед за нами, каждый по своим причинам, в добровольную эмиграцию отправились еще семеро смелых, так что 9-й «Б» наполовину стал «девятнашкиным».
Состав принимающей половины, как и в политике, резко отличался от эмигрантской. Это были пролетарские троечники. А мы, почти все, – отличники или хорошисты интеллигентского происхождения. Мятущемуся рабочему классу был нужен «черный вождь из Трира» – и я, здоровый, наглый и полуобразованный, хоть и поднахватавшийся ветвистых верхушек, стал им через неделю при взаимном непротивлении сторон. Началась новая вольная жизнь, не похожая на старую и строгую гимназическую.
В десятилетках тоже не обошлось без оттепельного реформаторства, и для восстановления упадка сил законченных бездельников-школяров после третьего урока была введена супербольшая перемена в тридцать минут.
Странным образом ее начало совпало со временем открытия антиалкогольной новинки – расположенного в трех минутах бега трусцой «Кафе-автомата», чуда торговой техники. В кассе заведения продавались по двадцать копеек штука металлические жетоны без какой-либо защиты (пьяницы-умельцы через неделю штамповали их десятками со скидкой до пятидесяти процентов) на разные по цвету, но одинаковые по крепости суррогаты – «Портвейн», «Белое крепкое», «Красное десертное» и т. п. Жетон бросался в прорезь автомата, из которого выливалась в граненый стакан объявленная на приклеенной бумажке жидкость.
Оперуполномоченный нами меркурий за пятнадцать минут до звонка с третьего урока жалко морщил лицо, поднимал руку и, держась второй за причинное место, просился выйти в туалет. После чего бежал в «Автомат», занимал очередь перед его открытием, первым покупал жетоны и раздавал их подошедшим вразвалку товарищам. За двадцать минут из перемены, в зависимости от общественных средств, мы выпивали по стакану или больше головоломной бурды и шли продолжать среднее образование. Хорошо, что школьникам не платили стипендию, а суммы, выдаваемые нам родителями на завтраки, были незначительными. А то за два года непрерывного виночерпия к выпускному балу спились бы не двое, а гораздо больше.
С Петей Колесниковым, предполагаемым моим свояком по сестрам-близняшкам, мы к тому же расслаблялись культурно. Петенька, высокий русый красавец в золотых очках, числился в секретарях комсомольской организации школы и одновременно был вице-губернатором Острова сокровищ. Несметные богатства размещались в двух огромных сундуках с добром, вывезенным его отцом, инженером с хорошим художественным вкусом, из полукапиталистического рыночного Шанхая, где он несколько лет командировочно что-то налаживал и возводил. Деревянные будды и японские рисунки на шелке дарились нами на дни рождения девушкам, а импортные пластинки с модными фокстротами иногда продавались Петей собирателям рентгеномузыки за небольшие деньги. Я же был материально обеспечен халтурой под руководством свойственника – художника-оформителя Самары. То есть независимо друг от друга оба были «при капусте».
Так вот, сидим мы однажды во внеурочное время на втором этаже ресторана второй категории «Европа» за дальним угловым столиком – я лицом к входной двери, а Петя лицом ко мне. Пьем пиво с раками, холодная бутылка водки ждет подачи поджарки, разговоры разговариваем. Вдруг вижу, как в зал резкими нетрезвыми шагами входит директор нашей школы Мосол и бухается, не замечая подведомственных, за соседний столик спиной к спине Петеньки.
– Атас, Петя, сзади Мосол! – не вполне предполагая последствия, прошептал я другу, пряча под стол водку.
– Где? – сказал Петя и расслабленным локтем, лежащим на спинке стула ровно на уровне Мо-солового уха, в резком повороте в это самое ухо и заехал.
– Ты что делаешь, блядь, трататата-тратата? – обернувшись, совершенно справедливо заорал директор, но тут же узнал нас с Петенькой и, как настоящий Ян Амос Каменский, педагогично покинул конфликтное место.
– Ну, и что теперь будет? – спросил я Петю, доставая из-под стола потеплевшую бутылку.
– Да ничего, – сказал мудрый комсомолец. – Нечего в рабочее время ему пьяным по кабакам ходить. А нам можно – мы-то после уроков!
12 апреля 1961 года не отличалось от других весенних дней. Разве что в этот день литераторшей Чижевской было назначено классное сочинение с темами, которые, по ее предположению, наиболее вероятны на выпускных экзаменах. С Чижевской я весело боролся уже два года. Причиной тому было то, что Нина Михайловна представляла собой традиционный образец учителя литературы высокого советского качества, и это качество исключало любые вольности, выходящие за утвержденную министерскую программу. А я покушался в соответствии с бегущим временем не только на это. Поэтому уроки Чижевской я посещал, во-первых, чтобы ее не обидеть, а во-вторых, желая получить простое протестное удовольствие. Сочинение было назначено на второй и третий уроки слитно. Но к началу занятий в класс вбежало потное чекистское отродье Саня Куреня с экстренным сообщением для ближайшего круга:
– Ребята! Папашу срочно вызвали в одно место – за Волгу, километров за сорок, там приземлился космонавт! Всё КГБ туда уже мчится, а я, когда папаша, не завтракая, в сортир побежал, схему перерисовал. Давай, Гришка, чеши за машиной, и вчетвером поедем!
Вчетвером – это ближайшие Санины друзья еще с 19-й школы – я, Гарик Сандлер и Гришка Рейхельсон – юный владелец быстроходного транспортного средства – отцовой «Победы». Все, кроме меня, – отъявленные прогульщики. В «экстренное сообщение» я не поверил, хотя что-то подобное витало в воздухе, да и вездесущее радио молчало, что было несколько странно для такого случая. Я просто решил, что Санек изобрел хитрый способ уклонения от провального для этой части компании сочинения, и по великой лени своей пренебрег личным участием в беспрецедентном историческом событии.
Гараж был рядом. Гришка подкатил через пять минут. Он сказал:
– Поехали! – и махнул рукой.
В гордом одиночестве я выбрал сочинение на тему «Судьба маленького человека в повести Н. В. Гоголя «Шинель» и без грамматических ошибок написал остроумный эпиграф: ««Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Николай Островский, писатель-коммунист». Очередное возмущение прямолинейной Нины Михайловны выплескивалось через край – в школьном коридоре висел цветной плакат с изображением парализованного Гомера гражданской войны. На нем приведенная в сочинении цитата была выписана полностью: «…чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества».
– Глейзер, – сипло кричала она в коридоре, корежа пальцами горящую папиросу. – Зачем все это? Гоголь – это Гоголь, «Как закалялась сталь» – из совсем другой оперы! Островский Гоголя не читал, а ты – не читал обоих! Твои аллюзии, сомневаюсь, что ты знаешь это слово, – безграмотное и неуместное хулиганство, и ничего более. И ты еще за это заплатишь!
Когда через три часа после приземления Гагарина все радиостанции Советского Союза голосом Левитана сначала объявили о запуске, а еще через час – о благополучном приземлении первого в мире космонавта, три товарища уже вернулись восвояси. Мне, дураку, променявшему на шутку об Акакии Акакиевиче эксклюзивное прикосновение к спускаемому аппарату, прикоснувшиеся к Вечности балбесы подарили рваный кусок обгоревшей обшивки гагаринской капсулы, который пропал при моем принудительном выселении из родимого гнезда два года спустя. В мое отсутствие безголовые судебные исполнители просто выкинули его на помойку.
Космический катаклизм курьезной жизни кроткого А. А. Башмачкина обернулся единственной четверкой в моем аттестате зрелости: пятерка за русский язык и четверка по литературе. «Значительное лицо» в виде простой советской учительницы не только угадало тему выпускного сочинения, но и реализовало на практике данное в коридоре обещание. Так что вместо ожидаемой золотой я получил серебряную медаль, от которой, впрочем, публично и пьяно открестился на выпускном вечере. Это было не фрондой и даже не местью запрограммированной Чижевской – в тот год медалисты, благодаря неугомонной деятельности все тех же оттепельных реформаторов, были лишены всех преимуществ при поступлении в вуз.
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
В университет я начал поступать перед окончанием девятого класса, и вот как. На областной математической олимпиаде школьников я занял первое место. Не то чтобы я сильно увлекался математикой, но учился хорошо, так уж получилось без всяких с моей стороны усилий. Дней через десять после вручения почетного диплома меня пригласил молодой доцент мехмата Емельянов, который отвечал за эту олимпиаду по общественной линии, и рассказал о своих далеко идущих планах.
Он сообщил, что летом этого, 1960 года Московский университет в порядке эксперимента проводит свою олимпиаду в открытом режиме и приглашает для участия победителей провинциальных олимпиад. Эксперимент этот, скажу, забегая вперед, закончился успешно, и со следующего года олимпиада МГУ превратилась во всесоюзную. А план Емельянова был такой: он организует усиленную подготовку трех областных победителей в экстремальном режиме. Непочатым источником этих знаний был известный мне учебник А. М. и И. М. Ягломов «Неэлементарная математика в элементарном изложении», который я из любопытства перелистывал, но из-за лени и всяческих забот не изучал.
В группу интенсивной подготовки «кроликами» вошли я и занявшие второе и третье место Сева Соловьев (мой одноклассник) и Миша Рорер из другой школы. В личном алфавите Мишки было всего тридцать две буквы: он не картавил – буквы «р» в его речи просто не было. Свою фамилию он произносил как Ое, и я даже подумывал, что он родственник киноартиста Бруно Оя из знаменитого литовского боевика «Никто не хотел умирать».
Группу «удавов» составили сам Емельянов, ассистенты Чернявский и Терентьев и аспирант Шевченко. Четыре дня в неделю по отдельности и один совместно «удавы» безжалостно дрессировали «кроликов» в течение месяца. Двадцать пять невероятных для простого школьника задач в день и одна умопомрачительная контрольная в неделю. И это при полном консенсусе сторон! Так я никогда раньше и никогда позже не только не учился, но и не работал.
«Удавы» были молоды, умны, веселы и на редкость демократичны. Судьба их сложилась по-разному: Емельянов стал доктором, профессором, завкафедрой любимого матанализа и умер от инфаркта, не дожив до заслуженных седин; Шевченко в Донецке убили какие-то бандиты; Терентьев сильно пил и тоже сошел в могилу раньше времени. Доцент Чернявский, слава Богу, жив и даже здоров, находясь в иронической доброй памяти.
В общем и целом, нас натаскали на всю оставшуюся жизнь и отправили душным летом в стольный град. Поселили несколько десятков провинциальных гениев в задрипанную гостиницу «Восток» на ВДНХ и стали автобусом возить в МГУ на Ленинских горах на олимпийские игры. МГУ мне в первый же час понравился туалетом в главном корпусе. На белоснежном кафеле черной краской каллиграфически было выведено: «Абитуриент! Не пей из унитаза!», а под призывом коряво: «Что же ты мне раньше не сказал».
Участники соревнований, вне зависимости от места жительства, отличались удивительным однообразием как фамилий, так и профилей. Подобный контингент уже в наше, другое по этой части время я встречал только на праздниках в еврейских воскресных школах. Причем в качестве зрителей.
Занять среди этих тыквоголовых вундеркиндов первое место было нереально, даже при нашей супер-пупер подготовке. Поэтому я спокойно попивал вечерами дорогое пиво «Двойное золотое» в витых бутылочках под самую дешевую чесночную колбасу на бородинском хлебе с соседом по этажу – прыщавым здоровяком Левой Темкиным из Самары (тогда – Куйбышев). Деньги у меня на это уже любимое дело были – сто родительских рублей тайно удвоил мой старший брат Юра, пятикурсник физфака СГУ, известный на родине решальщик школьных задачек повышенной трудности, заядлый преферансист и мой естественный болельщик.
Темкин был остроумцем; например, я запомнил его очень точную шутку по поводу нашего проживания: «Превратили гостиницу в какое-то общежидие!»
К моему удивлению, похмельный Темкин занял призовое второе место и впоследствии обнаружился профессором в Штатах. Я вошел в первую двадцатку (семнадцатым), решив из четырех две с половиной задачи и ничуть этим не расстроившись. А в качестве сюрприза, как и вся двадцатка, получил официальное индивидуальное приглашение деканата мехмата МГУ на льготное поступление через год в самый престижный вуз страны! Вот с таким щитом я и явился с поля боя в родные пенаты.
Десятый класс начался с фантастики: учительница Ольга Георгиевна освободила меня от посещения уроков математики! До этого освобождали худосочных и только от физкультуры. Обидно было за Севу Соловьева, моего попутчика-олимпийца, не получившего, в отличие от меня, справки о гениальности на гербовой бумаге. Это не помешало Севе окончить саратовский мехмат, защитить диссертацию и всю жизнь преподавать эту самую математику.
Классный руководитель, учитель физики Давид Львович тоже мной гордился и позволял на свои уроки ходить, но физику не учить. На выпускном экзамене по этому предмету Давид Львович меня просто завалил в назидание, но поставил пятерку, чтобы я получил медаль. Медаль в тот год никому не была нужна, так как льготы медалистам, как я уже упоминал, отменили.
И на выпускном вечере я в веселом подпитии демонстративно выбросил ее в окно под столь же весело-пьяные визги влюбленных в меня одноклассниц. Но московскую справку-приглашение на всякий пожарный случай я сохранил, хотя ехать в МГУ не собирался. Я сознательно пренебрег престижностью столичного образования, руководствуясь соображениями приземленными.
Наша семья, уже двадцать лет проживавшая в Саратове, была эвакуирована в войну из Москвы, и мама, беззаветно любившая столицу за избыток в ней яиц, мяса, масла, колбасы и культурных учреждений, из года в год сидела на чемоданах. И вот папаню той весной наконец-то перевели главным конструктором в секретный подмосковный НИИ и дали квартиру, правда не в Москве, а за шестьдесят километров от нее, но езда на электричке маму не смущала. Лишний час по точному московскому расписанию – это все же лучше, чем по полтора неточных на саратовских перекладных на работу и с работы. Обо мне родители не думали: куда я денусь с подводной лодки!
А я думал, да как! Все уезжали, а я мог остаться! Один, с меблированной комнатой в центре города! Среди друзей и подруг, в семнадцать лет! Да хрен я поеду! И я подал документы на физический факультет Саратовского университета. Почему на физический? Да по целым трем причинам. Первая: математику я уже, как мне казалось, всю знал. Второе: это было время «физиков в почете, а лириков в загоне», и друзья старшего брата мне все уши прожужжали расшифровкой этого модного тезиса. И третье: мне было стыдно перед хорошим человеком, учителем Давидом Львовичем за то, что физику в школе я не выучил, а «пятерку» на экзамене получил по блату.
Сдавать надо было тогда пять экзаменов, и за четыре я нисколько не беспокоился. Но физика!
С ней-то что делать? Конечно, за месяц я бы ее выучил, но страх был. Опасения были рассеяны все теми же буйными друзьями брата, не только окончившими год назад университет, но и занявшими на физфаке довольно солидное и прочное положение. Они, стуча кулаками в грудь, орали мне на кухне:
– Да ты идиот, Вовка! Ты только приди на экзамен – там ни одной незнакомой тебе рожи не будет! Там будем – мы!
Так примерно и вышло на практике.
Я с удовольствием ходил на консультации, знакомился с ровесниками, пил пиво и ел в одном и том же кафе очень вкусные пельмени – три порции с маслом и сметаной. На целый день. Однажды именно в этом заведении я оказался рядом со своим прошлогодним суперрепетитором Юрием Ивановичем Терентьевым. Он был слегка, но заметно, пьян и с удовольствием вспоминал наши былые математические победы.
Когда он узнал, что я поступаю на физфак, он ничуть не удивился и даже обрадовался.
– Володя, хочешь меня выручить? – спросил он.
– Хочу. А чем?
– У меня через час консультация у физфаковской абитуры, а я, как видишь, под шофе. Тема занятий – комбинаторика, а лучше тебя, даю слово, эту дисциплину никто не знает. Расскажи ребятам о перестановках и сочетаниях, как я тебя учил, примеры там разные приведи, ответь на вопросы. Ладно?
– Ладно, – сказал я. И подумал: вот это хохма!
Консультацию я провел на ура. Дело это я действительно знал на шесть с плюсом. Потом провел еще одну и еще одну с тем же успехом. На них уже сидели Тереньтев с Шевченко и умиленно радовались вместе со мной.
Каково же было удивление моей клиентуры, когда я вместе с ней сдавал как ни в чем не бывало предметы, которым ее обучал, высоким членам приемной комиссии!
В университет я, конечно, поступил. Но еще года два, как и в школе, был освобожден моими старыми друзьями от занятий (не от экзаменов!) уже по высшей математике.
И сделал важный вывод: учиться рано никогда не поздно.
ЛЮБОВЬ И МОРКОВЬ
Типичный случай: им по восемнадцать, и они любят друг друга. Оба студенты одного вуза и одного факультета, но разных потоков. Так что даже как бы разных факультетов, что на учебное время укорачивало число встреч. Видеться во всех смыслах хотелось, а расставаться – нет. Первое долгое свидание – в колхозе на летней отработке. Но вокруг постоянно люди, свои, конечно, в доску, но нет ничего надоедливей, чем постоянство. Хотелось романтики и только вдвоем. Очень. Уехать куда-нибудь? Например, на море!
Морей, кроме Балтийского и Черного, тогда для жителей европейской части СССР не существовало. Первое, песчанопляжное, было для богачей, второе, галечное, – для бедняков. Первое – курортное, второе – тоже путевочно-санаторное, но в очень большом остатке – для «дикарей». С рюкзаками и палатками, сухарями и консервами на небыстрых поездах, на машинах-развалюхах, мотоциклах и велосипедах, как один человек, весь советский народ совершал летний хадж в солнечную Мекку – за сто рублей на берег самого синего в мире Черного моря его.
В любовном тандеме я крутил передние педали – и мое дело было рулить, а ее – в такт усиливать напор продвижения. Друзья-сокурсники – их звали Фан, Бессоныч, Хил и Тишка – заработали помощниками комбайнеров на подшефных колхозных полях по сто двадцать рублей. Отпускных. Мы с Любимой в другом колхозе токовали по вечерам, а на мехтоку в дневное время на двоих налопатили шиш да маленько. Но в поход на море собрались тоже. По-разному.
У Любимой уехали на отдых в те края родители и настойчиво звали утомленную сельхозтрудами праведными доченьку присоединиться. У меня была коллекция марок, один альбом из которой, «Политические деятели мира», для меня особой ценности (по сравнению с любовью) не представлял. А филателист Эдик Маслов, первый в моем поле зрения здоровый мужик с наманикюренными пальцами и поэтому непрерывно цитировавший Пушкина: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» – давал мне за него ровно сто двадцать рублей. У Эдика не было «горя от ума», и посему водились лишние деньги. Так что я легко вписался в коллектив к-морю-плавателей вступительным взносом.
Пункт назначения легко был выбран по родительским координатам: город-курорт Геленджик. Куда мы и отправились вшестером в прицепном плацкартном вагоне всей шлеп-компанией. С домашними пирожками и портвейном «777», к которому мы дружно переходили, исходя из ожидаемой скромности будущей жизни. На всякий случай тут же, в купе, мы накладыванием дланей поклялись не употреблять (не более чем на месяц!) крепких алкогольных напитков, ритуально изорвав специально отклеенную этикетку «Московской особой».
Постоялое место на окраине «Мекки» (нашим единственным условием была дешевизна) нам забронировали предки Любимой. Хозяйкой ангажированной комнаты оказалась жердеобразная некрасивая гречанка лет тридцати Марула Ставроди, которую в соответствии с ее прейскурантом мы звали Марула Полставроде. При всей напускной строгости она была крайне добра и смешлива, мы ей нравились, и она любила с нами поболтать о том о сем, осторожно потчуя северных красавцев терпким домашним, крепленным табаком вином, сильно подкрепляя этим действом наш скудный бюджет. Из курса греческого языка, который она нам, любя, преподавала, я запомнил только счет до десяти – эна, диа, триа, те-сера, пеенди, экс, офто, эхто, энея, дека, или что-то в этом роде. Комната была большой с окном в палисадник – две полуторные кровати и диванчик. Мы бросили жалкий жребий свой, и спальные места распределились так: на кроватях валетом я с Тишкой, Хил с Фаном, на диванчике – везучий Бессоныч, держатель общей кассы, человек непреклонной воли и сосредоточенного самосознания.
Целую неделю мы плескались в невысоких волнах Черного моря, ели дешевые овощи и фрукты, обедали в еще более дешевой забегаловке самообслуживания и, не успев устать от однообразия свободной жизни, потянулись к перемене мест. Сначала это были места не столь отдаленные.
На седьмой день под руководством Тишки мы мужским составом (Любимой хватило ума!) пошли в пробный пионерский поход на Толстый мыс. Геленджикский залив природой огорожен двумя мысами: западным – Тонким и восточным – Толстым. Тонкий мыс был окультурен, на нем росли реликтовые сосны, и среди них был разбит городской парк. Толстый мыс был дик и неухожен, находился вдали от городских построек, и нормальные люди туда не ходили. Ненормальные тоже. Мы пошли. Пошли налегке – в плавках и сандалиях, без еды и питья, так как с нашим атаманом не приходилось тужить как в населенной местности, так и в самой что ни на есть пустыне. Сердобольные (и не очень) граждане снимали с себя последнюю рубаху, чтобы удовлетворить скромные потребности в пище и воде белокурой бестии с грустными серыми глазами, который нес такую ахинею, что незнакомые люди поголовно впадали в благотворительную кому. Мы привыкли к этому первобытному коммунизму, и если, как пелось в песне, «шеф давал нам приказ – мы шли в Кейптаун».
Толстый мыс был необитаем оттого, что к морю подходил крутым обрывом довольно большой высоты, а прибрежная каменистая полоска метровой ширины не позволяла даже найти места для загорания. Вот по ней-то мы и прошагали часа два, не встретив ни единой души. Когда нам по молодости и душевной простоте захотелось пить и есть, внимательный к чаяниям членов отряда командир остановился и, указав на тонкий ручеек, где-то наверху пробивавшийся из практически отвесной стены, сказал: «Здесь мы и проведем восхождение к резервации белых людей, мирно пасущих свои тучные стада. Там мы будем есть мясо и пить молоко. И то, и другое – парное!»
И мы цепочкой полезли вверх по осыпавшемуся обрыву. Первым до источника влаги дополз Тишка. Он подставил ладошку, набрал в нее несколько капель, слизнул их сухими губами и возопил: «Чище этого боржоми нарзана я не пил!» Я подполз вторым, повторил ритуал командора и чуть не помутился разумом – по всем признакам запаха и вкуса мы впервые в жизни попробовали мочу!
Поддерживая хохму, я сделал лицо и сказал «вах-вах!» следующему жаждавшему. Третий, а за ним и четвертый вступили в розыгрыш. Пятым был измочаленный солнцепеком Бессоныч, который набрал полную пригоршню и выпил ее залпом. После чего заорал нечеловеческим голосом и начал забрасывать нас камнями. С одной стороны, он поступил правильно, а с другой – нет: нельзя рубить сук, на котором сидишь, нельзя кидаться камнями, на которых лежишь! Бессоныч с визгом скатился прямо в морскую пучину. Там, матерясь, он промыл рот и расцарапанное пузо, и еще полчаса мы ждали его на вершине, прямо у лошадиного стойла – оно-то и являлось источником живительной влаги.
Слава Богу, плато представляло собой совершенно безлюдную виноградную плантацию. Сориентировавшись по солнцу, мы вышли на большую дорогу, набив по пути животы бесхозным недоспелым виноградом. На дороге стоял огромный фанерный щит, на котором толстенными буквами красовалась надпись: «ОСТОРОЖНО – ФИЛОКСЕРА! САД ОБРАБОТАН ЯДОМ».
Мы мужественно, без скупых слез попрощались друг с другом перед неминуемой смертью, но на всякий случай вставили себе по два пальца в рот. И что бы вы думали? Черный ангел, не задевая, только помахал нам своим крылом!
Перемену на места более отдаленные придумал все тот же вездесущий Тишка. «Ребята, а так же девчата! – вскричал он. – Есть уникальная возможность практически на халяву морским путем добраться до Сочи и обратно! Я уже обо всем договорился».
Тотчас за какие-то копейки были куплены палубные билеты на супердизель-электроход «Россия» (и он, и его аналог, круизный лайнер «Адмирал Нахимов», были перекрашенными трофейными теплоходами, и один из них, не помню, который, скромно назывался прежде «Адольф Гитлер»). Палубные билеты – это без койки: можешь спать стоя, сидя, лежа – где попало. С этим аусвайсом ты свободно перемещаешься по всем палубам и надстройкам, с правом захода в бары, рестораны, купания в огромном бассейне на верхнем этаже, а также – в игорный зал на двадцать ломберных столиков, всего, что осталось от роскошного когда-то казино. Но нам и их хватило. Заблудившийся и, как выяснилось позже, заблудший друг Хил вернулся из злачного места со слезами на глазах: за полчаса он умудрился проиграть в дамский преферанс двум лысым мужикам солидную часть нашего неприкосновенного запаса, отдав злоумышленникам тридцать рублей и оставшись два рубля им должным.
– Они шулеры, Вова! – сваливал на объективные обстоятельства свое крайне субъективное поведение растратчик социализированной собственности.
– Хил, если это шулеры, то тебе повезло, но если это порядочные люди, то наши финансы спели реквием, – сказал я твердо, и я знал, что говорю. Дело в том, что, играя на досуге в карты «на интерес», то есть на деньги, и имея от этого некий навар к повышенной стипендии, я являлся одним из немногих читателей затертой до дыр дореволюционной книги «Игрокъ на все руки» с подзаголовком «Пособie противъ карточныхъ шулеровъ».
Про джентльменский преферанс было написано примерно следующее (реликтовые стиль и орфографию опускаю): «Кроме коцания карточек и парной игры, которые легко разоблачаются нашим добрым читателем, используются только две сменки – мизер на десять взяток и десятерная без шести. Как играть этот подвох – далее. Но скажем сразу, что уже при получении на руки этих сдач, вы безо всяких последствий можете бить сдающего подсвечником по голове!»
С учетом этих кабалистических познаний я незамедлительно отправился в обитель разврата в сопровождении Хила и трех рвущихся в бой за правое дело дочерна загорелых еще с колхоза помощников комбайнеров. Отстраненную от крепких мужских забав Любимую мы в ждущем режиме оставили в баковом баре пить коктейль через натуральную соломинку – на пластмассовые в корабельной кассе, видимо, не хватило валюты.
В бывшем казино лысые мужики очень преклонных лет с рифмующимися именами Лёня и Моня ждали возврата долга, попивая давно прописанные им врачами «Ессентуки № 17». Отдав два рубля, Хил потребовал незамедлительного матча-реванша в исполнении своего младшего брата – меня. Мы с жертвой были ровесниками, но после нагрянувших переживаний Хил действительно выглядел перестарком. Жадные до легких денег плешаки тотчас согласились, на свои лысые головы. Когда я сказал «пас» на «мизер на десять взяток», шарообразные удивились, но профессиональная алчность взяла верх, и следом мне сдали «десять без шести».
Я в полном согласии с первоисточником сыграл на этих картах восьмерик на трех козырях, чем поверг понтеров в изумление, переходящее в уныние. Последнее наступило после заготовленной мной тирады:
– А теперь, падлы, верните брату проигрыш и заплатите мне столько же за науку. Возражения не принимаются: три янычара с ятаганами ополовинят ваш коллектив по простому взмаху моей руки. Бекицер, шлимазлы (что означало «быстро, кретины» на родном языке шулеров)! – И показал на томящихся в дверях трех русских богатырей во главе с Бессонычем с художественно исполосованной свежими шрамами грудью.
Не произнеся ни единого слова, Леня и Моня выдали на гора шестьдесят четыре рубля. Не дожидаясь вечера, мы начали праздновать.
Со сходом в Сочах на берег мы провели в путешествии ровно неделю и вернулись к заскучавшей без симпатичных троянцев ахейке. Особенно скучала гречанка о Тишке. И это не удивительно.
Белозубастого и стройного тогда блондина Тишку любили все, а особенно девушки. Для них на редкость словоохотливым красавцем был выработан и всегда к месту применялся особый язык – язык мелких и, казалось бы, непроизвольных ошибок. Тишка называл массандровский портвейн «мансардовским», колоратурное сопрано – «клавиатурным» и зазывал, трагически завывая, опешивших девиц мрачными стихами «Приходи ко мне в могилу – погнием вдвоем!». И радостные девицы шли в очередь на заклание.
На седьмой день нашего паломничества он вошел в келью нашего мужского монастыря, потирая руки:
– Вечером я поведу не всех в музей. Местный, неизвестно какого хрена ведческий. Почему не всех? Потому что владельцы походных самоваров в Тулу не ездят, а в музее после окончания рабочего дня состоится оргия. По формуле «четыре на четыре». Четверо нас, странников перехожих, на четырех совершеннолетних экскурсоводш молочно-половой спелости. И «оргиянизатором» буду я! А вы, парисы-кипарисы, купите или стырьте, что лучше, у вахканки Марулы пару бидончиков огнедышащего древнегреческого зелья. Не приходить же одиссеям к любви покорным илиадам с пустыми руками! Конкретное место для ебивуака я уже выбрал.
Впоследствии я созерцал весь этот «ебивуак» на блеклых черно-белых фотографиях, отснятых нашим походным ФЭДом без экспонометра и проявленных уже на родине. Оргия проходила на стоянке древнего человека! Человеческий рост папье-машевых неандертальцев только подчеркивал естественность происходившего: полуголые до трусов женихи и Пенелопы у тлеющего костра изображали прожорливое обгладывание «костей мамонта», временно позаимствованных у ополоумевших муляжей, и пили под них огненную воду. Ритуальные танцы со всей очевидностью демонстрировали гениальность режиссера-постановщика. На сексуальные сцены внутренней цензурой было наложено табу. И были они, или нет, не имело никакого художественного значения. Тишка заслуженно получил почетное звание «народный артист Неандертальской АССР»! Мы все до сих пор гордимся тем, что он – из нас.








