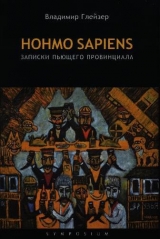
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
ИММАЕВО ПОБОИЩЕ
Доктор Ибрагим Иммаев родился в бедной даргинской семье. Его папу звали Мамма-бабай, и прожил он две жизни. В первой юный бабай служил ротмистром в Дикой дивизии, нарубил шашкой кучу красноармейцев, бесславно проиграл эту нелепую Гражданскую войну и окопался вдали от мест сомнительной боевой славы.
Здесь, в Саратове, по зову предков, кубачинских серебряных дел мастеров, он устроился скромным гравером в службу быта и двадцать лет тщательно скрывал от правосудия свое контрреволюционное прошлое с отягчающими обстоятельствами.
С началом Второй мировой войны началась вторая жизнь тайного кавалериста. Славные органы НКВД – ОГПУ добились столь очевидных успехов в защите СССР от врагов народа, что патриот Российской империи Мамма Иммаев пошел добровольцем в не добитую им когда-то Красную Армию и честно отвоевал рядовым пехотинцем все четыре года. Посчитав, что заодно он отвоевал себе право на продолжение рода, ротмистр-пехотинец в пятьдесят лет женился и нарек своего первенца Ибрагимом, рассчитывая, видимо, восстановить таким образом все Ибрагимово колено.
Младенец рос в строгости, граничившей с аскетизмом: свинину в доме не ели, а бараниной и говядиной, как, впрочем, и свининой, магазины не торговали. От злоупотребления конно-пшенной диетой мальчик по вертикали не шел, но по уму и горизонтали оказался на высоте. Об этом свидетельствует следующее Ибрагимово изречение: «Меня легче перепрыгнуть, чем обойти!».
Овладев по настоянию отца почти кубачинской специальностью зубного техника по золотым коронкам, Ибрагим облысел, вставил себе из сэкономленного материала сверкающие протезы из драгметалла и жил весело и безбедно, сознательно шокируя население среднерусской равнины своей экзотической внешностью.
Но тут его позвала Родина-мать!
Повестка в армию озадачила Ибрагима чисто технически: в кавалерию он пойти не мог – не уродился еще конь, который вынес бы на своем хребте такого батыра, и не вырыт еще был такой окоп, в который поместился бы столь справный пехотинец! Кроме того, на бесшабашное дезертирство, на котором с угрозой членовредительства горским кинжалом настаивал военный пенсионер папа Мамма, достойный сын дважды патриота пойти не мог, так как генетически потомственный ювелир и зубной техник боялся любой, даже условной уголовной ответственности.
Поэтому в кругу близких друзей призывника было решено засунуть последнего в мединститут, ибо от зубного техника до врача один шаг, а от врача до службы в армии – сто километров! Однако на этом безусловно верном пути стояла одна, но существенная преграда. Поступить в местный медицинский вуз без взятки было практически невозможно даже отпрыскам коренной национальности, а документальному басурману Ибрагиму Маммаевичу Иммаеву куда уж там!
Надо сказать, что образовательный уровень нашего абитуриента был на недосягаемой для школьника высоте, о чем знать не ведала экзаменационная комиссия. Но материальное в этом учреждении уже давно было выше духовного. И в ближнем кругу был разработан и принят как руководство к действию тайный план «Стратегия и тактика бесплатного поступления черножопого гражданина СССР Иммаева И. М. в самый блатной вуз. Шифр – «Иммаево побоище»».
Стратегия и тактика состояли в том, что Ибрагим на время вступительных экзаменов перестает бриться и мыться, извлекает изо рта свою вызывающую челюсть и начинает шамкать до полной потери речи. Проделывается все это для того, чтобы не только произвести отвратное впечатление на чистоплюев из экзаменационной комиссии, но и для юридического права давать письменные показания на их устные вопросы. Ни вопросов, ни ответов умственно продвинутый лжегорец Ибрагим не боялся по определению. И побоище удалось на славу!
Конфиденциальные источники из стана врага доносили о воцарившемся там смятении и о рождении в генштабе мздоимцев подлого плана завалить наглого и вонючего горного козла на письменном экзамене по русскому языку и литературе.
Надо сказать, что экзамен этот был специиально придуман для окончательного установления проходного балла. И являлся той самой волшебной палкой, с помощью которой изгонялись злостные неплательщики взяток всех времен и народов.
Специалисты-проверялы не только тщательно подчеркивали и считали орфографические и пунктуационные ошибки, но в случае необходимости не задумываясь переправляли букву «о» письменную на «а» и ставили лишние запятые в середине слитного слова. Но на хитрую мускулис глятеус есть пенис с винтом!
Телеграфную ленту Бодо ни Министерство связи, ни тем более Министерство высшего и специального образования не отменяли. И поэтому стратегами и тактиками было приказано Маммаеву отродью писать сочинение на свободную тему печатными буквами от руки в телеграфном стиле!
Ибрагим выбрал из предложенного подходящий вариант – «Я буду стараться свободно и смело, правдиво и честно Отчизне служить!» (по стихотворениям советских писателей).
Он начал цитатой из «Марша энтузиастов»: КВЧ МЫ РОЖДЕНЫ ЗПТ ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ ВСК КВЧ. И закончил строками Маяковского: КВЧ Я ЗНАЮ ЗПТ ГОРОД БУДЕТ ЗПТ Я ЗНАЮ ЗПТ САДУ ЦВЕСТЬ ЗПТ КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ЕСТЬ ВСК КВЧ
Конфиденциальный источник из стана врага в непотребном состоянии алкогольного психоза ржал, как полковая лошадь из Дикой дивизии, валяясь рядом с праздничным стойлом. И взахлеб с водкой рассказывал нам о том, что происходило в приемной комиссии.
В телеграфном стиле это выглядело так. Срочно вызванные по поводу правописательного криминала представители МВД, КГБ, спецпсихбольницы и прокуратуры ничем не смогли помочь вляпавшемуся в Маммаево семя начальству мединститута, и неплательщик редкой кавказской национальности получил первую в истории неправедных вступительных экзаменов в этот вуз «пятерку»!
На первую лекцию студент Ибрагим явился чисто одетым, чисто вымытым, чисто выбритым, добродушно сияя отполированными золотыми зубами.
Зло не было наказано, но справедливость восторжествовала!
МЕМУАР
Григорий Иванович Коновалов был известным советским писателем. То есть его книги массовыми тиражами издавались для советских читателей ГДР, Болгарии, Румынии, Албании и даже Монгольской и Китайской Народных Республик.
Мужиком он был видным, широким и открытым на нескольких первых страницах своей биографии, где было и происхождение из славных оренбургских казаков, и служба на Северном флоте, и партработа в ЦК ВКП(б), включая многочисленные застолья с великими мира того.
Зятю его, моему не разлей вода дружку Дяде-Ваде, время от времени давалось семейное поручение последить за тестем в те критические дни, когда Григорий Иванович «гулял» или, как бы сказали в наше толерантное время, «расслаблялся». Гулял он не опасно, но шумно, но именно шума и боялись чуткие считатели авторских листов его произведений – члены семьи.
Так что уводил Дядя-Вадя прозаика искусств и поэта жизни из кабаков всегда вовремя, до срывания скатертей и битья окон. По хорошей погоде практиковалась длительная прогулка под пиво до дому, до хаты, а в неважную приходилось использовать перевалочные пункты. В частности, места проживания сокурсников Дяди-Вади, где по неуемности и бедности в ночь уже не оставалось никакого зелья, а поболтать с молодежью числилось в страстях стареющего литератора.
Так Григорий Иванович и попал ко мне домой.
С точки зрения поводилыцика, попал он неудачно, а с точки зрения ведомого медведя – удачно и даже крайне. Потому что, как вы догадались, мы пили, к радости писателя, изъятого из процесса поглощения пойла, водку со товарищем, Левой Циркулем – человеком уникальной природной акустики: когда Лева смеялся, дрожали стекла, и посуда со стола съезжала, как на сеансе телекинеза.
Мы поздоровались, в соответствии с правилами общения великого писателя с простым народом, троекратными поцелуями взасос и богатырскими объятиями и тотчас приступили к трапезе. Слово за слово, но подошло время поучительного мемуара. Все по тем же правилам хождения наверх из самых посконных низов Григорий Иванович (блестяще владевший русским языком как письменно, так и устно!) окал, акал и якал, дуракуя безбожно:
– Ну, Володька да Левка, да и тябе, Вадька, послушать не мяшаит, скажу-ка я вам, как чятал я свой первой рассказ на сяминаре у Бабеля Исака Мануилыча, учителя свово, по навету злодейки убиенного. Ну, взялси я только чятать, открывается дверь, и заходит Паустовскай, Кинстинтин Гиоргич!
Исак Мануилыч мне: «Ну, Хриша, извяни, Кинстинтин Гиоргич пришел. Начни-ка ты чятать заново». Ну, взялси я только чятать, отворяется дверь, и входит Та-алстой, Ляксей Николаич! Исак Мануилыч руками розводит и ховорит: «Ну, Хриша, извяни, Ляксей Николаич пришел, придетси тябе, голуба, снова начать!»
Сидим мы, между прочим, с поднятыми стаканами, Дядя-Вадя уменьшению частоты радуется, а мы с Левой не очень – нам по молодости процесс прерывать было не с руки.
– Ну, взялси я снова чятать, открывается дверь, и входит…
Тут я в манере повествователя как продолжу:
– Та-алстой, Лев Николаич!
А Лева как засмеялся, а окна как задрожали, а посуда как со стола посыпалась, а Дядя-Вадя как остекленел, а Григорий Иванович как вскинулся, да как заорал:
– Да ну тя, Володька, в пязду!
На эти черные слова в одной ночной рубашке из спальни выскочила моя маменька, женщина солидная и интеллигентная, ручки на большой груди сложила, глазки закатила и говорит:
– Ну, от вас-то, Григорий Иванович, я этого не ожидала! А еще советский писатель! Я вас, между прочим, на ночь читала!
А Григорий Иванович, казак, моряк и народный артист разговорного жанра, бух перед маменькой на колени, и как заорет тем же поставленным голосом:
– Про-ости, матушка, про-ости, родненькая! Бес мяня попутал, шо твой Володька шибчей мяня, писателя рускава, сказы сочиняить. В тябя он, матушка, в тябя весь! Зазавидовал яму я черной завистью и изругалси мерзопакостно! Отпусти уж мне, миленькая, грех мой поддай!
Конечно, для маменьки сынка похвалить на ночь надежней снотворной советской прозы. Умиротворилась она преподанным объяснением и спать пошла.
А мы дружно подняли стаканы в честь нами нечятаемого, но почятаемого главного инженера чялавечяских душ.
ЧА-ЧА-ЧА, ЧАЧА!
Сели Дядю-Вадю описывать в терминах конца прошлого века, хватило бы всего двух слов через черточку – секс-символ. А во времена нашей молодости требовалась расшифровка в духе кинофильма «Кавказская пленница»: спортсмен, отличник, комсомолец, красавец, и главное – владелец личного автомобиля, гордости совкового дизайна дожигулевской эры, голубого, как самые распространенные женские рейтузы, «москвича-412». Этот высокоскоростной пердун был свадебным подарком зятю от богатого тестя – живого классика Григория Коновалова в придачу к дочери Тане, спортсменке, отличнице, комсомолке, и, главное, красавице. Отблагодарить щедрого дарителя неторопливый Дядя-Вадя удосужился годам уже к тридцати, народив внучку-любимицу. До того красавцам было не до этого – отличники ковали научное счастье, кончая аспирантуры и защищая диссертации. Рождение наследницы трех ученых и одного писателя (теща тоже была доцентом) чудесным образом совпало с появлением очередной наследницы двух беспоместных инженеров – меня и моей жены.
Собственно, ничего странного в этом совпадении не было. Ровно девять месяцев назад, летом предыдущего года, на голубом пердуне мы достигли берегов ныне почти зарубежного Чудского озера, где в короткие белые ночи кроме совместных питий и объятий и делать-то было нечего.
Добирались мы до мест соития тяжело, прорываясь в недружественную Прибалтику из Восточной Пруссии через Калининградскую область по сильно пересеченной автобанами местности без единого дорожного указателя и инспектора. И хотя последнее обстоятельство позволяло принимать из бездонных походных фляжек легкие алкогольные напитки, не отходя от штурвала, проблема ориентирования на местности без компаса и астролябии напрягала путешественников. Ужас, от которого мы бежали, был нагляден и антипатриотичен: полуразрушенный Кенигсберг и полузастроенный Калининград вкупе оказался настоящим Говнополисом, загаженным безродными новоселами квадратно-гнездовым способом. И даже на сохраненной теоретиками и практиками марксизма в неприкосновенности надгробной плите Иммануила Канта, предтечи бессмертного учения, прямо на надписи лежала огромная куча свежего человеческого дерьма. К месту вспомнился (довольно приблизительно) стишок Н. А. Некрасова:
Прямо в центре Кенигсберга
Очутились мы в стране,
Где не знают Гутенберга
И находят вкус в говне…
Официальная карта автомобильных дорог, донельзя зачищенная цензорами из Министерства обороны, явно опасавшимися реванша и превращения недавно колонизированных земель в поля танковых сражений, еще более путала штурмана и пилота. Так, форсировав в предутренних сумерках, как нам хотелось, Западную Двину, мы оказались на красивом каменном мосту лицом к старому немецкому городу.
– Тильзит! – воскликнул радостно Дядя-Вадя, проходивший в школе «Войну и мир» и, как заядлый отличник, помнивший о месте легендарной встречи на середине реки Неман императора Наполеона Бонапарта с царем Александром Павловичем. – Как он теперь по-нашему, Вова?
– Советск, – перевел я историческое название на калининградский язык.
– Вот-вот, я сейчас вон у того алкаша с авоськой и спрошу, как нам на Литву дернуть, – потирая запотевшие от счастья ладони, возопил антипатриот и побежал к одинокому и беззащитному оборванцу.
Мы с дамами замерли в ожидании показательного сеанса психотерапии. Надо было знать неизбывную силу внутреннего убеждения молодого доцента: он легко мог поверить в любую чепуховину, если хотя бы ненадолго вбил ее в свою голову. Похмельный мужик сказал нервно-возбужденному собеседнику, что это – не Советск, а Черняховск, город, неизвестный нам по обратному переводу с калининградского. Дядя-Вадя начал орать и тыкать в невинного гида распахнутым атласом дорог: какой на хер Черняховск, Советск это, твою мать. Под бешеным напором похмелюга начал тихо сдавать позиции, а мы с наблюдательными дамами зашлись в истерическом хохоте: докладчик стоял спиной к чудному средневековому строению, на котором большими цементными буквами было изваяно: «ЧЕРНЯХОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»!
В Литву мы попали тем же днем, но позже, передвигаясь по солнцу вдоль по речонке, которая действительно оказалась нужной Двиной с когда-то пограничным городом Советском-Тильзитом.
Так что не только к моменту зачатия, но и к моменту рождения у нас с разнояйцовым отцом-близнецом был некий положительный опыт длительных автомобильных путешествий.
Был месяц май, солнышко уже вовсю светило даже в наших средних широтах. Жены увлеченно, в четыре сиськи без разбору, выкармливали новорожденных. Мы в этом процессе, естественно, не участвовали и думали о других процессах, столь же естественных.
– Давай махнем дней на десять на юга, бабы заняты, им не до нас, а такой возможности отвалить и расслабиться у нас, может, никогда и не будет. Погода-то какая! – вбивал себе и мне в голову Дядя-Вадя.
Не соглашаться было бессмысленно – «баб» Дядя-Вадя уже уломал, позвонил в Пицунду своей знакомой администраторше санатория ЦК КПСС (Дядя-Вадя когда-то отдыхал в нем семейно по блатной путевке Союза писателей), получил ответ, что мест, конечно, нет, но приезжайте, что-нибудь придумаем. Мы оседлали конька-пердунка и налегке помчались в поисках приключений. И мы их получили.
Мест в пансионате действительно не было – он весь был отдан Минсельхозу для восстановления здоровья тружеников полей, коровников и свинарников, имеющих правительственные награды не меньше, чем «Мать-героиня». Аграрии без продыху пили, не выходя из небоскреба, и окружающая местность казалась безлюдным черным паром. Обещанным апартаментом служила сводчатая беленая келья о двух железных койках в старинном монастыре, видимо, не православном, так как в храме работал орган, ежевечерне развлекая немногочисленных диких отдыхающих гастролями видных советско-грузинских мастеров этого редкого по громкости жанра. Орган располагался точно за стеной нашего застенка. Церковь была преобразована в административно-служебную часть пансионата и находилась от него в паре километров. Войти и выйти из кельи полагалось только по предъявлении спецудостоверения. Но войти-то еще было можно, а выйти точно нельзя – в Пицунде свирепствовал сезон дождей. И каких – ливнево-грозовых и не прекращающихся ни на час! (Замечу в скобках, что об этом наперед знали обе брошенные мамаши, заранее радуясь заслуженной каре, ниспосланной свыше на двух обнаглевших блудливых козлов!)
Трое суток под музыку Иоганна Себастьяна Баха (гастролеры еще и усиленно репетировали целыми днями) мы питались саратовской тушенкой с сухарями, а на четвертый не выдержали и на волшебном голубом коньке через служебный въезд по кельинским удостоверениям припарковались к небоскребу «Пицунда». После чего, почти сухими, поднялись на скоростном лифте в бар-ресторан «Двенадцатый этаж», где, заказав наконец-то горячее, приступили к горячительному.
Кабак был переполнен немытыми и нестрижеными аграриями и аграрками, все в мужских пиджаках с иконостасами, с казачьими песнями и половецкими плясками одновременно.
Стайка местных носатых коршунов вилась над соседним столиком, настойчиво вызывая на танец миниатюрную белокурую бестию по имени Алевтина. Бестию можно было смело назвать красавицей не только в сравнении с подвыпившими аграрками, но и с сидящей с ней за одним столом золотозубой подругой в перманенте, которую коршуны явно игнорировали. Третьим с ними был очень скромно одетый абориген, который сразу представился нам как учитель местной школы грузин Георгий. Он пояснил, что в целях законного дополнительного обогащения сдает комнату приезжим отдыхающим, которых по договору ему поставляет местное турбюро. Девицы – его постоялицы – завтра уезжают домой, в город химиков Дзержинск Горьковской области, где обе работают воспитательницами в детсаде. Эти милые дамы попросили хозяина сопроводить их в ресторан за счет приглашающих, причем непременно в этот, чтобы правдиво рассказать мамашам многочисленных воспитанников, как они отдыхали в пансионате самого ЦК КПСС.
На наших глазах красотка выдула бутылку шампанского под шоколадку и, не обращая внимания на увещевания грузина, вступила в перепалку с пристававшими к ней молодыми абхазцами. Кульминацией была следующая реприза смелой дзержинки:
– Пошли на хрен, я даже группового изнасилования не боюсь!
Окрыленные вдруг открывшимися смягчающими обстоятельствами задуманного преступления коршуны срочно удалились на совещание в туалет, а учитель Георгий бросился перед нами на колени, умоляя о спасении по линии дачи неминуемых свидетельских показаний:
– Бежим отсюда, девушка совсем пьяная, скандал будет! Помогите, ради Бога!
Благородно пойдя навстречу, мы сунули под вазочку пропитые деньги и, взяв под мышку Златозубку и в охапку Белоголовку, кинулись вслед учителю к лифту. Спустившись на первый этаж и предусмотрительно сунув банкетку из вестибюля между дверями лифта, для его, хотя бы и временной, блокировки, мы впятером выбежали под дождь. Учитель под сенью дерев пролагал путь, Дядя-Вадя тащил за руку Златозубку, а я чуток подотстал – дополнительных сорок кило хоть и небольшой, но вес!
Вдруг бестия, всю дистанцию отчаянно дрыгавшая ногами и руками в моей охапке, обмякла:
– Дяденька, я хочу сикать, подержи меня, дяденька дорогой, а то я в лужу сяду в новом платье!
Отказать всклинь налитой шампанским малютке я не смог. Алевтина задрала узкое по тогдашней моде платье до пояса, трусов, слава Богу, на ней не было, я со спины взял ее под ноги, присел на корточки и как малого дитятю стал псыкать. Шампанское лилось рекою по безлюдной набережной, я беззаботно следил за опасно длящимся процессом сверху вниз, а не снизу ввысь. А наверху, с лоджии четвертого этажа, за нами внимательно наблюдала женская половина делегации Курской области.
– Куряне! Черный прям на парапете нашу девку, как козу, дрючит! Охолоните гада, мужики!
Будучи брюнетом и уловив возросшую долю ответственности по линии дружбы народов, я побежал к уже заведенной машине с голожопой Алевтиной наперевес и бухнул ее, уже сладко спящую, на заднее сиденье на колени грузину. Георгий был учителем русского языка, а не анатомии, и, потеряв сознание и половину дара речи от воочию увиденного срама, до самого своего дома верещал только на грузинском, жестами изредка показывая, куда ехать.
В половине шестого утра нас вызвали на проходную храма. Трясущийся Георгий восстановленным за ночь русским языком запричитал:
– Ребята, бараны вас вычислили, кричат – дэвушку умыкнули, рэзать будем! Уезжайте побыстрее, я их знаю – это мои выпускники, у всех одни тройки, дураки законченные.
За час мы собрались, расплатились и тронулись в дорогу по намеченному еще в первый день маршруту – к отцу Дяди-Вадиной администраторши в горный чайно-мандариновый аул без названия, в котором все знают Бахуса Сулеймановича и его жену Валентину Ивановну. Непрекращающийся дождь смывал все следы.
К обеду то ли мы поднялись выше туч, то ли Господь милостивый оценил наше пицундское благородство, но дождь кончился, и засияло солнышко. В аул мы въехали сухими из воды. Уважаемый аксакал Бахус Сулейманович оказался жилистым пенсионером лет пятидесяти, нигде по этой причине не работающим и лет тридцать бывшим законным супругом исконно воронежской крестьянки Вали, заслуженного чаевода Абхазии и Героя Социалистического Труда. Родина повсеместно чтила своих Героев и награждала их в безымянных аулах неучтенными мандариновыми плантациями. Поэтому добротный двухэтажный дом сторожа собственной цитрусовой рощи был полной чашей, в чем мы незамедлительно убедились.
После протокольных приветствий и воспоминаний (Дядя-Вадя, оказывается, здесь уже бывал с красавицей-супругой) нас пригласили за пятиметровый стол, накрытый на свежем воздухе с невиданным для меня размахом: на белоснежной скатерти было все – от овощей и фруктов до рыбы и мяса. Для сторублевого инженера из вечно голодающего Поволжья эта невидаль казалась скатертью-самобранкой!
Выпивка была двух сортов – домашнее красное виноградное вино и домашнее белое виноградное вино в неограниченном количестве. Оба напитка имели названия: первая разновидность была просто «вином», а вторую нежно величали «чачей». Опытный в межнациональных отношениях Дядя-Вадя выбрал первую, а я, старый водочник и дурак, вторую. Трапеза продолжалась неопределенное время, так как я абсолютно не помню, как и когда она закончилась, – чачу нельзя пить как водку, а возможно, просто нельзя пить. По крайней мере, мне.
Проснулся я по Алевтининой причине – ну просто невмочь! Но, открыв глаза, ничего не увидел. Я попробовал пальцами раздвинуть их шире, но кардинальных изменений не последовало. Как говорят китайцы, оказался черной кошкой в черной комнате.
– Дяденька-Ваденька, – заскулил я, – где это мы?
Ответа не последовало. Я встал с кровати (если это была кровать?) и, сделав несколько шагов, уперся в стену. Как выходить из лабиринта, я знал по занимательным книжкам Перельмана: следует, не отрываясь от стенки, двигаться в одну сторону. Первым нашлось закрытое окно, в котором была все та же беспросветная темень. Вторым тоже оказалось окно. Силы были на исходе, комнат, в которых было больше двух окон, я сроду не видал, и уже со спущенными штанами нащупал ожидаемый дверной проем. Но, ужас, это опять было окно! Со слезами на глазах я распахнул его, и мощная струя через пять минут вернула меня к жизни. Обессиленный организм требовал немедленно вернуться ко сну, я повалился на пол и провалился в тартарары.
Пробуждение наступило не сразу, а после непродолжительного катания моего тела по полу ногами Дяди-Вади с поливанием головы из кувшина. Я лежал под третьим окном огромной четырех(!)оконной комнаты и первое, что понял: до двери при движении по стенке было еще метров сорок.
– Живут же люди, – виновато ответил я на длинную матерную тираду о вреде алкоголизма из уст умытого и побритого Дяди-Вади.
– Иди по лестнице вниз и сразу направо в машину. Мы уезжаем, – зло произнес катала-поливала.
– Почему, а завтрак? – взмолился я.
– Останешься без завтрака, сволочь. Ты наказан! – поставленным голосом бывшего пионервожатого пролаял гражданин начальник. – Быстро!
Качаясь полевой былинкой из стороны в сторону, я с трудом выполнил приказ, и уже через минуту мы мчались по горной тропе. В машине Дядя-Вадя молча протянул мне на заднее сиденье бутылку воды, я жадно ее выпил и тотчас снова провалился в тяжелый пьяный сон.
Проснулся я уже вечером и на равнине. Все еще злой пердуновод выдал мне кружку кефира с булкой и кратко изложил валунам на обочине состав моего преступления. В лицо мне он не смотрел, ему оно было противно. Опуская ненормативную лексику обвинительного заключения, суть содеянного была такова.
Застолье удалось на славу: десяток аксакалов, видя такого мастера выпивки, как я, видимо, впервые, при хвастливом трепе с моей стороны о том, что я, пока не отстреляю двух кувшинов такой замечательной чачи, не уйду с поля боя, причем сам, начали заключать меж собой пари, что самогон свалит меня и половиной кувшина, ну, кувшином, ну, полутора кувшинами, но никак не двумя.
Дядя-Вадя якобы уговаривал прекратить состязание, оберегая мое здоровье, но аксакалы спорили не просто так, а на мешки мандаринов, и вошли в раж. Соревнование я выиграл, уже не ворочая языком, но нокаутом, и если бы не ночной пассаж в окно, то мы бы обеспечили дефицитными витаминами не только своих новорожденных, но и всех их одногодок в городе Саратове. Победителя торжественно отправили в четырехоконную хозяйскую почивальню, проигравшие старики из вежливости продолжили на пару часов застолье, восхваляя такого невиданного героя, и разошлись с довольным цоканьем.
А хозяева постелили себе постель во дворе и легли спать точно под тем окном, откуда я вел прицельный огонь из водомета. Горная абхазская ночь всегда славилась своей темнотой, и Герой Труда Валентина Ивановна никак не могла убедить сильно принявшего участие в состязании Бахуса Сулеймановича, что на них льет не дождь, а что-то иное. Что и рассекретила на ушко старому другу Дяде-Ваде поутру. Его решение возникшей проблемы нам с вами уже известно.
Простил меня дружок мой сердешный только через три дня, после того как я спас жизнь его любимой таратайки. С ходу осилив Рикотский перевал, мы спустились по Военно-Грузинской дороге в долину воспетой многими поэтами реки Терек, где и остановились на ночевку. Воспевать этот ручей, каким мы его увидели, по силам только фантастическому таланту, – мы встали у самого берега: до другого берега был метр в самом широком месте. Разогрев тушенку и выпив чаю (Дядя-Вадя мстил мне трезвым образом жизни), мы разложили сиденья, влезли в спальные мешки, накинули на спину семидесятисильного конька брезент от слепящих утренних лучей солнца и завалились спать.
Когда я трезв, то, в отличие от Дяди-Вади, сплю очень чутко, и меня разбудил некий странный, дотоле неизвестный мне шум. Я открыл оконце, отодвинул тряпку и увидел…
Что я увидел! Раскидывая во все стороны камни, ручей заполнял бурный горный поток. Пологий «бережок» был руслом этой дикой реки, и наша машина уже на полколеса была в воде!
В секунду я разбудил Дядю-Вадю, сорвал с него спальник и усадил с еще полузакрытыми глазами за руль. Сам же отважно нырнул в бурлящую воду для толкания нашей амфибии сзади. Рев мотора слился с ревом водителя, и эти сто сорок лошадиных сил плюс одна нечеловеческая, моя, вынесли нас на сухое еще место, где я вспрыгнул на ходу в машину, и мы на неподнятых сиденьях умчались от неминуемой гибели.
Я был вдвойне доволен: спас от безотцовщины нежных малюток и был навеки прощен своим суровым другом за неумение пить чачу.








