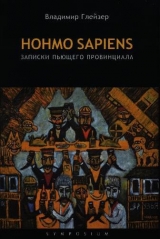
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ, ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
В пору моей молодости ходил в университете такой дискриминационный анекдот: «В мясном отделе гастронома на прилавке лежат мозги двух сортов: математика по три рубля и историка по тридцать три рубля кило. С виду – одинаковые. Покупатель интересуется, почему такая разница. Продавец поясняет, сколько голов историков надо забить, чтобы этот килограмм наковырять».
Почему на этом прилавке не было мозгов политехников, я понял только тогда, когда начал с ними работать.
Мой старший товарищ по пьянкам и гулянкам, сам профессор и сын профессора Алик Кац (не путать с другими носителями этой самой распространенной после Иванова-Петрова-Сидорова фамилии в г. Саратове) по итогам добытой мною в боях ученой степени пригласил молодого кандидата наук доцентом на свою кафедру в Политехнический институт.
Предложение было заманчивым по двум причинам: значительное повышение в зарплате – раз и еще более значительное ее повышение на сказочных условиях – два. Кац чужими, то бишь государственными деньгами платит мне столько и еще полстолька за научную работу, в которой я не буду принимать никакого участия!
Принципиальный отказ от университетского правила работать головой на оборону за гроши вовсе не был проявлением моего пацифизма или тайного служения мировой закулисе, а следовал из полного и окончательного разочарования в надобности этого занятия.
В последнем я убедился на примере тягомотной попытки по молодости и горячности использовать на практике результаты своих исследований. Которые, по самым скромным подсчетам, экономили родине миллионы, но не давали ни рубля заинтересованным не в этом чиновникам оборонных министерств. Вот почему на самом деле я и согласился уйти из университета.
После достижения принципиальной договоренности с работодателем я высказал сомнение в самой возможности моего прохождения в должность: как ректор Политеха, небезосновательно подозреваемый в жидоморстве, согласится еще на одного еврея на кафедре Альберта Каца?
Не по дипломам наивный баловень судьбы, которого взяли из секретного оборонного НИИ в Политех только из-за катастрофической нехватки в этой богадельне докторов наук, и не по какой другой причине, в горячке заорал:
– Спорим на бутылку, что нашему ректору нужны кадры, а не чистота расы, сионист пархатый! Пиши заявление, заполни листок учета кадров, и я лично к нему пойду!
Так и сделали. После визита Кац явился ко мне взъерошенный, как мокрая кошка, – ему отказали по прочтении учетного листка. Однако несостоявшийся антирасист за так сдаваться не хотел:
– Понимаешь, в чем дело? Я же беру тебя доцентом по кафедре высшей математики, а твое базовое образование – физика! А ты все свое – еврей, еврей! Прошли эти времена!
Тут взорвался уже я:
– Спорим пять к одному, что я еврей, а ты – осел! Ну, ладно-ладно, не осел, а карась-интернационалист. Доказываю. Я срочно переписываю учетный листок, оставляя все как было, меняя только «еврей» на «русский». Ты же через неделю идешь к своему русопяту, как будто вышел на новенького!
И снова Кац явился с визита как мокрая кошка:
– Ты выиграл пари. Этот славянофил посмотрел на анкету и сказал: «Вот это другое дело – нам, в политехническом, не нужны задроченные математики, эту науку в силу нашей специфики должен читать именно неяйцеголовый ученый-патриот!» Но как ты изменишь пятую графу в куче документов, если он бьет не по роже, а по паспорту?
– Это не твоя забота, – гордо сказал я. И я знал, что говорю!
Через три дня мой родственник, художник-халтурщик Самара, используя только ему известные ядохимикаты и колонковую кисточку с двумя волосками, сделал из меня документально чистого русского парня, и я был принят в политехнический!
Так с меня была смыта врожденная соломонова печать иудаизма, и я почти два десятилетия работал в арийском тылу, читая с эстрады вопиющий в пустыне наук курс политехнической высшей математики.
Отличие этой математики от математики вообще заключается в том, что в политехнических вузах фундаментальных наук не изучают, а до мозолей на заднице зубрят справочники, созданные всем предыдущим человечеством. Местная поговорка «Сдал сопромат – женись!» абсолютно жизненна: сопромат – это самый толстый справочник в мире после Британской энциклопедии!
С неожиданным изобретением в 1943 году компьютера в пику привычной логарифмической линейке надобность во всех многоумных технических справочниках постепенно, но верно отпала – консоли и шпиндели рассчитываются с той поры простым нажатием кнопки, что, безусловно, должно было привести к естественному отмиранию политехнических атавизмов. Но только не в нашей стране мира, счастья и непроизводительного труда. На радость армады патриотических толкователей справочников.
На кафедре физики и математики работали, естественно, выпускники университетов, хотя осетрина была и не первой свежести. Другие кафедры, а с ними и факультеты, почему-то носили названия из трех букв – ТМС, ПГС, МПС, ГТС и т. д. и т. п. Дешифровать эти аббревиатурные абракадабры не брался тогда и не берусь сейчас. (Между прочим, название популярной телепередачи КВН родом из политехнического института!)
Звоню коллеге по внутреннему телефону, в ответ:
– Заведующий кафедрой Козлов слушает!
– Это кафедра КПК?
– Нет, МХП. А что это за кафедра КПК?
– Кафедра политехнических козлов, как я понял из вашего четкого ответа.
Деканом нашего факультета ТХВ была пожилая красивая тетка, конечно, профессор и доктор каких-то трехбуквенных наук. Она, подобно американцу Гудийру, который тридцать лет подмешивал в каучук всякую пакость, пока случайно не насыпал в него серу и не стал знаменитым изобретателем вулканизированной резины, что-то подливала в полимеры, каждый раз получая новый (а какой же еще?) материал. Это были постоянные научные достижения, которые публиковались в соответствующем трехбуквенном журнале. Вы не поверите, но у тетки было до ста «научных» публикаций в год! За это тетку уважали и ценили коллеги. Ведь на кафедрах, где навинчивали гайки на болты, такого интеллектуального раздолья не было!
Абитуриенты в богадельню набивались с самых дальних окраин тогда еще необъятной родины. По-русски они не только не писали, но и не говорили. На математике, как раз наоборот, четко читали именно по-русски. Например, «икс» и «игрек» называли «хе» и «у», а над «зет» надолго задумывались.
Засилье некоренных национальностей было на нечистую руку членам приемной комиссии, так как только эти – с трудом поступавшие – могли быть источниками наличных личных поступлений в застойно недоборном вузе. В отместку басурманы регулярно срывали текущие занятия пятиразовым намазом, и перед этим атавизмом и партия, и комсомол были бессильны.
Кац собрал преподавателей и конфиденциально сообщил им о тайном решении парткома и ректората, по которому всем-всем-всем следует заняться активной агитацией местных школьников-десятиклассников подавать заявления в наш замечательный институт. Кто будет увиливать, тот будет строго наказан летней ссылкой в руководители студотрядов.
Во избежание неминуемого возмездия я на следующий же день зашел в незаметную школу № 38 по соседству с моим домом. Завуч долго возражала, но я подарил ей одеколон и был допущен в выпускной класс. Моя пламенная речь закончилась поголовным согласием покорных детишек учиться только в нашем институте. С двадцатью пятью лично подписанными заявлениями я вышел в лидеры агитпропа и стал живым примером четкого и беспрекословного выполнения поручений парткома и ректората.
Однако в окончательном списке абитуриентов не оказалось ни одного выпускника школы № 38! Кац вызвал меня на разборку. Я клятвенно подтвердил, что все заявления подлинные и попросил к барьеру ответственного секретаря приемной комиссии, благо тоже сотрудника нашей кафедры. На вопрос, в чем же дело, ответственный секретарь честно ответил, что все двадцать пять выпускников приходили вместе с родителями, но в приеме документов им было отказано, так как школа № 38 вовсе не средняя, а десятилетка для умственно отсталых детей.
Кац, как всегда, начал было тихо орать, но быстро успокоился и сказал глубокомысленную гадость:
– А ведь мы не знаем, не такие ли школы в дальних аулах и кишлаках ежегодно транспортируют нам учебный контингент?
Отставной полковник, секретарь парторганизации и наш доцент вдовый дядя Федя Лощинин нашел свое второе счастье не где-нибудь на средне-волжской равнине, а в горной кавказской стране Сванетия. Многонациональный состав учащихся стал сильно укрепляться лучшими представителями малочисленного, но гордого народа. Под лозунгом «Агропролетарии всех сван, соединяйтесь с дядей Федей!» абреки и кунаки стали бодро скупать зачеты и экзамены, которыми не торговал только я, и из принципиальных соображений – за все годы служения политехническим идолам я не поставил ни одного «неуда»!
Поэтому все каникулы у меня начинались на месяц раньше других преподавателей, нещадно и неоднократно все лето обрывавших «хвосты» у ими же затравленных безнадежных двоечников.
Дядя Федя был тоже принципиалом и не мог позволить нарушения неумолимого закона гор: если он платит калым за «племянников», то исключений быть не может!
– Вениаминыч, – сказал мне в углу белый вождь темнокожих, – по четыреста рублей за Анзора и Гиви тебя устроит?
– Конечно, дядя Федя, только надо оформить этот платеж документально.
– Ты что, умом тронулся, ведь это же взятка!
– Правильно, дядя Федя, а я взяток не беру. Поэтому оплати денежный взнос в сумме восьмисот рублей в местное отделение Фонда мира, принеси мне квитанцию, и Гиви с Анзором сделают еще один шаг по извилистой горной тропе высшего образования.
Три дня секретарь партии мучился сомнениями, а на четвертый дунул, плюнул, заплатил и представил мне квитанцию. Так с моей помощью дело мира во всем мире снова сильно восторжествовало.
Расовое отличие дядифединой родни от местного населения привело к неожиданному этнографическому парадоксу.
В местной, а потом и в центральной прессе появились сенсационные сообщения о снежном человеке в городе Энгельсе (именно в этом пригороде Саратова и находился наш факультет).
Многочисленные свидетели описывали появление в зимних предутренних сумерках бегущего вприпрыжку огромного, голого, поросшего шерстью йети. Я громко смеялся, так как лично знал этого снежного человека! Им был хевсур Буба Абвгдзе, двухметровое чудовище с пятого курса. Как обычно, муж вернулся из командировки, и Буба традиционно выпрыгнул в окно в одном презервативе. Воля к жизни и густой волосяной покров на теле позволяли чудовищу выдержать любой мороз, но ноги, точнее ступни, единственное место, не покрытое шерстью, продиктовали ту смесь рыси и галопа, которой Буба и смутил суеверных аборигенов, когда вилял переулками по сугробам на пути в родное и холодное, как высокогорная Сванетия, студенческое общежитие.
Как в любой казарме, раз и навсегда утвержденные правила неукоснительно соблюдались в Политехническом. Когда пришло время избирать меня доцентом на ученом совете, мне было предложено подписать характеристику «треугольником» – администрацией, профкомом и парткомом.
Взяткодатель дядя Федя честно в углу предупредил меня о том, что есть «мнение» – характеристику мою не подписывать в связи с занятой мною позицией не отличаться от коллектива только в совместных пьянках. Поэтому я заготовил правообразующий документ за подписью не «треугольника», а «отрезка», вычеркнув автограф партии, в которой я никогда не состоял и устава ее гарнизонной службы не придерживался.
Поднялся тихий шум – очевидно здравый поступок оказался для боязливых политехников беспрецедентным. Кац велел мне не выебываться, а выпутываться. Что я и сделал. Собрав папочку необходимых документов и будучи проездом в г. Москве, я записался на прием к академику Виноградову, известному математику, дважды Герою Соцтруда и одновременно начальнику математического ведомства в ВАКе – высшей аттестационной комиссии при Совмине СССР. Известен мне он был лишь по легенде, по которой якобы поставил на заявлении «прошу принять меня в аспЕрантуру» резолюцию – «в п Езду!».
А коли так – свой в доску!
После краткой шутовской беседы с образованными и смешливыми референтами я вне очереди предстал перед светилом.
Чисто математическая идея конформного отображения треугольника в отрезок привела академика в телячий восторг, и он на бланке ВАКа написал мне свой домашний телефон, подписавшись под ним крючком с расшифровкой, с настоятельной просьбой позвонить ему по окончании сей комедии. С этой бумажкой я и появился у завороженного парадоксами начертательной геометрии профессора Каца.
– Теперь действуй, Алик! Главный инквизитор Московии отпускает твои грехи! – сказал я торжественно и утомленно.
– Как ты попал к корифею? – поразился воспрянувший духом Кац.
Я нежно шепнул ему на ухо, что светило – мой родной дядя по двоюродному брату матери и чтобы он в это никого не посвящал. Альберт не послушал меня и на первой же встрече с политректором поведал ему чужую семейную тайну. На ближайшем ученом совете доцентом кафедры высшей математики, несмотря на пресловутый отрезок, я был избран пожизненно и единогласно.
Вообще-то, единогласие в этом заведении было напрямую связано с единоначалием. Этот самый ректор (конечно же, доктор трехбуквенных наук) был бессменным градоначальником города-героя Глупова-16, и население его страшилось, а значит, уважало.
Когда, вернувшись еще не реабилитированным из мест предварительного заключения, где проторчал изгнанником два долгих месяца (не года!), я в день счастливого освобождения на доследование из-под стражи в зале суда похудевшим и наголо стриженным криминальным доцентом явился на свою лекцию согласно расписанию, коллеги забаррикадировались дипломами и зачетками в праведном шоке. С нар – на пару! Без ректорского благословения? Ату его, каина, ату!
Друг Алик с поля боя тактично и стратегично бежал и позвонил мне вечером домой по телефону:
– Володька, я рад тебя видеть на свободе!
– Видеть или слышать, гражданин начальник?
– Не придирайся к словам, а лучше скажи, что мне делать? Ректор в гневе!
– Ну, он в гневе, а ты – в говне? Так, что ли?
– А где же еще? Он строго-настрого сказал, чтобы и духа твоего в институте не было! Хотя ты знаешь, что никаких законных оснований для твоего увольнения нет.
– И для твоего тоже. Так что не тужи и не тужься, и тогда нам будет хорошо вместе. И по отдельности.
На следующее утро перед лекцией меня зажал в любимом исповедальном углу политрук дядя Федя:
– Вениаминыч, дружище, надо что-то делать. Положение аховое, народ в напряжении, партком должен отреагировать.
– На что, Петрович?
– Как на что? Ты же из тюрьмы явился, а дыма без огня не бывает. Может, ты временно отпущен под подписку?
– Дядя Федя, да у нас полстраны коммунизм до тюрьмы, в тюрьме и после тюрьмы с энтузиазмом строит! Как в песне-то поется – сегодня я, а завтра ты! Чего тебе от меня надо?
– Не хочешь по-хорошему, тогда в устной форме передаю вам официальный вызов в партийный комитет на разбор вашего персонального дела!
– Петрович, да я же не коммунист, что мне у вас на ячейке делать, я даже устава не читал, чтобы не признавать. Вы что, меня в большевики принять хотите? Для укрепления их уголовных рядов?
– Не оскорбляй партию в лице ее члена, кат!
– Федя, знай, что для партии ты – член, а для меня ты – хуй! И никому об этой занимательной анатомии не рассказывай, а то засмеют.
Чтобы не быть вторичным посмешищем, я, не отходя от кассы, тотчас заключил в преподавательской пари с шестью коллегами о том, что партай-полковник не вынесет на плечах груза военной тайны, а наш мальчиш-кибальчиш примет меры. Через десять минут в зал ожидания ворвался пионер Алька:
– Тебе что, уголовщины мало, на политику нарываешься?
– В чем дело, Альберт Маркович?
– В чем дело? Ты зачем Петровича хуем партии обозвал?
Взрыв хохота снял высокое напряжение. Трех честно заработанных литров хватило на проведение тематического банкета по картине народного художника СССР Б. Иогансона «Допрос коммуниста». Беспартийный, но охочий Кац, как всегда, принял в обсуждении соцреалистического шедевра достойное личное (бутылка коньяка с лимоном) участие. Дядя Федя в одиночку тихо напился в обезлюдевшем парткоме.
Уволили меня по сокращению штатов, а через полгода по суду восстановили с выплатой всех денег за незаконное отстранение от труда. Хотя от него я не отстранялся: наверное зная конечный результат и ожидаемые денежные поступления, быстро построил на берегу Волги чудесную дачу с баней. Где за безудержным пьянством со злостными единомышленниками и дождался неминуемой реабилитации за отсутствием состава преступления.
За это время двусмысленная кафедра Каца естественным образом разделилась, и мой курс лекций попал на отпочковавшуюся с другим названием – кафедра высшей математики. А восстановили-то меня на прежнее место – к другу Альберту, на кафедру физики!
Я потребовал неукоснительного выполнения решения суда – читать высшую математику на кафедре физики, что являлось, конечно же, театром абсурда, а не судебной ошибкой. Но наша страна была именно этим театром, а мы были в нем актерами. Я отменно отпарился от жизненных невзгод и впечатлений и просто не мог отказаться от с неба упавшего развлечения.
Два месяца я, не работая, получал зарплату, отправляя ежедневно на адрес института отпечатанный на ксероксе в ста экземплярах жалостливый текст: «Прошу привести в исполнение приговор народного суда о чтении мной лекций по высшей математике на кафедре физики. Доцент Глейзер».
Наконец дело сдвинулось с мертвой точки, и мне домой звонит сама секретарша ректора.
– Товарищ Глейзер, ректор Политехнического института может принять вас по личному делу!
– По чьему личному делу?
– По вашему, о восстановлении в прежней должности.
– А я на нее и не рвусь, мне и так хорошо – солдат спит, а служба идет. Вы передайте, пожалуйста, товарищу ректору, что мое личное дело уже давно стало его наличным и что принимаю я в любое время. Все и вся подряд. Я вам писал. Чего же боле? Теперь ваша очередь – пишите и обрящете!
И я получил письмо за подписью ректора: «Передать, в соответствии с решением народного суда, курс лекций по высшей математике, читаемый доцентом Глейзером В. В., с кафедры высшей математики на кафедру технической физики. Доценту Глейзеру В. В. незамедлительно приступить к выполнению своих текущих трудовых обязанностей».
Не верите, а я еще десять лет все это проделывал, в чем-то оправдывая мое почетное двойное звание кандидата физико-математических наук! Пока не уволился по собственному желанию стать бизнесменом.
Но что я все время о себе, любимом! За народ надо радеть-скорбеть: о потомках, бродящих в потемках. Об отцах и детях, и кто за кого в ответе. Все-таки удивительно, что интеллигентные папы и мамы, направляющие своих отпрысков в политех, не интересуются: а что же это такое? Хотя простой перевод на русский язык самого названия говорит все: «много навыков (приемов)»! И больше ничего. Наука не предполагается!
Поэтому трехбуквенные ученые степени в этой конторе изначально веселы – доктор строительных навыков или кандидат токарных приемов. А в нашей стране лучше лома нет приема! Вот и ломятся народные умельцы по простоте душевной в академики навык-наук.
Так, небеспричинно, в будние дни наш Политехнический напоминал разворошенный муравейник: профессора, доценты, ассистенты, лаборанты и вахтеры в руках, карманах и багажниках тащили с кафедр все, что не было монументально отлито в металле или бетоне. Как один, обладатели золотых рук, они изобретательно ваяли из унесенного с ветром утиля разнообразные предметы домашнего и садово-огородного уюта. Поэтому фундаменты их дачных домиков чем-то напоминали электромоторы, а столы, стулья, окна и двери – контуры лабораторных верстаков. В этой кулибинской ползуновщине был и позитивный элемент: в институте естественным образом поддерживалась убогая монастырская чистота, радующая зоркий глаз министерских комиссий и делегаций дружественных политехнических заведений.
А вот и конец анекдота: «Покупатель спрашивает: «А из политехников у вас ничего нет?» А вежливый продавец отвечает: «А это добро – напротив, в магазине «Хозтовары», отдел «Умелые руки». Недорого».
Гаудеамус игитур!
И СНИТСЯ МНЕ ТРАВА АЭРОДРОМА
Рядовая командировка в подшефный плодово-овощной совхоз «Новый» в качестве командира отряда первокурсников – бывших абитуриентов кончилась для меня очень хорошо: юные студиозы меня полюбили, а руководство возненавидело. Да так, что в знак презрения больше никогда уже на летние сельхоззаготовки не посылало.
Поместили меня с остальными отцами-командирами в трехэтажную хрущевку, специально выстроенную для этих прикладных целей, а ребятишек – в пока еще не достроенные бараки. Все вместе называлось «Лагерь труда и отдыха «Ровесник»». Утром кормили, везли в автобусах на поля, а вечером привозили. Это был труд.
С отдыхом было не так просто. После двух часов езды туда-обратно и восьми часов болтания под раскаленным солнцем отдых для большинства недавних домашних детей заключался в мертвецком сне до следующего «рабочего дня». Почему в кавычках? А потому, что работой то, что предлагалось, называть можно только в победных отчетах. Село, если и отличалось в чем-то от города, то лишь бескрайними просторами для всеобщего ничегонеделания.
С собой я захватил в качестве постельной книги «Кодекс законов о труде», предполагая заранее череду конфликтов как с аборигенами, так и с пославшими мя политехническими грамотеями. В первую же ночь любви к законам о труде я прочитал, что лица, не достигшие восемнадцати лет, являются несовершеннолетними и должны работать не восемь часов, а четыре – за зарплату совершеннолетних за восемь часов.
Утром я отделил от несовершеннолетних абитуриентов переростков – бывших второгодников и солдат запаса, которых передал по предварительному сговору коллеге Гильману, отцу-командиру второкурсников. После чего заявился с заложенными страницами к местному начальнику совхозного отделения. Он безотлагательно меня принял. За идиота. И в простых и доступных выражениях отправил восвояси. На прощание я предупредил, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра малолетки на работу не выйдут. А на четвертый день отдыха в лагере беззаконного труда «Ровесник» распрощаются с рабским филиалом политехнической альмы матери. Всю ответственность я благородно взял на себя, зная, что кодекс труда чудесным и неожиданным образом открывает мне путь к кодексу чести.
Назавтра, пронаблюдав веселый детский визг забастовщиков на лужайке перед совхозной конторой и принародно изругавшись матом, малый начальник, фамилию которого я не только не помню, но и не знал никогда, телефонировал большому начальнику.
И тот прибыл на место преступления ровно по моему плану – на третий день.
Малый начальник, выставив совсем не овощную по калорийности задницу на обозрение забастовщиков, долго что-то объяснял не вылезавшему из автомобиля шефу. Потом отодвинулся, дав ему возможность высказаться.
Я бы никогда не вспомнил и фамилию докладчика, если бы не короткий диалог с ним перед конторой.
– Ты, ученый хуев! – заорал пузатый сельско-хозяйственник, не вылезая из служебной «волги». – Я член бюро обкома Лопач. И я здесь командую, кому и сколько работать!
– Вы перепутали мою фамилию, я – ученый Глейзер, а не Хуев, уважаемый товарищ Жопач!
– Что ты сказала, сволочь?
– Я сказаж: товарищ Жопач – дежо в том, что я с детства твердое «эль» не выговариваю!
На этом прения внезапно прекратились – аргумент оказался убойным, и членовоз, подняв облако пыли, умчался в райком, а может быть, и в сам обком без ясной резолюции малому начальнику, что же ему делать с укороченной наполовину рабсилой.
На следующий день бригада малолеток была откомандирована на синекуру – помогать корейцам пропалывать лук. Участок у узкоглазых шабашников из дружественного Таджикистана был маленьким и ухоженным, так что в помощи они по большому счету и не нуждались. Час туда, час обратно: трудодень из четырех часов пролетал быстро и не утомительно. На радость юным батракам. А каким горем луковым занимались кимирсены и лисынманы, я понял чуть позднее.
В нескольких километрах от лагеря труда и отдыха «Ровесник» Политехнического института располагался лагерь отдыха и труда «Энтузиаст» госуниверситета. И отцы-командиры последнего зазывали меня, своего старого собутыльника, заехать к ним как-нибудь на товарищеский ужин с воспоминаниями. Что однажды мы и проделали с коллегой Гильманом, малопьющим, но легким на подъем.
Было это в вечер выходного. Водку я закупил в городе, загрузив ее в багажник своей «копейки», захватил по пути коллегу Гильмана с горячей домашней помывки под пивко и без промежуточной остановки в месте нашего предназначения прикатил непосредственно в лагерь «Энтузиаст» по забитому автотранспортом шоссе. Воспоминаний об ужине с воспоминаниями о днях минувших у меня не осталось – ужин как ужин. Но возвращаться в подпитии по трассе было несерьезно. Тем более что плохиш Гильман открыл мне военную тайну: от лагеря до лагеря можно проехать по взлетно-посадочной полосе секретного аэродрома стратегических бомбардировщиков, базирующихся за околицей совхоза и лагерей. Ни ментов, ни охраны. На всякий случай возьмем полбутылки – и охрана самоликвидируется!
Попрощались. Поехали. Беспрепятственно въехали на взлетно-посадочную полосу. Набрали скорость. Пьяненький Гильман визжит:
– Не бери руль на себя, Коккинаки, а то взлетим!
Полоса ровная, железобетонная, вся в цветах метровой высоты. Красотища!
Вдруг коллега Гильман как заорет:
– Остановись, Володька! Свети на обочину! Это же Papaver somniferum! Мак опиумный! В промышленном масштабе! Во дают!
Вышли из машины. При свете фар картина потрясающая: разноцветье от белого до синего, в алых пятнах. И ни души.
Бывший пионер-мичуринец Гильман с видом знатока-наркодилера отковыривает с верхушки куста уже поврежденную кем-то цветочную коробочку.
– Атас, Володька, жмем отсюда по-быстрому – это настоящая наркоплантация, честное слово старого юнната!
До лагеря «Ровесник» мы домчались без тормозов. Единственное, что мы засекли, – это щелки глаз сидящего в сизых кустах мужика в тюбетейке. Может, от света он прищурился, а может, он просто был азиат.
Лопача я встретил лет семь спустя в отстойнике саратовского следственного изолятора. Меня, тогда пышноволосого, а ныне наголо стриженного, он, естественно, не узнал, да и его узнать было трудно: от пуза остался только обвислый кожаный мешок. На вопрос, как здесь очутился, бывший член бюро не ответил.
Уже в камере старожилы мне сказали:
– Это его космонавты усадили. Андропов дал задание аэрофотосъемку посевных площадей провести. Оказалось лишка чуть не половина. Неучтенного. Да еще люди говорят, на военном аэродроме анашу, падла, выращивал. Может, и врут, да что от коммуняк жадных ждать-то!








