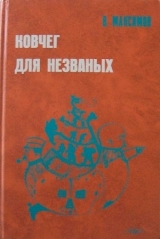
Текст книги "Ковчег для незваных"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР. Здесь произрастают лиственница, полярная береза, ель, дикий виноград, кедровый стланник и бархатное дерево. Западные побережья островов резко отличаются от восточных своим богатством растительного мира. Растут крестовник дланелистый, шеломайник камчатский, гречиха сахалинская достигает здесь 3-4 м высоты. На севере острова произрастают кустарниковая ольха, ягель, лишайники, узловатые лиственницы с изломанными кронами. На юге можно встретить растительность, характерную для средних районов страны и даже субтропиков: дуб, ясень, калопанакс, аралию, дикорасту-щие ягодники, повсеместно в диком виде встречаются заросли черной смородины и малины. На Сахалине и Курилах есть немало редких видов растений, являющихся остатками древней флоры, таких, как элеуте-рококк, диморфант, магнолия, калина Райта, ель Глена, тис, орех Зибольда. Флора области насчитывает 1400 различных видов растений. Многие из них являются лекарственными. Основным растительным богатством Сахалина является лес. Он занимает свыше 43 тыс. кв. км или более половины всей террито-рии острова. Здесь насчитывается около 200 видов деревьев, кустарников или деревянистых лиан. Наиболее распространены елово-пихтовые леса, состоящие из аянской ели и сахалинской пихты. На севере встречается даурская лиственница. Имеются большие площади, занятые березой белокорой и каменной. Общий запас древесины составляет почти 650 млн. куб. м, в том числе спелого и перестойного леса свыше 500 млн. куб. м, или почти в 1,5 раза больше, чем в соседних областях Дальнего Востока. Среднегодовой прирост древесины на одном гектаре составляет около 2 куб. м. Высококачественная древесина тайги пригодна для строительства, предприятий бумажной и деревообрабатывающей промышленности, производства фанеры, мебели и для других нужд народного хозяйства.
5. ЖИВОТНЫЙ МИР. Из 296 видов млекопитающих, зарегистрированных в Советском Союзе, на островах имеется более 80 видов. В тайге обитают ценные пушные звери – выдра, белка, лисица, горно-стай. На высоких лесистых хребтах с крутыми утесами и каменистыми россыпями можно встретить соболя, имеющего важное промысловое значение. Водятся здесь заяц-беляк, бурый медведь, северный олень, кабарга. На Сахалине и Курильских островах встречается более 300 видов птиц. На некоторых из них гнездятся целые колонии кайр, чаек, бакланов, образуя "птичьи базары". Промысловое значение имеют куропатки, рябчик, глухарь, гусь, утка. В водах Японского, Охотского морей и Тихого океана, омывающих острова, обитают котики, сивучи, нерпы, встречается до пятнадцати видов китов, в том числе голубой, гренландский, финвал, сейвал, кашалот, дельфин, касатка, белуха. Сахалинско-Курильский бассейн является одним из крупных рыбопромысловых районов. Основными объектами промысла, составляющими до 90% общегодового улова, являются сельдь, камбала, горбуша, кета, минтай, сайра, скумбрия, треска, навага, терпуг, палтус, краб, кальмар, гребешок, котик, сивуч, нерпа, морские водоросли – ламинария и анфельция. Важное значение имеют также корюшка, кунжа, таймень, красноперка, бычки и некоторые другие виды рыб.
Он опять оторвался от чтения: заметно сказывалась усталость. В его жизни давно миновали те летучие времена, когда он был способен безвылазно высиживать за столом по восемнадцать часов в сутки, чтобы после короткого сна в боковушке вновь вернуться на место.
Теперь же, и с годами все чаще, к концу рабочего дня физическая слабость настигала его, и он, незаметно для самого себя, периодически отключался от окружающего, отдаваясь во власть туманных призраков и химер.
"...Виды рыб... виды рыб... виды рыб..." – отпечатывалось у него в замирающем мозгу, а перед глазами плыла, качалась зимняя Москва в девственной пороше и светозащитной тьме...
Тонкий снежок поскрипывал у него под сапогами, легкий морозец щипал за уши, тишина вокруг казалась такой хрустальной, что закрой только глаза, могло почудиться, будто он – в кои-то веки! – прогуливается по городу один на один с собой, без охраны и провожатых. Но две ровных шеренги солдатских сапог текли по обеим сторонам от него, определяя ему направление и цель его пути.
Уже перед самым Новодевичьим он поднял голову и, скользнув взглядом по солдатской шпалере сбоку от себя, внезапно встретился глазами с рослым ефрейтором, заключавшим шеренгу у ворот монастыря. Сержант смотрел на него в упор, с деревянной самозабвенностью (точь-в-точь, как недавно вот этот туляк Лаврентия!), но в какую-то долю мгновения, сквозь эту служебную самозабвенность на него излился вдруг такой заряд знойной ненависти, что он не выдержал и впервые за много лет отвернулся первым.
Потом он сидел на низенькой скамеечке возле могильной плиты, с угрюмо опущенной головой, уносясь мыслью прочь от этой могилы, далеко за кладбищенские пределы, туда, откуда сдвигалась вокруг него смертная петля ненависти, ненароком выплеснутая на него только что этим злосчастным ефрейтором. "За что? – мысленно вопрошал он себя. – Ведь не для себя же, в самом деле, для них старался!"
Но затерянный где-то в сокровенном тайнике души голос упрямо переиначивал: "для себя!"
И поэтому обратный путь его от могилы жены до Боровицких ворот Кремля, через ночной город, между двух войсковых шпалер был тяжек и одышлив, как подъем в гору...
6. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Россия начала осваивать Сахалин и Курильские острова в то время, когда другие страны ничего не знали об их существовании или имели о них самое смутное представление. К моменту прихода на эти земли русских землепроходцев здесь не было еще никаких государственных образований, а немногочисленное коренное население жило разрозненно. Сейчас установлено, что впер-вые русские люди узнали о Сахалине в сороковых годах XVII в. Географические описания и карты того времени свидетельствуют, что ни в Европе, ни в Азии о Сахалине и устье реки Амур не было никаких реальных представлений. В 1639-1641 гг. отряд казаков Ивана Москвитина оказался в низовьях Амура. Анализ текста документов позволил достоверно установить, что зимой 1639/40 г. на реке Улье (Охотское побережье) местные эвены впервые сообщили русским о существовании "островов Гилятцкой орды". Выход И. Ю. Москвитина и В. Д. Пояркова к берегам Тихого океана явился одним из важнейших географических открытий XVII в. Большой вклад в исследование и освоение дальневосточных земель внес отважный русский землепроходец Ерофей Павлович Хабаров. В 1649 г. во главе отряда казаков и "охочих" людей вышел он из Якутска и в течение 5 лет путешествовал и изучал Приамурье. Посланные в 1652 г. для связи с Е. П. Хабаровым казаки под командой Ивана Нагибы разминулись с ним и вышли в Амурский лиман и Сахалинский залив. Они не только подтвердили сведения, полученные отрядами И. Ю. Москвитина и В. Д. Пояркова, но и обогатили их новыми данными об острове. Уже вскоре на нескольких сибирских географических чертежах появилось изображение Сахалина в виде острова. Почти одновремен-но с Сахалином были открыты и начали осваиваться Курильские острова, заселенные "самовластными", т. е. никому не подчиненными, айнами-курилами. На языке айнов "кур" значит "человек". Отсюда произо-шло и само название островов. Важнейшим этапом в изучении Курильских островов был поход казачьего пятидесятника Владимира Атласова в 1697 г. В 1711 г. камчатские казаки под командой Данилы Анцифе-рова и Ивана Козыревского на малых судах и байдарах посетили острова против "Камчадальского Носу". Петр I разработал специальный план изучения и заселения вновь открытых дальневосточных земель. По его указанию была направлена первая морская Курильская экспедиция Евреинова и Лужина (1719-1722 гг.). В 1799 г. по идее Григория Шелихова была создана крупнейшая торгово-промышленная Российско-американская компания, которая вплоть до 1867 г. управляла русскими владениями на Тихом океане от Аляски до Японии, включая Алеутские, Курильские острова и Сахалин. В декабре 1786 г. Екатерина II издала указ о снабжении первой русской кругосветной экспедиции – "для охранения права нашего на земли, российскими мореплавателями открытые", и утвердила инструкцию, в которой было приказано "обойти лежащие против устья Амура большой остров Сагалин Анга Гата, описать его берега, заливы и гавани, равно как устье самого Амура, и, поскольку возможно, приставая к острову, наведаться о состоя-нии его населения, качества земли, лесов и произведений". Экспедиция состоялась в 1803 г. Возглавил ее Иван Крузенштерн. Корабль Крузенштерна, подойдя к Сахалину, 14 мая 1805 г. бросил якорь в заливе Анива. Крузенштерн детально исследовал остров, ознакомился с жизнью айнов, роздал им подарки. Летом этого же года участники экспедиции Крузенштерна описали и положили на карту всё восточное и северо-западное побережье Сахалина, а также 14 островов Курильской гряды. Это была первая карта в мире, на которой острова в целом обрели свои истинные контуры. Г. И. Невельский обследовал восточные, северные и северо-западные берега Сахалина, фарватер Амура и установил, что устье его доступно для морских судов. Между мысом Лазарева на материке и мысом Погиби на Сахалине был открыт судоход-ный пролив, впоследствии названный именем Невельского. "Сахалин – остров, вход в лиман и реку Амур возможен для морских судов с севера и юга". В тот же год Невельский, отплыв из Аяна на транспор-те "Охотск", подошел к заливу Счастья и заложил на его берегу зимовье, которое назвал "Петровским", а затем основал в устье реки Амур военный пост "Николаевский". В 1853 г. исследователь Д. И. Орлов по указанию Невельского основал первый на островах русский военный пост Ильинский. В начале второй половины прошлого столетия международная обстановка на Тихом океане существенно изменилась. Россия была заинтересована в установлении добрососедских отношений с Японией, которая находилась в непосредственной близости от ее восточных границ. 22 января 1855 года в городе Симода был подписан первый русско-японский трактат. По этому трактату большая часть Курильских островов сохранялась за Россией (граница была установлена по проливу между Урупом и Итурупом), а Сахалин остался неразде-ленным. Симодский трактат явился началом установления дипломатических отношений между Россией и Японией. 25 апреля 1875 года был заключен Петербургский договор, по которому Япония, признав права России на весь Сахалин, получила в обмен все Курильские острова. В 1905 году японский десант высадил-ся на Сахалине. Для захвата острова японское правительство выделило значительные по тем временам силы: 12 батальонов, эскадрон и пулеметную команду общей численностью 14000 солдат и 18 орудий. Десантные части располагали 40 морскими судами. В первые же дни боев, уступая превосходящей силе, губернатор Сахалина генерал Ляпунов вместе со своим штабом сдался в плен. 23 августа 1905 года русское правительство подписало Портсмутский договор, по которому и южная часть Сахалина отошла к Японии. Положение это сохранялось вплоть до освобождения этих районов Советской армией".
"Солидный плацдарм для начала, – по прочтении вновь подумал он о Золотареве, – есть, где развернуться, проявить себя. – И, мельком взглянув на часы в углу, стал подниматься. – На сегодня хватит".
За окном занималась кромешная ночь июня, от Рождества Христова тысяча девятьсот сорок шестого года.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
В майском небе, на высоте птичьего полета, плавно раскачиваясь, плыла лошадь. В корявой клети, наспех сколоченной из свежего горбыля, она казалась снизу естественно вознесенным над землей существом из другого, еще неведомого здесь мира, настолько спокойно и величаво блистали сквозь широкие щели досок ее мерцающие глаза.
Лошадь плыла, покачиваясь, в майском небе, а кругом, чуть не от береговой кромки до самых высоких зубцов окрестных скал, многоярусно громоздился гулкий и долгий город с лесом мачт и подъемников почти по всему подножью.
Видно, берег в этом месте Азии когда-то сильно накренился, и океан хлынул в прибрежные горы, заполняя собой каждую впадину, каждый закоулок, каждое отверстие окружающего материка. С тех пор крутая подкова образовавшейся бухты представляла собой причудливое кружево лагун, островков, заводей. И над всем этим с рассвета до сумерек трепетно тянулась сизая или голубая, в зависимости от погоды, дымка, марево, фата-моргана.
Пожалуй, Федор, хоть и покружило его по разным странам и городам, едва ли мог бы назвать место богаче и просторнее, если бы не ощущение, причем почти неосязаемое, сквозящей вокруг тревоги или, вернее, настороженности. Здесь человек чувствовал себя как бы на постоян-ном прицеле, в незримой западне, в петле, в загоне. Словно там, у стрелок последнего семафора перед вокзалом, за каждым входящим и въезжающим тут же опускался некий занавес, который делил мир на две уже непреодолимые половины.
Федору, может быть, долго пришлось бы доискиваться истока, причины этого состояния, если бы действительность сама не выявилась перед ним.
Пирс, где в ожидании погрузки сгрудилось вместе с пожитками сотни полторы семейств, вдруг еле заметно ожил и тут же опять, но уже недобро, затих: так улитка, едва высунувшись, вновь спешит втянуть свой страх в надежную бездну раковины. Но, даже спрятавшись, страх продолжал тянуться тоскующим взглядом в ту сторону, откуда в молчаливом окружении собак и конвоиров сворачивала из портовых ворот к соседнему пирсу безликая серо-черного цвета колонна: быстрее, быстрее, быстрее! В молчаливой их полурыси было что-то испуганно угрожающее, отчего головокружительно перехватывало дыхание и на сердце принимались гулять ознобистые сквознячки.
Колонна, наподобие гармошки, сначала стремительно растянулась вдоль берега, а затем, чернея, плотно собралась у соседнего пирса.
– Са-а-адись!
Резко горбясь и выгибаясь, плотная масса стала быстро оседать книзу, пока, укрощенная, не сникла совсем: черная лента на сером фоне пирса и голубом – моря. Черная ветошь, черные лица, и даже запах, исходивший от нее, казался Федору черным.
В этом скоплении почти неразличимых лиц не было для Федора ничего сколько-нибудь примечательного. На многодневном пути от Москвы до Владивостока он пересекался с такими же множество раз: то в окне забранного колючей проволокой вагонного люка мимоидущего товарняка, то целым скопом на убегающей от состава таежной прогалине (даже разглядеть не успеешь как следует, как их уже и след простыл), то четко, с подробностями – на корточках у подъездных путей, в ожидании кого-то или чего-то. Они примелькались, стерлись в обзоре, стали частью пейзажа, метой дороги, принадлежностью повседневного быта.
Но сейчас его вдруг неодолимо потянуло к ним – этим взглядам исподлобья, этим лицам без черт, этому горькому и нечистому запаху. Всё происходило, как во сне, когда всякое сопротивление только обостряет тягу к близкой неизбежности. Была не была!
Федор шагнул к этой безликой черноте, и вдруг голова его медленно пошла кругом, а в ушах гулко и горячо зазвенело: из этой черноты перед ним явственно выделилось и обрело контуры одно-единственное лицо, вроде бы и не отличавшееся сильно от других – голодно запавшие глазницы, жесткая щетина на истонченных щеках и долгий взгляд, только не наружу, а вовнутрь.
Но даже, если бы оно – это лицо – изменилось еще более, Федор узнал бы его из тысячи: взводный! Взводный Сан Саныч – вечная улыбка от уха до уха, с неизменной добавкой чуть не к каждому слову "значит" и отчаянной, почти до горячки, бесшабашностью...
Где было забыть Федору ту смертную оборону среди Пинских болот! Он и сейчас еще, едва вспомнив, ознобливо повел плечами, будто в одно мгновение заново пережил всю стылую промозглость снежной зимы сорок третьего года. Их плотно зажали тогда среди мерзлых кочек, без надежды когда-либо выкарабкаться, обогреться и передохнуть. Сутками выгревали они собой стылую топь, а закадычный кореш его, взводный Сан Саныч, горячо дышал ему в полуобмороженное ухо, хрипло похохатывал, ерничал:
– Эх, Федька, нам бы с тобой сейчас двух баб на разжижку, за милую бы душу раскочегари-лись! И чего ты, Федька, такой мерзлячий, какие твои кровя, у меня моча и то теплее. Ты ворочайся, ворочайся, сукин сын, ты что здесь, ночевать думаешь? Не дервяней, не дервяней, брательник, у нас еще войны впереди от пуза, нам главком одних пайков задолжал недели за две, а то и больше. У тебя еще девок неперепорченных на деревне вагон остался, сыграешь в ящик, на том свете пожалеешь...
Под лихорадочную скороговорку взводного в теплое окоченение Федора вплывало душное свиридовское лето, и колокольчики на косогорах позванивали у него над головой: "Я у мамень-ки жила, не едывала кокочки, таперя эти кокочки бьют меня по попочке". Частушка была дурацкая и неизвестно откуда возникшая, но всё повторялась и повторялась в памяти, словно раз и навсегда заведенная пластинка.
Звук оборвался так же неожиданно, как и возник, и сразу вслед за этим, будто мгновенный переход из ночи в день, начался кромешный ад: казалось, болота вокруг сами по себе вздыби-лись и, пробудившись от морозной спячки, пустились в смерчевой пляс. Такой артподготовки Федору не доводилось переносить ни разу с начала войны. Их расстреливали почти в упор, без жалости и передышки. Багровый свет вспыхивал и мерк перед глазами, и от необоримой жути холодно мокли ладони: злой страх медленно отогревал тело. Федор знал это состояние, за три года фронта он уже привык к тому томлению ожесточенности, когда на смену первому замеша-тельству вдруг приходит и жарко заполняет сердце синяя тяжесть ненависти.
В миг очередной вспышки Федор искоса выхватил из светового круга торжественно четкое, без привычной улыбки, упрямое лицо взводного и скорее почувствовал, чем услышал его короткую команду:
– Двинули!
Тело Федора сделалось обугленно легким, почти невесомым, он даже не вскочил, а прямо-таки взлетел над промерзлыми кочками, и они, как в бреду, рванулись вперед, сквозь этот взрывающийся ад, через его черный пламень и прогорклый дым, навстречу хоть и призрачному, но желанному спасенью.
– Ура-а-а-а-а!..
Когда он упал, он не почувствовал ни боли, ни самого падения, его просто накрыла тьма, и во тьме перекатывалась из конца в конец задыхающаяся хрипотца взводного:
– Шел Федор с гор, воз на себе пёр... Ну и дерьма в тебе, братишка, в корове меньше... Ты на меня положись, выволоку, я двужильный... Я, брат, заговоренный, меня ни вода, ни огонь не берет...
Федор плыл вместе со своей тьмой, слушал знакомый голос, думая с вялым раздражением: "Ну, чего плетешь, чего плетешь, не деревенский ведь, только притворяешься".
Знать, он, конечно, знал мало (Сан Саныч – душа нараспашку – в душу к себе никого не пускал), но догадывался, что взводный его совсем не "Ванька" и соображает не хуже генерала, а может, и выше. Уж больно не по званию разговаривал его лейтенант с начальством (эдак свысо-ка, с ухмылочкой, для постороннего, впрочем, почти незаметной), уж больно не по чину книжки на отдыхе почитывал, уж больно не по возрасту думал много между байками да улыбочками. "Эх, Сан Саныч, Сан Саныч, – частенько жалел про себя Федор взводного, – не сносить тебе головы, свою ли ношу на плечи берешь!"
Поэтому когда после госпиталя, уже в Восточной Пруссии, Федор, вернувшись в часть, узнал об аресте взводного, то не удивился этому, хотя долго еще потом горевал по нем и печалился: "Вот тебе и заговоренный, выходит, правду старики говорят: от сумы да от тюрьмы не отрекайся. Какой парняга ни за понюх пропал!.."
Всё это в миг пронеслось в нем, осело горечью, отстоялось, и он не выдержал, потянулся в сторону бывшего взводного:
– Слышь, лейтенант... Сан Саныч, не узнаешь, что ли?
Тот даже глазом не повел, только поежился, продолжая смотреть перед собой и в себя, а конвоир уже надвигался на Федора с автоматом наперевес:
– А ну, осади назад! Делаю первое предупреждение, твою мать!
– Браток, – заспешил, заторопился Федор, – понимаешь, взводный мой вроде тут, позволь два слова сказать. Сам воевал, видно, у меня с ним фронтовой узелок...
Насмешливые, зеленого отлива глаза смотрели на Федора в упор, не мигая, словно и не видели его вовсе:
– Твои лейтенанты нынче на пеньках стойку делают да волкам хвосты крутят. А ну, осади!
Федор почувствовал вдруг, что задыхается. Знакомая, белая, сводящая скулы ярость бросилась ему в голову и радужно застелила глаза. Беспамятно взбычившись, он двинулся на конвоира:
– Ах ты, гнида вохровская, вошь тыловая, ну нажми, нажми гашетку, курва, или только в спину можешь? – Федору чудилось, что он истошно кричит, но на самом деле говорил почти шепотом. – Чегой-то я тебя, рвань вологодскую, на фронтах не видал, видно, некогда было, людей не успевал в расход пускать? Ну, пальни, пальни попробуй, или духу только на двор ходить хватает?..
Неизвестно, чем бы всё это кончилось (а кончилось бы, судя по всему, плохо: несколько ближних овчарок, плотоядно поскуливая, уже рвали поводки из рук надзорслужбы, и зеленогла-зый, осмелев, решительно спустил предохранитель), но в момент, когда, казалось, неминуемое должно было случиться, оттуда, с другого конца пирса, прозвучало зычное:
– Подыма-а-ай-йсь!
Замершее было черное чудище колонны тут же ожило, принимаясь волнообразно распрямля-ться и выравниваться. Хвост колонны еще колыхался, утаптываясь на месте, а голова ее уже отплескивалась узкой цепочкой по трапу лендлизовской самоходки, под окрики конвоя и собачий скулеж.
– Твое счастье, – облегченно бросил ему на ходу конвоир, подаваясь к колонне, – ты бы у меня сплясал на мушке. – И уже в сторону строя: – А ну, разберись в затылок, господа фашисты!
Федор в последней надежде еще потянулся взглядом за взводным, но тот ничем – ни жес-том, ни движением – не ответил ему: вместе со всеми поднялся и, чуть сгорбившись, уткнулся глазами под ноги. Колонна медленно стронулась, потекла вперед, а заодно с нею стронулся и потек вперед бывший взводный и вскоре слился со строем, черный и неразличимый, как пепел в хлопьях сожженной бумаги. "Эх, жизнь наша, – в сердцах скрипнул зубами Федор, – какого человека загубили!"
– Что ж ты на рожон-то лезешь, сукин сын! – замельтешил вокруг Федора отец, слепо смаргивая слезящимся глазом. – Нынче таких, как ты, быстро в память приводют. Перед ими маршала носом землю роют. Думать надоть...
И до того слякотно, до того мутно было в эту минуту на душе у Федора, что он не вынес, не выдержал, оборвал отца – впервые, пожалуй, в жизни:
– Пошел, ты, батя, к едрене бабушке, надоели вы все мне хуже горькой редьки!
Тот, видно, сразу понял сыновнее томление, отошел молча, сник, стушевался.
А в майском небе, на высоте птичьего полета, всё так же плавно раскачиваясь, плыла лошадь, и печаль ее загнанных глаз благостно изливалась вниз, на людей, на землю.
2
Вода за иллюминатором стояла стеной, время от времени высвобождая для обзора кусочек низкого, в серой пелене неба. Едва приспособленный под пассажирские перевозки грузовой трюм раскачивало чуть ли не под прямым углом. Обшивка судна скрипела и потрескивала, словно яичная скорлупа в чьих-то сильных, хотя и осторожных ладонях. Временами чудилось, что бока не выдержат, треснут по всем швам, расползутся, не сдержав натиска. Кто-то стонал, кто-то ругался, кого-то рвало внизу, под нарами, часто, остервенело. Вещи, взбесившись, ожили, тесня и осаждая людей по всем закуткам и закоулкам. И в этом треске, стонах и ругани какой-то чудак всё же ухитрялся с пьяненькой невозмутимостью тренькать на балалайке:
Я к солдатке на ночевку
Прихожу не впопыхах:
Первый парень на Сычевку,
Вся рубаха в петухах...
Ему – этому балалаечнику, вроде и дела не было до того, что творилось вокруг, он вроде и не выезжал никогда из своей деревни, а в окружающей толчее оказался случайно, по пьяной лавочке:
...Первый парень на Сычевку,
Вся рубаха в петухах...
Федор сидел в ногах у бабки, придерживал ее сбоку, стараясь по возможности уберечь старуху от качки. Привычно держа руки поверх стеганого, из цветного лоскута одеяла, она смотрела прямо перед собой острыми, сухого блеска глазами, и бескровные губы ее судорожно шевелились. Бабка говорила сама с собой о чем-то своем, одной ей ведомом и понятном. Что ей грезилось сейчас, на исходе жизни, за тысячи верст от родимой деревни, на краю мыслимой ею земли, этой тульской девочке неполных восьмидесяти лет? Сквозь восемь без малого десятков осенних паутин, избороздивших ее пожухшее лицо, сквозь голубой туман горячки, через слепотную пелену она прозревала сейчас что-то постоянное и окончательное, простые тайны судьбы, детские истины людской суеты, чистый тлен жития человеческого: мокрые галки на блистающем после плуга суглинке, прогорклый дым весной над яблоневой порошей, душная щекотка сухого сена на дальних покосах и подол в спекшейся крови после первого родильного беспамятства. Тени, призраки, видения прошлого звали ее туда, откуда уже не возвращаются. Из праха выйдя, во что обратишься ты?
Тяжелые, в жесткой окалине, совсем не женские руки бабки мерно подрагивали, словно она то и дело прикасалась к чему-то острому или горячему. Сколько Федор помнил себя, весь свой сознательный век, лопатистые бабкины ладони всегда служили ему надежным ориентиром дома, знаком тепла, фамильным залогом их дела и рода. Прошлое откладывалось сейчас в нем, будто набор цветных фотоснимков: бабка ставит на стол чугун с дымящейся картошкой; она же в хлеву, с вилами в руках, по щиколотки в навозной жиже, ладная, смеющаяся, в легкой кацавейке нараспашку и съехавшем на плечо платке; мокрое белье, распластанное на прибрежном камне, утренне сизый туман над водой, и в этом тумане, словно две большие, темно-коричневого отли-ва лопасти, ловко плавают бабкины руки; заскорузлые пальцы ее, в который раз перебирающие пожелтевшие бумажки в заветной, из мягкой жести коробке: мужнину похоронку, два-три пись-ма, безликие фотки тридцатилетней давности; вот он у старухи в охапке визжит от крапивной боли, застигнутый в жарком малиннике: "Не кради, не кради, жиган, спроси у бабки, сама даст!" Господи, когда это было, да и было ли это вообще? Тщета, тщета, тщета!
Бескровные губы старухи все шевелились и шевелились, складывая одной ей слышную речь, но постепенно Федор проникся ее взыскующей мукой, и слова, сложенные ею, наконец, отозва-лись в нем:
– Пожить хочу, Господи, почитай и не жила вовсе, быдто родилась только, и в одночасье помирать надо, чем же я прогневала Тебя, Господи, хоть год бы еще миновал. Тебе жалко, что ли, а мне, старухе, всё радость белый свет поглядеть, как родилась, нигде не бывала, весь век на деревне своей промыкалась, на земле горбатила, из навоза не вылезала, с зарей ложилась, с зарей вставала, помню осьнадцати годов еще...
– Может, чего надо, ба, – попытался Федор пробиться к ней, – скажи, ба...
– Господи, – не слышала, не видела она его, – не гневайся на меня, старую, что я винова-та рази, что пожить еще охота, хоть чуток, ить чего в Сычевке-то наплетут, сорвалась, мол, на старости, вот-де Бог и покарал, а ить я за детьми, за внуком вот, потянулась, куды ж мне одной-то век вековать, перед смертушкой и воды подать некому, какая такая моя доля...
– Бабушка...
– Господи, не взыщи с горемычной, сама себя кляну, да остановиться силов нету, нечистая сила крутит...
– Ба...
– Господи, быдто у маменьки я еще в люльке...
Она обессиленно затихла, а вместе с ней укрощалась и болтанка, переходя в плавную пере-валку. Лицо ее обмякало, разглаживалось, принимало светло-землистый оттенок. Истончивший-ся лоб подернуло холодной испариной, нос заострился и посинел. Она еще дышала, еще тепли-лась живой плотью, но дух жизни уже расставался с нею, и никакая сила в мире не могла отныне остановить этого расставания.
Федор растолкал отца:
– Батя, – тот, измученный качкой, обморочно дремал на полу, среди скарба, уткнувшись в колени жены, которая тоже в полузабытье клевала носом, – слышь, батя, присмотри за бабуш-кой, вздремнула вроде.
У того только и хватило силы, чтобы согласно мотнуть головой и тут же вновь отвалиться в бессильном изнеможении.
К выходу он пробивался сквозь почти непроходимое нагромождение разномастного скарба и распластанных тел. И всё это ходило ходуном: стонало, ругалось, плакало. В общем чаду выделил Федор чью-то раскрытую шахматную доску, желтой птицей прыгающую среди всего окружающего бедлама. Эта доска была так нелепа здесь, так неуместна, что ему самому впервые сделалось муторно.
А в дальнем углу чей-то пропитый тенорок все еще утверждал под балалайку, что он-де, именно он и никто другой, "первый парень на Сычевку, вся рубаха в петухах".
Только на палубе Федор полной грудью вдохнул свежего, влажного воздуха, и огляделся, и замер сердцем: море вокруг гудело и дыбилось, в этой, казалось бы, бессмысленной пляске проглядывалась какая-то целенаправленная сила. Трудно было предположить, что это была за сила и куда ее несло, но темная глубина, ощущаемая в ней, обещала путнику горные выси и великие бездны. Это – как сны в детстве, после болезни, когда порою стоишь у такой тьмы, у таких пещер огненных, что хочется, ой как еще хочется, прикоснуться, а даже руку протянуть боязно.
Здесь же, в клетях, притороченных к палубе, колотилась всякая живность: куры, утки, гуси, овцы, коровы, лошади. В крытом закуте для коровы примостилась даже клетка с двумя кролями. Почти по-человечески мучительное страдание этого царства вызывало щемящую жалость. В сыром ветре родной запах навоза и животного испарения ощущался особенно резко. Прощай, Сычевка, но помни – я вернусь! Если бы ему знать тогда!
Федор протянул было ладонь в коровью клеть, чтобы прикоснуться к возбужденному сейчас зеркальцу телки, ощутить под пальцами его нежность и теплоту, чуть успокоить ее, наконец, но в это время кто-то требовательно толкнул парня под локоть:
– Ты чо здесь?
Федор обернулся, но под брезентовым капюшоном, кроме сивой бороденки, ничего не разглядел:
– А ты чо?
– Сторожую.
– А чего сторожевать-то, не украдут.
– Не украдут, а глядеть надоть, ненароком сорветь.
– Так не удержишь ведь?
– Удержать – не удержу, а подмогу кликну, остатнее выручим.
– Сам откуда?
– С-под Ожерелья, а что допытываешь, документ е?
– Чо, папаня, ослеп совсем, документов моих не видишь? – и Федор глазами указал тому на "иконостас" над правым карманом своей гимнастерки. Я за этот самый "документ" четыре годика в землянках вшей давил.
– Много вашего брата нынче с эдакими документами шастает до первого уполномоченного. – Но все же смягчился. – Подымить е?








