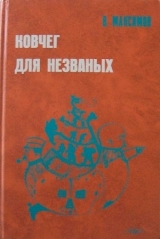
Текст книги "Ковчег для незваных"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
Сидя напротив Золотарева, лейтенант, мрачновато посверливая его бесовским глазом, наставлял:
– Ты, брат, ко всему присматривайся, ничего не упускай, в таком деле каждая мелочь может на след навести. Есть сигнал: к ним там один бродяга похаживает, вроде как сводным братом ихнему чудаку приходится, тихую агитацию разводит, насчет всемирного братства и равенства рассусоливает. В общем анархия вперемешку с поповщиной, прикрывать эту лавочку пора, только надо наверняка действовать. – Он достал из нагрудного кармана портсигар, выпростал оттуда папиросу и, разминая ее между пальцев, впервые скользнул взглядом в сторону. – Между прочим, я этого мудилу-мученика знаю, как облупленного, в школе вместе учились, головастый пацан был, всегда в круглых отличниках числился, бывало, только-только на арифметике считать начнешь, а у него уже готово, все с его тетради списывали. И говорить большой мастер, наговорит тебе сто верст до небес и все лесом, только уши развешивай. Далеко мог пойти, одна дурь мешает, вбил себе в голову чёрт-те чего! – Дрезина резко сбавила ход, они по инерции качнулись друг к другу, и в короткий миг этого их невольного сближения Золотарева удушливо обожгла искра затаенной издевки где-то в самой глуби его горячечных глаз. – Только мы тоже не пальцем сделаны, мозги вправлять умеем, а если не очухается, пусть на себя пеняет. – Дрезина плавно вкатилась в короткий тупичок и замерла впритык к торцу товарного пульмана. – Вылезай, приехали, Золотарев, и – ушки на макушке...
После спертой духоты тесной кабины дыхание перехватило холодящим настоем ранней весны. Тупичок тянулся вдоль куцей лесополосы, упираясь в крошечный пруд или, вернее, придорожную низинку, заполненную талой водой, за которой в сизой дымке близкого горизонта маячили терриконы окрестных шахт. И над всем этим царила волглая тишина, оглашаемая лишь резкой галочьей перекличкой.
– Вот она – малина хренова. – Они двинулись вдоль сплотки из трех приспособленных под жилье четырехосных пульманов. – Окопались – лучше некуда, никакой смолой не выкуришь, только не таких выкуривали, найдем и для этих снадобье...
Перед самым упором тупичка навстречу им, медленно поднимаясь над спуском, выявилась женская фигура с тазом в руках, полным отжатого белья. И чем ближе, чем явственней опреде-лялась она перед ними, тем учащеннее становилось колотье в горле Золотарева. Едва ли в ее пригашенном бесформенной робой облике можно было выделить что-либо приметное, если бы не огненно-рыжая прядь, свисавшая у нее из-под платка, которая окрашивала все в ней каким-то особым своеобразием.
– Здравствуйте. – Не доходя до них, слегка поклонилась она: слово прозвучало тихо, просто, без вызова. – Вы к Ивану Осиповичу? – Не ожидая ответа, она поставила таз на тупичковый холмик и с готовностью заторопилась. – Вы заходите, погрейтесь в теплушке, а я за ним на путя сбегаю, здесь – рядом, сейчас будет.
Проходя мимо, она машинально взглянула на них, и от этого беглого и словно невидящего взгляда Золотарев снова поперхнулся. "Надо же! головокружительно пронеслось в нем. – Это надо же!"
– Видал кралю? – провожая ее оценивающим взглядом, хмыкнул Алимушкин. – Погля-деть, тихоня-тихоней, только в тихом омуте черти водятся: у нее две судимости позади, не считая приводов. – Он лихо сплюнул в сторону, начальственно кивнул Золотареву. – Айда к печке, комсомол, что, едрена мать, в самом деле, на ветру мерзнуть!..
В скудном убранстве теплушки чувствовалась старательная женская рука: все было тщате-льно выскоблено, каждая вещь, предмет, мелочь занимали свое, строго определенное место, а вышитые мелким крестиком марлевые занавески на окнах и такой же полог, глухо отделявший угловую часть вагона от остального помещения, выглядели даже нарядно. Железная времянка, на которой стоял укутанный в байковое одеяло чугун, еще источала легкое тепло. Пахло стиркой, постной стряпней, перегоревшим углем.
– Садись, Золотарев, закуривай, – он по-хозяйски, небрежным движением снял и швырнул фуражку на раскладной стол сбоку от себя, – в ногах правды нет. – Укрепленный вплотную к столу топчан натужно заскрипел под ним. – Что увидишь, что услышишь, на ус мотай, только чур не записывать, все в голове держи, так-то оно вернее. Раза два на неделе заглядывай, авось не за горами, докладывай обстановку...
Раздался уверенный стук в дверь и вместе с ним – с этим стуком, – там, снаружи, обозна-чился голос: чуть глуховатый, но тоже – уверенный:
– Можно? – И следом, уже с порога, впуская в теплушку холод убывающего дня: – Здравствуйте.
Его можно было принять за кого угодно – переодетого в ветхую спецовку конторщика, путейца, учителя, но только не за дорожного трудягу. Все в нем – моложавое, но несколько изможденное лицо в обрамлении белокурых волос, мословатая при умеренной сутулости фигура, манера держаться с уважительной к окружающим независимостью – предполагало склонность скорее к умственным занятиям, нежели к черной работе. И лишь заскорузлые, с въевшейся в кожу ржавчиной руки обличали в госте человека, давно занятого тяжелым физическим трудом.
– Садись, хозяин, гостем будешь. – Спутник Золотарева явно заискивал перед бывшим товарищем, хотя и старался при этом выдержать начальственный тон. – Вот, Иван, комиссара к тебе привез на подмогу, зашиваешься ты тут один без политпросвета. Рекомендую: Золотарев, Илья Никанорыч, не шаляй-валяй, кадровый товарищ, такие нынче на дороге не валяются, руководство о тебе заботу имеет, думаю, сработаетесь без притирки. – Он беспокойно елозил задом по топчану и все посматривал, посматривал со значением на Золотарева. – Так сказать, смычка коммунистов и беспартийных...
Тот неторопливо опустился на скамью спиной к столу, оказавшись между лейтенантом и Золотаревым, аккуратно сложил рукавицы рядом с собою, сцепил корявые руки у себя на коленях, заговорил размеренно, со вкусом расставляя слова:
– Спасибо. Хороший человек никогда не помешает. Правда, с жильем у нас туговато, да, как говорится, в тесноте – не в обиде. Тут вот и поместим, а я к ребятам переберусь, мне даже сподручнее вместе со всеми. Так что устраивайся, дорогой, не стесняйся. Только есть из общего котла придется, у нас тут все по-братски... Ну что там в Узловой нового, Дмитрий Власыч?..
Рассказ Алимушкина состоял из жеванных-пережеванных в городе толков о том, кто еще арестован, кого куда переместили по должности, какие пересуды идут в депо и в дистанции пути. Золотарев слушал его вполуха, с опасливым ожиданием поглядывая в сторону двери. Вскоре в тишине, царившей снаружи, прорезались отдаленные, но все нараставшие голоса, затем сквозь оживленный говор, где-то совсем рядом, чуть ли не за стеной выплеснулся, жарко сдавив ему дыхание, снисходительный женский смешок:
– Наломались, работнички? Сейчас накормлю, чем Бог послал и что на складе давали, навару немного, зато от пуза.
Вместо ответа чей-то хрипловатый тенорок рассыпался с дурашливым вызовом:
– На горе стоит машина,
Тормоза меняются.
Там крупина за крупиной
С вилами гоняются... Тащи, Маша, свои разносолы, а то брюхо к спине присохло!
Сразу за этим в просвете почти бесшумно отворившейся двери возникло ее смеющееся лицо:
– Не обессудьте, чуток помешаю. – Она уже скоро хлопотала вокруг времянки. – Накормить ребят надо, голодные.
Алимушкин искоса, с нескрываемой подозрительностью взглянул на нее и тут же поднялся:
– Пошли, Иван, проветримся, – на холодке, оно, разговаривать сподручнее, да и ушей меньше.
– Пошли, коли так. – Тот не спеша потянулся за гостем к выходу. – На холодке так на холодке.
– Ох, мужики! – кивнула она им в спину. – Слова в простоте не скажете, все у вас с намеком да с подковыркой. – Она говорила, не глядя на него, занятая печкою и посудой. – Мне-то до ваших разговоров дела нет, мы люди маленькие, своих хлопот хватает. Только чего они все к Ивану Осипычу цепляются, ездиют, воспитывают, будто он маленький, сам не знает, чего делать, как жить. – Она резко выпрямилась, и все в ней вдруг празднично ожило, засветилось. – Им бы самим у него поучиться не грех, да за науку в ножки поклониться и Бога благодарить, что сподобил с ним свидеться. – Она опять замкнулась, водрузила стопку посуды поверх чугуна, бережно подхватила его снизу и двинулась к двери, кивнув Золотареву: – Не примите за труд, откройте.
Все с тем же колотьем в горле он бросился открывать, судорожно потянул на себя дверь и, пропустив женщину мимо себя, вышел за нею.
– Меня Ильей Никанорычем зовут, – жарко выдохнул он ей вдогонку. Ильей, в общем.
– А меня Марией, – донеслось уже из ближних сумерек под шорох удаляющихся шагов. – Покличьте Иван Осипыча, вечерять пора...
Вечер обещал быть беззвездным и пасмурным. С окрестных полей тянуло плотной изморо-сью. Лесополоса вдоль полотна уже не просвечивала насквозь, тянулась сплошной темной стеной. И только тусклое зеркало озерка под горой слегка скрашивало густоту этой промозглой сумеречности.
Золотарев машинально обогнул тупичок и краем лесополосы потянулся вниз, к озерку, но едва оно выявилось из-под спуска цельным пятном, на его тускло поблескивающей поверхности выделились два зыбких силуэта, склонившихся друг к другу в доверительном разговоре:
– Эх, Ваня, Ваня, – в голосе Алимушкина уже не чувствовалось ни ожесточения, ни напора, одна заискивающая просительность, – ну что тебе, в самом деле, в голову втемяшилась блажь эта дурацкая! Придумал тоже коммунию, полторы бродяги пополам с нищим, таких, сколько ни корми, все в лес смотрят, им сто твоих зарплат не хватит, дели – не дели, все равно не насытишь, как в прорву, они же еще и смеются над тобой втихомолку. Сам вон в чем ходишь, чем питаешься, одна кожа да кости!
– Мне хватает. – В густеющей темноте его голос звучал спокойно, отчетливо, на ровном излете.– У матери пенсия, другой родни у меня нет, куда копить, с собой не унесешь. Коли про один хлеб насущный думать, жить незачем будет.
– Не сносить тебе головы, Иван, подведешь ты себя под монастырь, поздно окажется. – Тот начинал снова исподволь ожесточаться. – Эх, Ваня, Ваня, мне бы твои шарики, я бы взял быка за рога! С твоими мозгами да при такой анкете тебе в наркомат ходить, тысячами командо-вать. Нынче наверху такой мусор плавает, что не приведи Бог, лезут, кому не лень. Только скажи, я тебе любые семафоры открою, без остановок вырулишь.
– Мусор, говоришь, плавает, а я что там делать буду? – Иван даже не возражал, а как бы только утверждал уже давно им обдуманное и обговоренное.
– Плохое из меня начальство, брат, я вон с дюжиной и то еле управляюсь. Опять же, чего мне от должности прибудет, хлопоты одни, а толку чуть. Всему предел в жизни есть, начальству тоже, а дальше что? Выходит, не все в наших руках.
– Несешь, Иван, чертовщину какую-то, – прежняя злость уверенно заполняла его и несла дальше, – за такую поповщину по нашим временам не меньше десятки с высылкой полагается, это тебе, голова садовая, известно? Коли ты умный такой и сам черт тебе не страшен, возьми да и выложи всю эту вражью дребедень на общем собрании: так, мол, и так, желаю всеобщей уравниловки на базе сектантской чертовщины. Может, послушают, а?
– Кому надо, тот и сам услышит, – он оставался все так же ровен и прост, – чего мне понапрасну людям душу смущать, вовремя сами одумаются, не сегодня жизнь началась, не завтра кончится.
Одна из теней, та, что покороче, вдруг надломилась и тут же исчезла с аспидно блистающей поверхности озерка.
– Что ж, Иван, живи своим умом, – голос Алимушкина поплыл в сторону Золотарева, – я тебе больше не советчик, блажи себе на здоровье, только пеняй потом на себя...
"Попал я в историю, – озадачился Золотарев, поворачивая назад, к жилью, – здесь как по тонкому льду ходить придется, того и гляди сам провалишься".
3
Несколько дней еще тянулась сырая бестолочь, после чего погода более или менее налади-лась: грянули теплые дождички вперемежку с солнечными просветами. Золотарев коротал дни за оформлением стенных "летучек" и подбором цитат из газет и брошюр для текущих полит-занятий. Порою он даже забывал о настоящей причине своего появления здесь, занятия его казались ему естественным продолжением райкомовской суеты, постепенно жизнь на разъезде становилась для него буднями, повседневностью, бытом.
Отношения с Марией складывались у него туго и неуверенно. Она заметно дичилась его и почти с ним не разговаривала, ограничиваясь скупым набором неизбежных в обиходе слов. По вечерам, закончив дневные хлопоты, Мария скрывалась у себя за занавеской и притаенно затихала там до следующего утра.
С лихорадочно бьющимся сердцем следил Золотарев, как на подсвеченной изнутри семилинейкой марлевой занавеси колебалась ее хрупкая тень. В нем все замирало, когда она раздевалась, расчесывала волосы, укладывалась. И каждое ее движение при этом, словно на немом экране, чутко отражалось на застиранной марле. В наступавшем затем мраке он долго еще прислушивался к ее сбивчивому дыханию, в ожидании чего-то немыслимого и не в силах заснуть. "Скорей бы теплело, что ли, – воспаленно ворочаясь, задыхался он, – я бы на двор перебрался!"
К концу недели Золотарев не выдержал, и когда у нее за марлевым пологом погас свет, смелея в темноте, заговорил первым:
– Слышь, Мария, вроде под одной крышей живем, а друг дружке слова путёвого до сих пор не сказали.
– Вы у нас за начальство, Илья Никанорыч, – тихо отозвалось из темноты, – какие же мне с вами разговоры разговаривать?
– Нашла начальника, без сапог, а в шляпе, бумажки в райкоме с места на место переклады-ваю.
– Все ж таки не наш брат, с киркой не ходите.
– Пошлют – пойду, наше дело служивое: сегодня – здесь, завтра – там. Мне до начальст-ва еще далеко.
– Нам еще дальше, живем одним днем: день – ночь, сутки прочь, от зари до зари в работе, когда уж тут языком чесать!
– Так и молодость пройдет, жизнь – она короткая.
– Была у меня молодость да сплыла, – потерянно вздохнула она, прогуляла я ее, пропировала молодость свою.
– Какие твои годы, Мария, – исподволь нащупывал он к ней подходы, – у тебя все еще впереди.
– Мне лучше знать. Мне бы теперь около Иван Осипыча век скоротать, больше ничего не хочу.
– Полюбила что ли? – Все в Золотареве воспрянуло и насторожилось. – За чем же дело стало?
– Куда там, Илья Никанорыч, – голос ее сразу потеплел, сделался певучим и полным, – зачем я ему, он себе и получше найдет! Только разве он о том думает! Он все больше о других беспокоится, а до самого себя руки не доходят, себе все в последнюю очередь. Я б за ним с закрытыми глазами, хоть на край света, ноги бы ему мыла, юшку бы пила, такой человек один теперь на всю землю, совсем народ нынче одичал, глотки друг дружке разорвать готовы. Вон у нас на разъезде какая голытьба собралась, один другого краше, из милиции не вылезали, а Иван Осипыч и к этим сумел подойти, людями сделались. Его у нас кругом знают, со всех деревень за советом идут, из города сколько народу бывает, у него для всякого доброе слово найдется, а что еще нынче человеку нужно! – И как бы окончательно утверждаясь, заключила. – Нету теперь эдаких людей, нету!
Каждое ее слово камнем откладывалось в нем, все утяжеляя и утяжеляя темный груз перепо-лнявшей его горечи. Ему казалось, что сквозь него, сквозь его тело, сердце, душу передернута одна-единственная раскаленная и звенящая болевая струна, конечный звук которой нестерпи-мым жжением отдавался в гортани. Никогда раньше Золотареву не приходилось испытывать подобной муки и такого удушья: от него, как плод от пуповины, с болью и стоном отсекалась часть его самого, и уже невосполнимая часть. И горячечно забываясь в ночи, он с отчаяньем подытожил: "Кончен бал!"
4
В отличие от большинства городских учреждений, в райотделе НКВД царила внушительная тишина, прерываемая лишь постукиванием одинокой машинки за дверью с табличкой "Прием-ная". Оказалось, Золотарева уже ждали: молчаливая, с усообразной порослью над верхней губой женщина, едва воздев на него сонные глаза от расхристанного "Ундервуда", поднялась и кивком головы предложила ему следовать за ней.
– Заходи, заходи, комсомол! – бросился ему навстречу Алимушкин, словно только и сидел в ожидании Золотарева. – Пошли сразу по начальству, разговор будет. – И затем заискивающе гоготнул вслед его провожатой. – Наладь-ка нам потом чайку, Верунчик! – Тут же подмигнул спутнику. – Видал тоже бабца? В гражданскую офицерье на ленточки на допросах полосовала, по всей Сызрано-Вяземской славилась, теперь у нас вот завсектором век доживает. Он вдруг на ходу приосанился, почтительно, но бодро постучал в обитую клеенкой дверь, легонько потянул ее на себя. – Входи.
В большой пустоватой комнате – стол, несколько стульев вдоль глухой стены, табурет, привинченный к полу у самого входа, портрет Дзержинского над столом – навстречу им подался бритым наголо черепом ширококостый, почти квадратный человек с двумя шпалами в петлицах суконной гимнастерки и орденом Красного Знамени на пухлой груди:
– Это и есть твой замечательный парень, товарищ Алимушкин? – Слова он выговаривал медленно, правильно, с заметным усилием, выдавая этим свое нерусское происхождение. – Послушаем твоего замечательного парня, товарищ Алимушкин.
Стоя сбоку, чуть позади Золотарева, лейтенант локтем ободряюще толкнул его:
– Докладывай, комсомол, не робей!
Золотарев знал, чего от него ждут и, случись это в другой раз и в иной ситуации, ему не при-шлось бы долго раздумывать над линией своего поведения. Но сейчас, прежде чем безоглядно пуститься по привычной наклонной, он на мгновение замер и похолодел, словно перед прыжком в студеную воду.
Правда колебание это длилось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы набрать полную грудь воздуха, а затем его понесло без сучка и задоринки, как по надежной шпаргалке. Он разливался перед ними хорошо вышколенным соловьем, на ходу угадывая их желания и не ожидая понуканий или подсказок: он жег мосты, он развеивал душу по ветру, он окончательно прощался с самим собою, ему не о чем было больше сожалеть и не в чем раскаиваться. Семь бед – один ответ!
По его выходило, что на разъезде советской власти не существует, что там определенно намечается подпольная организация и что, если не пресечь враждебный заговор сейчас, его уча-стники могут в самое ближайшее время перейти к открытым террористическим выступлениям.
– Так. – Майор одним сильным движением оттолкнулся ладонями от стола и вместе с креслом отъехал к стене позади себя. – Ваше мнение, товарищ Алимушкин?
Тот мгновенно потемнел, вытянулся, будто борзая, изобразив стойку, и хрипло выдохнул:
– Брать. – И повторил еще тише, на сплошном сипении. – Брать немедленно.
Еще одним усилием майор повернулся с креслом боком к ним, в кресле же обогнул стол, выкатился чуть ли на середину кабинета, и только тут Золотарев уяснил для себя причину его слоноподобной усидчивости: кресло оказалось инвалидной каталкой с обычным ручным управ-лением. Нижняя часть туловища от самого пояса была тщательно прикрыта у него чем-то вроде пледа или накидки.
– Значит, ваше мнение – брать, товарищ Алимушкин? – Он исподлобья цепко посверли-вал их взыскующим взглядом, деловито потирая при этом пухлые, в темной поросли руки. – Он что, может быть, штундист?
– Какое там, товарищ Лямпе! – Алимушкин явно не понял начальника, но, видно, на всякий случай решил не подавать вида. – Просто воду мутит, балалаечник, знаю я этого Хохлушкина сызмальства, всегда такой был.
– Так. – Глядя на них, майор все потирал и потирал руки, будто отмывая их от чего-то очень въедливого. – Взять, товарищ Алимушкин, никогда не поздно. Подумать надо, взвесить. Я смотрел его анкету, человек из пролетарской семьи, из беднейших крестьян. Какой будет политический эффект?
– На всякий чих не наздравствуешься, товарищ Лямпе. – Алимушкин вновь засучил ногами на месте. – Пресечь надо без задержки, а то дальше пойдет, концы потеряем. – В его напряженном голосе засквозила едва скрываемая угроза: знал, уверен был, пролаза, что в случае чего не спасут начальника ни ордена, ни заслуги, в эти поры и покозырнее тузов на распыл пускали. Бдительность притупляем, товарищ Лямпе.
– Может быть, действительно штундист? – Тот равнодушно пропустил угрозу мимо ушей, смотрел на них все так же исподлобья, с отрешенной задумчивостью. – Или сектант, я таких много встречал. – Опустив лобастую голову, он продолжил скорее для себя, чем для них. – Мой отец был штундистом, мой дед был штундистом, я вырос среди штундистов. Это были простые темные люди, но они стояли за справедливость и равенство. Они понимали это по-своему, они еще не знали тогда великого Маркса, не знали великого Ленина, они сердцем верили, что все должно быть справедливо. Может быть, Хохлушкин этот ваш тоже из таких? – Он вдруг вновь вскинулся, вопросительно уставившись на Золотарева. – Может быть, наш замечательный парень еще подумает, взвесит свои слова? Может быть, еще есть возможности решить вопрос непосредственно в коллективе?
На этот раз Золотарев даже не поперхнулся, отчеканил уверенно, без запинки:
– Бесполезно, товарищ Лямпе, коллектив окончательно разложен, необходимы крайние меры.
– Если так, – у того жестко напрягся подбородок и равнодушно потухли глаза, – идите оформляйте, я подпишу. – Он опять с усилием потер руки и отвернулся, как бы предоставляя их самим себе. – Пусть отвечает по закону. – Каталка резко развернулась, вновь направляясь к столу. – Заодно заканчивайте с этими двумя из Бобрик-Донского. Надо выяснить, кто стоит за ними: в одиночку весовщик и дежурный по станции не могли работать, здесь опытная рука чувствуется. Можете идти.
Когда они вышли, Алимушкин полуобнял Золотарева за плечи, коротко притиснул к себе, а затем подтолкнул вперед:
– Сработаем за милую душу. – Увлекая гостя в свой кабинет, он возбужденно сопел в предвкушении добычи. – Лямпе наш тоже чудит, любит помитинговать, как будто гражданская война за околицей. Его послушать, враг, значит, в золотых погонах, а все прочие – братья и сестры, а враг он нынче кругом прячется, в родном доме укусить норовит. – Он чуть ли не втолкнул его в кабинет, вошел следом, кивнув на место у стола. – Садись, пиши. Как у Лямпе рассказывал, так и пиши, все до точки. – Но и усевшись за стол напротив Золотарева, он все еще не мог успокоиться. – "По закону"! Воля мирового пролетариата – вот наш закон! Да и чего с него взять, одно слово – немец! Насчет Рассеи-матушки ни бум-бум.
Без стука, с подносом в руках, на котором стояли два граненых стакана с жиденьким чаем, вошла уже знакомая Золотареву усатая женщина, молча поставила поднос на край стола и так же молча, ни на кого не взглянув, удалилась.
Вместе с нею, с появлением этой женщины, по комнате как бы пронеслось дуновение неуло-вимой угрозы, но не улетучилось с ее уходом, а наоборот, тяжело осело и затаилось до поры на стенах, вещах, бумагах и даже, казалось, в душе. Рука у Золотарева вдруг сделалась непослуш-ной, голова полой и неустойчивой, глаза почти невидящими. Слова стройно вытягивались в ряд, фраза по-прежнему нанизывалась на фразу, изложение не теряло порядка, но в нем уже не было того облегчающего совесть самоотречения, какое воодушевляло его в кабинете у Лямпе. "Быстрей бы уж все это пронесло, заканчивая, маялся он, – мочи моей больше нет!"
– Вот, – Золотарев пододвинул исписанные листы к Алимушкину, посмотри, что получилось. Вроде, все, как есть.
Тот долго читал, перечитывал, сопел, морщился недовольно, потом, насмешливо поглядывая на него, сказал:
– Да, брат, Льва Толстого из тебя, конечно, не получится, но в общем сойдет, больше не потребуется. Получим санкцию и будем брать, вместе с этими двумя пройдами из Бобрик-Донского. – Не вставая, протянул ему руку через стол, подмигнул одобрительно. – Наградные за мной. Бывай, скоро опять встретимся...
В коридоре Золотарев лицом к лицу столкнулся с Мишей Богатом. Тот скользнул по нему затравленными глазами и еле слышно сложил непослушным ртом:
– Вот вызывают... Говорят, неотложное дело... Сам знаешь, у них всегда неотложное. – Он ватной походкой проследовал дальше, в настороженную полутьму коридора и уже оттуда прошелестел. – Заходи в райком, потолкуем...
Дверь в приемную на этот раз была распахнута настежь и, проходя мимо, Золотарев поймал на себе неподвижный, но откровенно изучающий взгляд, устремленный на него от расхристан-ного "Ундервуда". "Вот ведьма, – зябко передернуло его, – чего доброго, сглазит еще!"
5
На другой день к вечеру в теплушку заглянул Петруня Бабушкин крупноголовый, с чуть ноздреватым носом картошкой мужик, которого Золотарев давно выделил среди остальных за дотошную обстоятельность на политзанятиях:
– Получка нынче, Илья Никанорыч, – пронзающе синие глаза его светились радушием, – ребята гуртом обмывают, тебя в компанию зовут, отказываться грех, так что, просим...
Предстоящая ночь обещала быть теплой и чистой. Даль вокруг отсвечивала багровым колером догоравшего у горизонта дня. В недвижном воздухе струились запахи плодорождения и расцвета. Чуткая тишина вечера оглашалась лишь редкой перекличкой паровозов откуда-то из-за обрыва тлеющего окаема. Мир готовился отойти к очередному сну.
За столом, выставленным по случаю хорошей погоды тут же, перед сплоткой, Золотарева уже ждали, разом освободив ему место на скамье прямо против Хохлушкина. С этой минуты до конца застолья Илью не оставляло подозрение, что тот, если не знает наверняка, то определенно догадывается об угрожающей ему участи: бригадир сидел молча, опустив глаза и сложив перед собой тяжелые руки, и лишь после того, как налили по первой, расклеил плотно сомкнутые губы:
– Ну, дай Бог не последнюю! – Он смотрел куда-то впереди себя, через стол, сквозь Золотарева, словно разговаривал не с ними, а с недоступным для них собеседником. – А коли последнюю, то не помянем друг дружку лихом. Жили мы с вами по правде, по совести, никому века не заедали, за даровым хлебом не гонялись. Может, кто из вас на меня сердце держит, выкладывай при всех, а то поздно будет, лучше уж сразу, в глаза, чем на сторону нести. – Его зрачки вдруг сузились, осмысленно упершись в Золотарева. – На душе легче будет...
Пристально вглядываясь друг в друга, они встретились в упор, и здесь Золотарев впервые по-настоящему разглядел Ивана. Тот был до изможденности худ, мослат, узок в кости, но его продолговатое лицо, с сильно выдвинутыми вперед надбровьями и острым подбородком обличало в нем уверенность духа и силу характера. Казалось, что Хохлушкин раз и навсегда определил для себя однажды овладевшую им мысль и, твердо уверовав в нее, беспрестанно жил ею, этой мыслью, не терзая себя сомнениями и не отклоняясь в сторону.
– У нас, Иван Осипыч, народ грамотный, – попробовал отшутиться Золотарев, но вышло это у него довольно кисло, – если у кого жалобы, в стенгазету напишут.
– Думаешь? – Хохлушкин тем временем, прижав буханку к груди, размашисто, по-крестьянски нарезал хлеб для застолья. – Чужая душа потемки, часом человек сам за себя не поручится, не то что за другого. Оно, у меня совесть чистая, не крал, не убивал, не злодейство-вал. Против власти ни зла, ни намеренья не имел: не нами поставлена, не нам снимать. Только чует мое сердце, недолго мне с вами. – Он снова замкнулся взором, поскучнел. – Дай-то Бог, обойдется.
Тихий ангел пролетел над столом, после чего все разом загудели, торопясь и перебивая друг друга. Но вскоре из общего гомонка упрямо выделился пробивной тенорок Семена Блохина – бригадного заводилы, с вечным набором прибауток в улыбчивых губах:
– Мы за тебя горой, Иван, – торопился он, то и дело постреливая тревожными глазами в сторону Золотарева, – один за всех, все – за одного, куда иголка, туда и нитка. – Он тряхнул курчавой, с ранними залысинами головой. – Бог не выдаст – свинья не съест!
– Живем сами по себе, никого не трогаем, – хмуро поддержал его с дальнего конца стола Яша Хворостинин, исподлобья скользнув по Золотареву недобрым взглядом, – кому не нравится, не держим. – Широкоскулое, в крупных рябинах лицо Яши напряженно потемнело. – Скатертью дорога! Ты, Иван, не сомневайся, я за себя ручаюсь.
Иван благодарно посветился на него, но вслух сказал со снисходительной укоризной:
– Не зарекайся, Яша, не зарекайся, всякое в жизни случается: бывает, так прижмет – от родной матери открестишься.
И Золотарев вдруг почувствовал, как выжидающе скрестилась на нем их общая неприязнь. Он растерянно смешался, сознавая жалкую бесполезность приходивших на ум оправданий, попытался даже сделать вид, что ничего не замечает, но в эту мучительную для него минуту откуда-то из дальней глубины зоревых сумерек, приближаясь, потек к ним протяжный гудок дежурной дрезины, которая вскоре темным колобком выявилась у стрелок разъездного семафора, резко сбавила ход, плавно откатившись на ветку запасного пути.
– Это, видно, по мою душу, – облегченно заторопился Золотарев, почти бегом пускаясь к разъезду, – делать им нечего!
Последнее, что запало ему перед уходом, было потерянное лицо Марии, маячившее в течение всего разговора за спиной у Хохлушкина. Кроме прочего, его поразило в ее облике выражение полной и уже окончательной обреченности. "Будь ты неладна, шалая, – горела земля под ним, – свалилась на мою голову!"
Еще издали Золотарев разглядел в проеме спущенного окна кабины чубатую фигуру Алимушкина, за которой смутно проглядывалось несколько силуэтов в форменных фуражках.
– Слушай сюда, Золотарев, – Алимушкина трясло азартной дрожью, – мы сейчас в Бобрик-Донской обернемся, накроем эту парочку со станции, там у нас дело с обыском, не меньше полночи займет, а к утру опять сюда завернем, бди начеку, будем брать твоего мудилу-праведника. Когда вернемся, механик тебе просигналит. Поднимешь его сам, других не буди, не развели бы паники. В нашем деле свой лоск требуется, чтобы комар носа не подточил, понял? Бывай. – И уже отворачиваясь, скомандовал в сумрак кабины. – Трогай, Шинкарев!
Дрезина плавно взяла с места и с нарастающей скоростью покатилась в густеющую темь, помигивая оттуда тающим светлячком тормозного фонаря...
Застолье кончилось еще до его возвращения. За аккуратно прибранным столом, уткнув распатланные вихры в сложенные перед собой ладони, в одиночестве посапывал Филя Калинин, бывший обходчик, слабый к выпивке, но при этом нрава простого и покладистого. И в Золотаре-ве на короткое мгновение вдруг шевельнулась искренняя зависть к этому его безмятежному забытью: "Завалиться бы сейчас на боковую и провались оно все пропадом!"
Но тут же приглушенные голоса, выплывшие к нему из-под тупикового спуска, вернули его к действительности, и он, вновь наливаясь решительностью, шагнул туда, на эти голоса, и более не терзался уже тревогой или сомнениями. "Что это я, в самом деле, – вызверился он на самого себя, – как баба, ей-Богу!"








