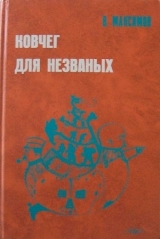
Текст книги "Ковчег для незваных"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– Бери, – широким жестом Федор выкинул перед ним пачку "Беломора". Бери пару.
Мужик довольно хмыкнул, взял, откинул капюшон, обнажив крупную голову в старенькой солдатской шапке, под которой оказалось совсем еще не старое лицо с синими глазами и малость ноздреватым уже носом. Старательно разминая папиросу, он заботился ни табачинки не рассыпать, долго и с явным удовольствием обнюхивал ее со всех сторон, пока, наконец, с неменьшим удовольствием прикурил от протянутой Федором трофейной зажигалки:
– Раз предсельсовет угощал, а боле не доводилось. – Он осклабил в блаженной улыбке свои желтые, крепкие опять же, зубы. – Как люди живут, куды нам при нашей темноте!
– Шапку-то носишь, на фронте был? – Федору хотелось завязать хоть какой разговор, лишь бы не спускаться туда, в ту вонь и ругань, и даже балалайка там, с ее дурацким припевом, вызывала у него здесь, на палубе, одну только злобу, не более. – У кого?
– Не, – безоблачно и охотно ответил тот, – у мине язва. С издетства еще. Я и по малолет-ству желудком слабый был, а как пошло-поехало, колхозы да голодуха, тюря да лебеда, совсем ослабел. – Беседа вроде бы погасла сама по себе, еще и не начавшись, но тот вдруг сам словоохотливо взял ее в руки. – Я в эту самую заваруху, в семнадцатом, в парнях ходил, вскорости и обженился, никому века не зажил, света не застил. Баба мине попалась как баба, ни красы в ей той не было, ни ленивая, ни работящая, а так, с серединки на половинку. Тольки, парень, сильно я ее любил, без нее жить не мог, присохла моя грешная душа к ней, будто кузнецким железом намертво припаяло: кайлом рви – не оторвешь, гвоздодером тяни – не оттянешь. Только это нынче, а тогда жили навроде всех людей: землю работали, хлеб когда был – ели, детишками распложались. Деревня наша, от трубы до трубы – воробью раз сигнуть, осьнадцать дворов, как отдать, избенки все мелкота, ни одного пятистенника, и церквы тожеть нету, одно, понимаешь, названье, что деревня. Какие мы там никакие, а тожеть – люди. И что это за напасть такая на человека, – он даже как бы всплеснул или, вернее, пытался всплеснуть руками: уж больно неудобно в его брезентовом плаще колом было это сделать, – не могуть в ладу на белом свете жить. Как пошло тогда, как поехало в семнадцатом, то да се и крутится. А по нашей-то деревеньке вшивой, времечко золотое-то такой косой да этаким кистенем прош-лось, что любо-дорого! В самую первую голодуху закатилась к нам ватага не ватага, команда не команда, а так, ватажонка, команденка одна – восемь рыл, как на подбор: "Давай хлеб!" А иде его тогда, хлеба-то того, нам взять было, тольки родить оставалось. Почитай, в каждой избе покойник али полпокойника. Тряхнули и мене, грешным делом. Хорошо тряхнули, славно, – "хорошо" он произнес врастяжку, будто для прыжка напрягался, и чуть побитые ноздри его яростно вздрогнули, – век помнить буду... Только зачем ее-то восемь лбов, очередью, ить не жалезная... Вот она тебе язва моя, даром оставляю, я добрай...
И двинулся себе, даже капюшона не натянул, по шатко-валкой палубе, будто в лобовую двинулся.
"Лезешь с разговорами, – объязвил себя Федор, – нарвешься когда-нибудь, болтун – находка для шпиона!"
И тоже повернул, но только в другую сторону, туда, в ад, в чад, в ругань и плач, в дребедень балалаечную, и новое, неизвестное дотоле смущение властно входило к нему в душу.
3
Отец сказал:
– Будя, вылезай, чего рыть, всё одно там камень, сплошь камень, вот земля-то, прости Господи, тьфу.
Земля и впрямь была короткая, до пояса доберешь – камень, причем такой, хоть на кремни. Но зато на запах и цвет Федор – а уж он-то покружил по свету – ничего подобного до сих пор не встречал: больше на торф походила, только другой крепости и окраски – черная, с синева-тым отливом, с запахом давно остывшей печи.
Вдвоем с отцом они опустили бабку в эту землю, разогнулись и молча замерли, как бы оценивая свою работу. Но это им только казалось, если казалось вообще. Просто в эту короткую для них минуту они расставались с чем-то таким, что уже не возвращается: с зовом чьего-то праха, с тенью чьей-то радости, с теплом зимних вечеров, запахом свежеиспеченного хлеба, рвущим легкие дымом далекой Сычевки, да разве можно высказать всё, о чем думает человек в эту минуту!
Ее, этой старой девочки гроб, сколоченный на скорую руку из подручного материала, плыл в убогой могиле, словно детский кораблик по талой воде, и никто его уже не направлял, и негде уже ему было остановиться. Господи, что же это такое: судьба, рок, предназначение, чтобы сычевская, в тридесятом колене крестьянка отдавала Богу душу на бывшей японской земле без креста и покаяния? Господи, утоли ея печали!
Мать не плакала, даже не причитала по обычаю, а только сухо смотрела перед собой, и такое запрокинутое отчаяние стояло у нее в глазах, что все вокруг как бы увядало и старилось.
– Ладно, будя, – буркнул отец, чуть покосившись в ее сторону, заваливай, все там бу-дем. – И первый принялся за работу: резко, нахраписто, с каким-то непонятным остервенением. – Пожила.
В две лопаты они быстро накрыли бабку, выровняли и даже обложили холмик завалящим деренком. Потом отец выдернул с ближнего пригорка какую-то местную диковинку с пузырча-тым стволом, вкопал ее в могильное изголовье и лишь после этого отряхнулся, охолонул, отмяк:
– Ну вот, все как у добрых людей. – Он расчувствовался, глядя на свою работу, мягко засветился весь. – Наш брат тоже не без понятия. – Он вновь поискал глазами в сторону жены. – Пошли, мать, чего уж там, не наплачешься.
Та, действительно, словно заведенная, поднялась, повернулась и двинулась к поселку, а он подался за ней, стараясь и не оказаться назойливым, и в то же самое время всем своим видом убедить ее, что он, ее муж, здесь, рядом, и "тоже понятие имеет", и в случае чего окажет себя.
Со стороны эти заходы его могли показаться немного смешными, но Федор-то доподлинно знал, что любит отец свою бессловесную жену, до беспамятства любит, хоть, видно, двух слов ей ласковых за всю жизнь не сказал, век в страхе держал, характер показывал, и поэтому, глядя на них сейчас, парень вновь и вновь проникался к ним обоим острой, до ломоты под ложечкой, нежностью: "Дал Бог родителей, водой не разольешь, черти полосатые!"
Жизнь впереди представлялась ему теперь маняще загадочной. Хоть за четыре года военной карусели он и попривык к резким переменам судьбы, но это вот, почти внезапное перемещение из одной части света в другую вызывало в нем чувство полусна-полуяви, невсамделишности его сегодняшнего существования: "Надо же, елки-палки, занесло куда, к черту на кулички, хочешь – не хочешь, живи теперь!"
С океана тянуло легкой прелью и канатной смолой. Ровная, почти без морщинки вода рас-пластывалась до горизонта, и блистающая ее поверхность беззвучно дышала, слегка испаряясь бледно-сиреневой дымкой. Видно, таким и увиделся этот простор тому, кто назвал его "тихим".
Поминать завернули в столовую. С трудом нашли свободное место, где мать выпростала из полотенца тарелку с приготовленной заранее кутьей:
– Помянем, Христа ради, рабу Божью Аграфену, – она меленько перекрестилась. – Буде земля ей пухом, Царствие ей Небесное.
– Готовил к новоселью, а пить за упокой приходится, – отец воровато извлек из-под телогрейки бутылку с самогоном, зубами выдернул обернутую тряпицей затычку. – Добро бы пригласить кого, непорядок это – без гостя поминать, мы все ж таки народ крещеный.
Федор машинально огляделся, неожиданно для себя встретившись глазами со своим собе-седником с парохода: тот в одиночестве сидел за пустым столом, понятливо устремляясь в их сторону.
– Здоров, земляк, – кивнул ему Федор. – Подгребай, гостем будешь, бабка вот померла, поминаем.
Поминали сперва молча, но после третьей деревенский первач взял свое: языки развязались.
– Значит, Аграфеной звали? – гость завел издалека, как бы прилаживаясь, примеряясь. – Это надо же, всю жизнь в деревне прожила, на Курилы помирать приехала. Сдвинулась Расея-матушка, поехали за кудыкины горы, а где остановка будет, один Бог знает. На этих Курилах и земли-то, считай, нету, один камень, и тот на огне стоит, вот-вот провалится. Вон, чуете? – Где-то вдали глухо и сдавленно погрохатывало, отчего утлая коробка столовой едва ощутимо сотрясалась. – То-то и оно. Говорят, из Москвы начальство грозится быть – порядок наводить. Одначе у небесной канцелярии свое начальство, ихних приказов не слушается. Сидеть бы нашему брату на месте, у печи, а не шляться туда-сюда по миру. – Он решительно поднялся. Ладно, пора мне, спасибо на угощении, Христос с вами. Охота будет, заворачивайте, я тут внизу, аккурат под самыми японцами, в землянке расположился. Матвея Загладина спросите, укажут.
И двинулся к выходу: большой, степенный, уверенный.
– Корневой, видать, человек, – проследил за ним до выхода Тихон, знает себе цену, такие раньше архиреями служили али по торговой части, сразу видно, умеет разговоры разгова-ривать. Бывало...
Речь отца грозила затянуться надолго, и Федор, которому позарез необходимо было показаться кадровику, заспешил:
– Допивайте без меня. Мне еще оформиться надо, а потом к военкому на учет становиться. Бывайте...
4
В отделе кадров оказалось не протолкаться: люди сидели, стояли, входили и выходили, до самого потолка густо пластался табачный дым, в котором бестелесыми рыбами тонули, плавали голоса, множество голосов.
Кто-то рядом с Федором, бровастое лицо под шапкой-ушанкой в дремучей щетине, монотонно жаловался без адреса:
– Пригнали, куда Макар телят не гонял, а порядка нету. Дали жилье на пятерых, вдвох не повернуться, не жилье, а сени, изо всех дырок текёт. Опять же харчи. Мне ихней рыбы на дух не надоть, витамина, говорят, много, полезная, значит, а мне эта витамина безо всякой пользы, только на двор тянет. Мне без круп еда – не еда. В Москве кисельные берега сулили...
Из-за жиденькой перегородки, отделявшей кабинет начальника от его же приемной, доносился скрипучий, с надрывом фальцет:
– Какой ты к чертовой матери сварщик, без году неделя к ведрам дужки приваривал, да и на кой чёрт мне сварщики, рабочие к сетям нужны! Да не суй ты мне свою красную книжечку, у меня их целый ящик, хоть на елку вешай, на ремзаводе вашего брата полный комплект. Вербовался разнорабочим, вот и давай к сетям. Всё... Следующий!
Промаявшись в этой колготне чуть не до вечера, Федор проник, наконец, в заветный кабинет, где очутился перед взъерошенным горбуном лет пятидесяти, в очках с проволочной оправой, из-под которых на него вопросительно уставились колючие от постоянной злости глаза:
– Договор при себе? – Он цепко выхватил у Федора протянутые им бумаги, едва взглянув, выдвинул волосатую руку к горке папок на полке сбоку от себя и, будто фокусник крапленую карту, ловко выдернул оттуда необходимый скоросшиватель. – Так. Посмотрим, – быстренько перелистал и сразу же обмяк, подобрел. – Прямо скажем, Самохин Федор Тихонович, личное дело у тебя красивое. – Он откровенно любовался посетителем. – С такой анкетой хоть сейчас в партию, сам рекомендацию дам. Нам такие люди нужны, Самохин, такие орлы нынче на дороге не валяются, сюда всё больше шпана, рвачи, золотая рота за длинным рублем налетела: дерьма без присмотра не оставь, разворуют и пропьют. И к тому же, граница близко, глаз да глаз нужен, спьяну-то чего в голову не взбредет. Нам на почтовый катер человек требуется, пост ответственный, японские воды – рукой подать, глядеть нужно в оба, тут необходим проверен-ный кадр. Я вот смотрю, ты в войсковой охране служил, шоферское дело тоже знаешь, тебе и карты в руки. Механика нехитрая, на ремзаводе ребята натаскают. Лады? – И, заметив, видно, что Федор еще колеблется, заспешил, заторопился: – Давай, дуй в медпункт, здесь же в бараке, с другого бока, бери справку о здоровье и оформляйся. Всё. Следующий!..
Около медпункта стоять не пришлось. Дверь, ведущая туда прямо с улицы, была открыта настежь. Федор, постучавшись для порядка о косяк, вошел и, едва открыв рот, захлебнулся начатым словом: у открытого шкафчика с медикаментами стояла женщина в белом халате и смотрела на него так, будто давно и уверенно ждала его прихода.
– Полина Васильевна... Полина... Поля...
И на него пахнуло той гулкой, сырой осенью сорок первого года, когда он после контузии, полученной при отступлении от Брянска, отлеживался в одном из московских госпиталей в ожидании выписки и отправки на фронт. Дни за окном стояли тусклые, похожие один на другой, с порывистой изморосью и мокрыми туманами по вечерам. Сквозь ржавую хвою госпитального парка хмуро просвечивало разбухшее небо, распатланные облака вяло волочили вихрастые кос-мы по верхушкам деревьев, и приплюснутый сыростью окрест мутно растекался к окраинным горизонтам.
С утра до отбоя, изнывая от безделья, Федор резался в шашки со своим соседом по палате Яшей Куперником – стрелком-радистом, в бинтах, как в коконе, с прорезями глаз и рта на безликой марле, дни текли под стать погоде, грузно, серо, и госпитальной тягомотине этой, казалось, теперь не будет конца.
На Яшу это спертое однообразие никак не действовало, скорее наоборот: день ото дня тот становился все оживленнее и напористей. Федора располагала в нем неиссякаемая дурашли-вость, сквозь которую временами, словно ржа на зеркальной жести, проступала, прорезалась потаенная горечь. Казалось, Яша с яростной одержимостью укачивал в себе словами, потоком, лавиной слов долгую и уже неутолимую боль.
– Родители считали меня вундеркиндом, – он влажно поблескивал глазами из-под бинтов, завораживая напарника вязью нервной скороговорки, – только потому, что я в пять лет умел одним пальцем отбарабанить на пианино "чижик-пыжик, где ты был". И можешь себе представить, они потащили меня в столицу нашей родины, к самому Ойстраху. Что там было, вспомнить страшно: папа кричит, мама плачет, Ойстрах последние волосы на себе рвет: еще один вундеркинд на его голову! И на мое еврейское счастье я-таки в конце концов попал в эту самую консерваторию, чтоб ей было пусто, и даже почти кончил ее, спасибо, война помешала. Теперь вот, – легонько постучал друг о друга загипсованными культями, и сквозь марлевые прорези на Федора излилось короткое отчаянье, – слава Богу, отмучился, разве что на барабане без палочек приспособят...
Это почти исступленное отчаянье с каждым днем всё более отягощало Федора сознанием какой-то смутной вины. Федор постепенно начинал стыдиться своей легкой контузии, своего аппетита, даже своих не поврежденных войной рук. Ему казалось, что, уцелев такой недорогой ценой, он как бы обокрал Яшу и вообще ребят вроде этого Яши, а теперь живет за их счет, на их хлебах и здоровье. И, хотя в голове по утрам еще тошнотно позванивало, острой болью отдава-ясь в затылке, Федор томился ожиданием вырваться отсюда в любое пекло, лишь бы поскорее. Он уже потерял было надежду, когда однажды под вечер его вызвали в кабинет дежурного врача, где навстречу ему поднялся высокий, с ранними залысинами майор:
– Самохин? Федор Тихонович? Девятнадцатого года рождения? – Майор, не глядя на него, резко перелистывал папку, то и дело слюнявя прокуренные пальцы. – Комсомолец? Из кресть-ян? Деревня Сычевка Тульской области? Не женат? Прошел боевое крещение? Так. – Здесь он в первый раз вскинулся на Федора, взгляд был долгий, неподвижный и скорее в себя, чем вовне. – Что ж, Самохин, анкета у вас подходящая, пролетарская кость застрянет в горле у любого врага. Берем вас на объект особой важности, проявляем к вам доверие, понимать должны, строжайшая секретность, как говорится, ешь суп с грибами... Понятно?
– Понятно, – Федор не знал, горевать или радоваться: возможность наконец-то вырваться из госпитальных стен празднично облегчала его, но в то же время служба в ведомстве, о котором вокруг говорилось с опасливой оглядкой, ему никак не светила. – Наше дело солдатское.
Майор одобрительно крякнул, захлопнул папку, воззрился в его сторону, заученно опреде-лил:
– Завтра в восемь ноль-ноль, в приемном покое. Документы получите у меня. Ясно? Выполняйте.
Наутро обшарпанная полуторка, переваливаясь с колеса на колесо, тащила его подмосковны-ми перелесками к новому месту назначения. Поздняя осень окисала сыростью и распутицей. Голые чащи с пронзительно яркими вкраплениями рябиновых гроздьев источались липкой, сло-вно плесень, изморосью. Редкие прогалины стекали под колеса сплошной хлябью, и временами казалось, что машина вовсе не катится, а плывет сквозь рухнувшее на землю небо.
Федор маялся в кузове, среди мешков и ящиков, покуривал, поругивался тихонько на ухабах, чутко подремывал: приходилось часто вставать, спускаться в придорожную топь, подсовывать под колеса заготовленные на этот случай горбыли, а затем в паре с майором упираться плечом в задний борт, помогая колымаге выскрестись из очередной ловушки.
Шофер – долговязый старшина, ушанка сдвинута почти на ухо, новенький бушлат нарас-пашку – мрачно матерился с подножки, посверкивая в их сторону металлическими зубами:
– Техника, твою мать! Утильсырье на колесах, туды твою растуды, на ней не ездить, а только орехи колоть, и то не годится, мать твою перемать! Резина совсем лысая, сколько прошу, едреный стос, никакого внимания, одно название, что органы, мать их так!
– Прекратите, Губин, за такие разговорчики и под трибунал недолго попасть. – Стоя по щиколотку в грязи, майор было попытался для пущего убеждения даже притопнуть ногой, но в голосе его при этом не чувствовалось ни воли, ни настойчивости, одна только усталость: сплошная, долгая, глубокая. – Вы чекист, Губин, стыдитесь!
С наступлением сумерек на пути стали возникать дозоры боевого охранения. По мере следования они учащались, выявляясь из полутьмы в самых неожиданных местах: сказывалась близость прифронтовой полосы. Майор обменивался с часовыми шепотной скороговоркой, и полуторка следовала дальше: в лес, в ненастье, в наступающую ночь.
Когда, наконец, фары выхватили из чернильной теми бревенчатый дом с наглухо задвинуты-ми ставнями, Федору уже не хотелось ни вставать, ни двигаться: ночь навалилась на него всей своей сонной мощью. Всё последующее звучало, мельтешило, двигалось где-то извне, вокруг, поверх осевшей в нем дремотной тяжести. С этой тяжестью его и несло затем через слякоть и темь в тускло освещенную семилинейкой комнату, где перед ним обозначилось крепкое, в мелких рябинах лицо широкоплечего парня в расхристанной гимнастерке:
– Сморило, служивый! – Парень суетился вокруг стола, расставляя на нем нехитрую снедь: спирт, хлеб, консервы. – Опрокинь с дороги и – на боковую. Я тут пожух, один сидючи, душу отвести не с кем. Хотя место тут, – он многозначительно подмигнул гостю, – скучать не приходится...
Под его ласковый говорок Федор и заснул, окончательно сморенный хмельной истомой. И снилось ему жаркое лето в деревне, с голубыми бубенцами васильков в почти коричневой ржи, через которую причудливо вилась пыльная колея. По ней, по этой колее, навстречу ему, как бы не касаясь земли, двигалась его мать, и дорожная пыль из-под ее босых ног плыла наподобие легкого облачка: "Испей, Феденька, водички, а то кваску холодного! Феденька!.." И голос ее обволакивал Федора безмятежностью и синевой.
И сон в руку: Федор пробудился, осиянный такой слепящей благодатью, что хотелось зажмуриться и долго лежать так, неподвижно, освобождаясь от вчерашней тяжести и пасмурных воспоминаний. За окном щедро царствовало солнце. Полая еще накануне даль ожила, раздвину-лась и принарядилась. Празднично умытое небо туго вытянулось к самому зениту. Сквозь остов ближнего леса белесой паутиной тянулся туман, в котором, словно цветные рыбы в аквариуме, трепетала полуистлевшая листва: черное с золотом, подсвеченное дымчатой капелью.
– Считай, что погоду привез, солдат, – вчерашний парень стоял на пороге с охапкой дров на руках, сияя своим крепким, в мелких рябинах обликом, застегнутый на все пуговицы и молодцевато подтянутый, – закисли, в самом деле, от этой мокроты, думали, так до снега и доморосит. – Он ловко орудовал растопкой, огонь занимался у него под рукой споро и весело. Разом чайком опохмелимся и – на доклад к начальству. Майор наш только с виду строг, а в деле мужик уважительный.
Так же ловко и аккуратно он собрал на стол, заварил чай, разлил кипяток в кружки, а затем по-хозяйски уселся напротив. Было видно, что он искренне рад новому сослуживцу, что роль хлебосольного хозяина ему нравится и что вообще для него собеседник или слушатель – долгожданный подарок. "Да, видно, насиделся ты здесь бирюком, брат, – присматривался, прислушивался, мотал на ус Федор, – дорвался теперь до разговору".
– Меня, для ясности, Николаем зовут, Носов фамилия. – Он явно блаженствовал, прихлебывая из кружки. – Тоже после госпиталя сюда попал, возле Киева под бомбежку угораздило, осколок чуть повыше поясницы застрял, к погоде ноет, а так – ничего. У нас тут все чем-нито поврежденные, кто телою, кто – кумполом. Одно слово, полтора инвалида да баба впридачу. Только баба, я тебе скажу, жох, одной титькой двух прибьет, с характером женщина, ничего не скажешь, врачиха, сам увидишь. Механик при самолете опять же фрукт, тронутый, правда, но безвредный. Майор этот, вот и вся команда. Летунов, когда надо, из поселка привозят, верст пять будет, там у их полк стоит.
– А когда это самое "надо"-то? – попробовал осторожно пощупать Федор. – Что за объект тут такой?
Тот словно только и ждал этого его любопытства: радужно просиял, заспешил, заторопился, отставив кружку в сторону и доверительно к нему подавшись:
– Оно, конечно, наше дело телячье, солдатское, винт в руки и – топай себе в боевое охранение, однако, верно я скажу тебе, братишка, объект этот самой что ни на есть секретной важности. Разведку в тыл врага забрасываем, понимать надо! Всё больше молодняк, вроде нас с тобой, зато по-немецкому, как по-нашему, чешут. Майор их здесь натаскивает напоследок, а Полина Васильевна, врачиха, значит, насчет здоровья проверяет, больного на такое дело не пошлешь. Плохо только, – он сожалительно вздохнул, поднялся, промеж себя, как молчуны, живем, всяк в своей щели прячется, одно – по службе и говорим, если что. С механиком другой раз можно перекинуться, когда он трезвый, только ить не просыхает совсем. Мы с тобой в этой халупе вдвох обитаем, белая кость там, – он кивнул в окно, – в особняке живет. Парень, с ног до головы – по уставу, уже нетерпеливо топтался у порога. Пора по начальству, солдат. – И уже выходя: – Как зовут-то тебя?
За редкими деревьями перед крыльцом проглядывалась большая, тщательно выкошенная поляна в окружении густого подлеска, за которым возвышалось темное полотнище бора. Тропа вывела их сначала на поляну, а потом через нее и через подлесок в самый бор, к дачного вида строению, облепленному со всех сторон целым набором пристроек и пристроечек.
– Заходи, не укусит, – Носов легонько подтолкнул его к дому. – Как войдешь, дверь по левую руку, а я покурю покуда. Главное – молчи, пускай позудит, он это любит, позудит, позудит и отпустит. С Богом!
После слепящего света поляны в прихожей было, как в погребе. Федор почти на ощупь отыскал нужную дверь, постучал. За дверью некоторое время стояла тишина, затем глухо отозвалось:
– Войдите. – Майор сидел, шинель на плечах, глядя куда-то сквозь Федора, вялым жестом пресек попытку гостя доложить по форме. – Отставить. Садитесь. – И сразу, без всякого выражения на лице, сухо, затверженно, с каждым словом всё уходя и уходя долгим взглядом в самого себя: – Органы, Самохин, – карающий меч революции, глаза и уши нашей партии. Внутренний враг сегодня действует у нас в тылу заодно с врагом внешним, под угрозой завоева-ния великого Октября. Международная гидра задумала вновь навязать нашему рабочему классу и трудовому крестьянству царя, помещиков и капиталистов. Одним словом, – закончил он буднично и почему-то мотнул затылком на портрет Дзержинского, одиноко висевший у него над головой, смотри в оба. Всё, что делается на объекте, – военная тайна. Что видишь, что слы-шишь, тут же забудь, выброси из головы. Любое разглашение трибунал, вплоть до высшей меры. Ясно? Насчет обязанностей Носов просветит. Зайдите сейчас к врачу, дверь напротив, покажитесь для порядка. Идите.
Еще до того, как Федор ее увидел, вернее с того момента, когда Носов упомянул о ней, его не оставляло смешанное чувство смутной тревоги и преддверия какой-то вещей для него неожиданности. И стоило Федору увидеть ее, чтобы предчувствие лишь укрепилось и обрело явь: перед ним оказалась рослая и ровно в меру этого роста полная женщина лет тридцати с насмешливо властным выражением на крупно и ладно вылепленном лице. Темные волосы, уложенные в высокий пучок, венчали ее упрямой посадки голову, словно корона.
– Здоров, как бык, – отводя от его груди стетоскоп, добродушно хмыкнула она, – можешь облачаться. Жить тебе и жить, солдат, до ста лет, если раньше не умрешь. Из деревни, видно? – Ее насмешливость не обижала, скорее подзадоривала, вызывала на разговор. – Откуда, из какой области?
– Тульский. – Федор невольно заражался ее тоном. – Нас еще самоварниками зовут.
Она коротко колыхнула всем телом, просияла уверенным обликом, младенчески обнажая две ямочки на щеках, одну – на подбородке:
– Ладно, топай, самоварник, служи Советскому Союзу, тебе к докторам рано ходить, а так, на огонек, заглядывай, тоска здесь, не приведи Господи, зеленая.
Она снисходительно, как маленького, погладила его по стриженой голове. И это ее бездумное движение вызвало в нем такую жаркую волну ребячьей благодарности, что он, боясь расплакаться, опрометью бросился прочь.
Носов подался Федору навстречу, нетерпеливо приплясывая: парня заметно распирало тряское любопытство:
– Ну как? – Он кивнул в сторону дома. – Хороша парочка: баран да ярочка? Друг дружки стоят! Живут, как кошка с собакой, только виду не показывают. Чегой-то у них промеж себя давно тянется, думаю так, с довойны еще, катавасия какая-то. – Прищурил белесые ресницы, вопросительно воззрился. – Зазывала, небось? Не связывайся ты с этим делом, погоришь, как швед. Тут до тебя много перебывало, все на фронт загремели, у этого майора не забалуешься, мягко стелет да жестко просыпаться. Пойдем-ка лучше к механику, с им веселее будет, хотя тоже пыльным мешком из-за угла трахнутый...
Они обогнули дом и задним ходом, через террасу, поднялись по шаткой лестнице в мезонин, сплошь заваленный горами летней рухляди. На всем здесь лежал налет тлена и запустения: беспорядочная мешанина мебельного лома, пыльного тряпья и паутины.
– Леонид Петрович, – опасливо позвал Носов, заговорщицки подмигнув спутнику, – спите?
В дальнем углу, справа от единственного окна, натужно заскрипели пружины, потом на фоне оконного света проявилась взлохмаченная голова без лица. Постепенно привыкая к полумраку, Федор разглядел на слитном пятне этой головы пухлые или распухшие губы в обрамлении недельной щетины, над ними – нос картофелиной и глубоко запавшие светлячки глаз. Прежде чем он услышал голос, на него потянуло запахом устойчивого перегара.
– А-а, это ты, Никола, подгребай давай. – Голова исчезла, откачнувшись в темь, снова тяжко скрипнули пружины. – Здесь вроде еще осталось малость, добьем.
Когда глаза Федора окончательно освоились с пыльным сумраком, он разглядел в углу под окном старый диван без спинки, кое-как застеленный армейским одеялом, а на нем сильно помятую похмельем фигуру с полупочатой бутылкой в руках.
– Следующий прибыл? – Губы среди щетины раздвинулись в хмурой ухмылке. – Так сказать, еще один эксперимент. Посмотрим, посмотрим, хватит ли вас, дорогой товарищ. – Он извлек откуда-то из-под себя погнутую вкривь и вкось кружку. – А пока садитесь, дорогой товарищ, обмоем, так сказать, ваше прибытие. Приборов больше нет, привыкайте, дорогой, по очереди.
Куцая выпивка слегка ударила в голову, но к разговору не расположила. Только механик, замыкаясь в хмельном кругу, отрешенно светился дальними видениями:
– Вот помню, в Гори ребята с моста прыгали... – Но, видно, живо представив себе, как они – эти ребята – прыгали с моста в Гори, он счел тему исчерпанной и умолк до следующего воспоминания. – Когда я увидел ее в первый раз там, в Краснодаре...
Кого и как он увидел в Краснодаре, слушателям оставалось догадываться. В конце концов механик сомлел, откинулся на спину, и по щетинистому его лицу разлилась блаженная дремота: наверное, в эту минуту ему мерещилась еще одна радужная картина прошлого, которая уже не нуждалась в свидетелях со стороны.
На обратном пути Носов беззлобно жаловался Федору:
– Видал компанию? Считай, четвертый месяц с ими валандаюсь, и конца краю этому не видно. Правду сказать, служба тут – не бей лежачего: три печи вытопить да за мотором присматривать, вон возле стожка под маскировкой прячется. – Федор проследил его взгляд: в противоположной части поляны, впритык к лесу, стоял затянутый маскировочной сеткой одинокий "кукурузник". – Харчи из поселка возят, стирка тоже там; одно слово – солдат спит, служба идет, жить можно. Чего я на фронте том не видал, нынче дураков нету. Обойдешь сегодня в ночь это хозяйство разок-другой и спи себе до третьих петухов, а завтрева мой черед... Только от кого тут караулить, кругом оцепление на оцеплении, оцеплением погоняет.
Поздним вечером Федор вышел в свой первый обход. Осенняя темь матерела, набирала силу, круто сгущая холодеющий воздух. Время от времени то тут, то там от стылой бездны отрыва-лась звезда и, рассекая небо наискосок, осыпалась, исчезала в ночной черноте. Всё кругом дышало ровным покоем, жилой глубиной и мирной безмятежностью. Даже не верилось, что где-то совсем рядом вытягивался фронт, может быть, самой большой на этом веку войны.
"И сподобило же тебя попасть сюда, Федя, – подвел он черту минувшему дню, – не сносить тебе тут головы!"
5
Погода установилась ясная, с ранними заморозками, с солнечной капелью в полдень, с зябкими туманами по вечерам. Обязательства у Федора оказались и впрямь несложными. На рассвете он, наскоро перекусив, отправлялся в лес, рубил сухостой на дрова, загружал и растапливал две печи – у майора и врачихи – в большом доме и шел отсыпаться до самого обеда к себе в караулку. В те часы, когда Федор управлялся, оба еще спали, а потом спал он, после чего каждый из них закрывался на своей половине, и поэтому за два дня жизни на объекте ему так и не удалось толком увидеть их, не то что перекинуться словом. Вечерами, обходя хозяйство, Федор подолгу вглядывался в светящийся проем ее окна, но зайти, сколько себя ни уговаривал, все-таки не решился.








