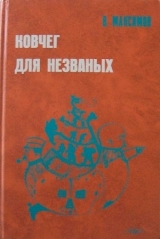
Текст книги "Ковчег для незваных"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
"Не по тебе дерево, Федя, – отмахивался он от соблазна заглянуть в манящую пропасть, – только на смех подымет".
На третий день утром, возвращаясь из леса, он на крыльце большого дома нос к носу столкнулся с черноволосым парнишкой, почти мальчиком, в спортивной паре и парусиновых тапочках на босу ногу. Тот, деловито поздоровавшись, сбежал по ступенькам, сосредоточенно занятый на ходу гимнастикой. "Не поможет тебе, друг, твоя физкультура, – усмехнулся про себя Федор, глядя на его щуплую, даже тщедушную плоть,– попроси лучше маму родить тебя сызнова".
Майор, против обыкновения, оказался на месте. Тут же находился и механик, на этот раз выбритый до синевы, в заношенной, но щегольской кожаной куртке, из-под которой виднелась новенькая гимнастерка с сержантскими треугольниками в голубых петлицах.
– Вот что, Самохин, – майор впервые окинул Федора оценивающе осмысленным взглядом, – поступаешь в распоряжение Лялина. С сегодняшнего дня каждое его слово для тебя – приказ. На объекте состояние боевой тревоги номер один. Ясно? Выполняйте.
По дороге механик морщился похмельно тяжелым лицом, говорил отрывисто, в сердцах:
– Чудит на радость маме, чмур недоделанный... Поможешь заправить, – он боднул воздух впереди себя, – эту керосинку, вот и вся твоя, дорогой товарищ, тревога номер один. Остальное – моя забота.– Вяло копошась вокруг самолета, он продолжал тихонько поругиваться и вор-чать. – На нем не только в тыл врага, на нем дышать страшно, вот-вот развалится... Конашевич сумасшедший, вот и взлетает... Этот Конашевич и на швейной машине взлетит... Нашли дурака, вот и пользуются... Иди себе, солдат, не путайся под ногами, лучше выпей с Николой, больше пользы будет.
– Мне приказано, я и путаюсь, – обиделся Федор. – Начальников много, а я один.
Механик повернулся к нему всем корпусом, виновато поморщился, сказал тихо, печально, назидательно:
– Человека с похмелья понимать надо, солдат, человек в это время не в себе находится, человек в это время в мятежных сферах витает, его дух разрушения жаждет... Чу! – внезапно встрепенулся он: неподалеку, среди леса, возникло сбивчивое тарахтение мотора. – Еще один гроб на колесах грядет, Конашевича на заклание тащат.
По дороге, ведущей из леса, вперевалку выкатилась знакомая Федору полуторка и вскоре заглохла перед крыльцом караулки. Тут же от машины отделился человек в коже с головы до ног и почти бегом направился к ним через поле.
– Леха! – он еще издалека принялся размахивать летным шлемом над собой. – Не дрейфь, за счет фанеры взлетит, она легкая! Здорово, Леха!
Появление гостя преобразило механика: глаза его ожили, приобрели блеск, плечи выпрями-лись, на опавших щеках проступило нечто вроде румянца:
– У тебя, Вовчик, и без фанеры взлетит, здорово! – Лялин бросился к нему навстречу, они обнялись и так, обнявшись, принялись неуклюже тискать друг друга. – Прогреем разок-другой, захлопочет, как миленькая, не таких в чувство приводили.
– Давно мы с тобой не пили, Леха, – удовлетворенно похохатывал гость, – вернусь, напьемся – нальемся в драбадан!
– В доску!
– В лоск!
– В дымину!
– В стельку!
– В дрезину!
Они, видно, повторяли эту игру не в первый раз, в чем угадывался какой-то особый, понятный только им двоим смысл, отчего их разбирало еще большее веселье.
– В зеленого змия!
– В него, ползучего!
Потом они втроем сидели в караулке, коротая время за чайком, под который Конашевич щедро одаривал их своей смешливой говорливостью:
– В полку ребята писают под себя кипятком: новые машины пришли. Старье на турецкую границу отправляют. Может, наконец, воевать начнем, а то не война, а сплошные поддавки, только людей гробим. И каких людей! Кадровых ассов на удобрение переводим, сердце кровью обливается! – Он вдруг погас и ожесточился. – Ваши тоже чудят. Куда их там, этих сосунков, забрасывать? Им еще в "казаки-разбойники" играть. С первого курса берут: айн, цвай, драй да хенде-хох, вот и весь ихний ин-яз. Бросают, как горох на камень: глядишь, прорастет. Да не прорастет ведь! – Его даже перекосило. – Перестреляют, как куропаток!
Носов с шумом объявился на пороге, всей своей выправкой выказывая услужливую исполнительность:
– Товарищ старший лейтенант, к майору!
– Начинается волынка, – нехотя поднимаясь, ухмыльнулся тот, поговорить не даст, черт полосатый! – И уже за дверью: – Ждите, мужики, скоро вернусь...
– Человек! – глядя ему вслед, механик торжественно поднял палец вверх. – Мы с ним вместе взлетали, вместе падали, вместе из окружения выходили. Да где там выходили, он меня на себе выволок. Я за ним с закрытыми глазами куда угодно, в огонь и в воду. Теперь таких раз-два и обчелся, теперь такие, как мамонты, вымирают, скоро совсем не останется, ценить надо, дорогие товарищи.
– Чего говорить, – поспешно согласился с ним Носов: он, по всему судя, готов был соглашаться со всем и с каждым, если это не требовало от него обязательств или усилий, – старшему лейтенанту палец в рот не клади, с головой мужик.
Механик брезгливо скривился, сузил глаза и посмотрел на солдата так, как смотрят на что-то крохотное, почти неразличимое:
– Топчешь планету, Носов, а зачем? Какой палец, какой мужик, какая еще голова? Я тебе про высокие материи толкую, про жизнь и смерть, про родство душ, а ты ко мне со своими прибаутками лезешь. Эх, колхоз! – но тут же смягчился: – Ладно, садись, слушай, хоть ты этого и не заслуживаешь... Сбили нас под самым Львовом...
Это была история, точь-в-точь похожая и непохожая на десятки других, подобных же, из тех сотен, что довелось выслушать Федору горьким летом войны. В ней тесно переплетались правда и вымысел с терпким привкусом пережитого страха, скрытого стыда и восхищения собою. В ней два человека, прячась, плутая, путаясь в трех соснах, словно зачумленные, чураясь жилья и дорог, пробирались в ту сторону, откуда поднималось солнце, а оно светило им навстречу – долгое, палящее, безжалостное. Скорбное солнце начала войны...
Конашевич вернулся, когда поле и лес за окном медленно растворялись в густеющих сумерках, тепло земли отлетало к студеным высям, где уже изрядно и резко высыпало: две временные поры пересекались друг с другом на стыке дня и ночи, и зима заметно одолевала.
– Замучил, лягавый, – он остервенело сплюнул,– делать ему нечего, мильтону. Подъем, братва, труба зовет, через час-полтора можно взлетать, начальство уже на месте...
К самолету двигались молча: атмосфера сугубой важности происходящего настраивала их на несколько торжественный лад. У них на глазах и с их участием совершалось некое таинство, секретное действо, запретный обряд. И обряд этот обязывал каждого из участников к известному самоограничению или жертве, что сообщало им чувство сослужения с чем-то куда более значительным, чем каждый из них сам по себе.
На месте их уже ждали. Майор выступил из темноты, забубнил вполголоса:
– Пора, время не терпит. Товарищ старший лейтенант авиационной службы, вы готовы к выполнению боевого задания? Рядовые Носов, Самохин, собирайте костры для посадки: ровно через два часа пятнадцать минут машина будет обратно. Ясно?
– Ясно, – буркнул Конашевич и нырнул в темь, к самолету. – Не маленькие, а насчет "обратно" расписание у Всевышнего. – И затем к механику: – Гляди в оба, Леня, взлетаю вслепую.
И слился с крылатым силуэтом.
– Копни сенца посуше, – шепнул Носов Федору. – Я хворосту подтащу, разложим в разных концах, зальем бензинчиком, полыхнет за милую душу. Иди, иди, – тихо и, как показа-лось Федору, с особым значением гоготнул он, – не боись.
Но едва расплывчатое пятно копны выделилось перед ним из лесного сумрака, как навстречу ему оттуда же выпростались и поплыли, переплетаясь, два голоса:
– У меня это в первый раз было, честное слово, Поля...
– Я знаю.
– Разве это можно знать?
– Можно. Я старая, я все знаю.
– Какая же ты старая, десять лет – не разница.
– Еще какая! Это тебе сейчас кажется, что немного, пока молодой, а повзрослеешь, сразу заметишь.
– Я тебя всё равно не забуду, Поля.
– Спасибо, милый.
– Я к тебе вернусь.
– Возвращайся, я ждать буду, обязательно возвращайся, кого же мне ждать еще...
– Правда, Поля?
– Правда, правда, Миша, чистая правда...
Ночь отозвалась голосом майора:
– Лейтенант Гуревич, вы готовы? Пора.
В темноте зашуршали сеном:
– Есть, товарищ майор!.. До свиданья, Поля, теперь надолго, пока война не кончится.
– До свиданья, Миша, береги себя, смертей много, жизнь – одна.
– Только для тебя, Поля, только для тебя. Жди...
Сначала в Федоре все замерло, затем оборвалось, перехватив горло обжигающе удушливым колотьем. Еще вчера, смутно прозревая только что случившееся, он всё же не ожидал, что это произойдет так внезапно, так близко, так до унизительности обыденно. "Так вот оно, однако, как бывает, Федору казалось, что он задыхается, – будто и вправду птичий грех!"
Остальное доносилось до него уже сквозь яростный шум в ушах и легкое головокружение:
– От винта!
– Мотор!
– Поехали!..
Под свист рассекаемого воздуха и стрекот пропеллера крылатая тень выскользнула на осве-щенную молодой луной поляну, стремительно уменьшаясь, пронеслась по ней и в следующее мгновение трепетно взмыла над зубчатой кромкой леса, а вскоре безраздельная тишина снова заполнила собою ночь.
И лишь после этого в глуховатом голосе майора прорезалась снисходительная нота:
– Ладно, хлопцы, примете машину и можете быть свободны, отсыпайтесь, хоть до обеда. – И вдруг тоненько, почти жалобно: – Товарищ Демидова, куда вы, подождите!.. Полина Васильевна!.. Полина Васильевна! – Голос его звучал всё дальше и глуше. – Полина!..
Устраиваясь около Федора, Носов долго шуршал сеном, сопел, сплевывал, хмыкал и, наконец, прорвался:
– С Лялиным пошла, да от него какой толк, ему бы только выпить. Вот эдак кажинный раз, майор за ей, она – от него, не баба, а стервь, веревки из нашего брата вьет, а посмотреть – не лучше других, одна стать – тела много, а вот ведь присушивает. Путается с кем ни попадя, а с майором чистый зверь. Думаю, назло ему и путается-то. С чего это у них пошло, не знаю, только волынка ихняя давно тянется, это точно.
Он помолчал коротко, вздохнул. – Говорю тебе, Самохин, не встревай ты в этот омут, костей не соберешь. – И заторопился: – Давай-ка теперь загодя поставим метки, запалить потом – плевое дело.
Но и работа не отвлекла Федора от его навязчивого наваждения: он по-прежнему не мог думать ни о чем другом. В его жизни, и он был уверен в этом, такого еще не встречалось. Правда, жизни позади набралось – воробью по колено, оттого, кроме школьных писуль да случайных обнимок на посиделках, ему и вспоминать нечего было по этой части, а сейчас он чувствовал себя так, будто его долго и остервенело били: в нем болело, ныло, саднило всё сплошь, с корешков волос до ног. Федора трясло от одной лишь мысли, что с нею мог быть кто-то другой, до него...
Звук возник сразу, из ничего, и повис, разрастаясь над лесом.
– Пали! – не то крикнул, не то выдохнул Носов. – Я с того конца, ты с этого.
И кинулся прочь. Через минуту поляна озарилась пляшущим пламенем нескольких костров. В их неверном свете наискосок через поле бежал механик, приплясывая на ходу:
– Труби сбор, братва, пить будем! За Конашевичем не останется, гульнем по буфету!
Звук всё нарастал, приближался, стекал книзу, пока, наконец, подсвеченная спереди и с нижних боков птица не появилась над лесом.
Весело урча, она устремилась к ним, перед самой поляной резко осела, качнулась, колеса ее, легонько подпрыгивая, заскользили по траве. С чихом и тарахтеньем машина подрулила к стоянке и умиротворенно заглохла.
– Задраивай, братва, эту керосинку и айда пить! – В два прыжка Конашевич оказался на земле, извиваясь в объятиях механика. – Замерзли, надо думать, в ожидании выпивки?
Возня с маскировкой заняла у них не более получаса, после чего они гурьбой подались в караулку, где старший лейтенант достал из привезенного еще утром рюкзака обещанное угощение: три бутылки спирту и увесистую банку тушенки.
– Займись, Носов, это по твоей части, – Конашевич устало увядал. Обмоем еще одного моего крестника, чтоб ему повезло.
Начинали молча, без тостов, будто отбывая обязательную повинность. После третьей душа переполнила грудь, сердце оттаяло, слова попросились наружу. Первым не выдержал тот же Конашевич.
– Вроде я здесь ни при чем, – понесло его, – приказано, выполняю, а вот тут, – он ткнул себя кулаком под сердце, – болит, будто я этого птенца сам в расход послал. Не могу больше, не полечу! Пусть судят: больше вышки не дадут, дальше фронта не пошлют. Я не лягавый, я – летчик-истребитель! Хватит!..
Но речь его теперь была – не в коня корм: каждого уже одолевала своя собственная болячка. Механик, настигнутый окружившими его видениями, принялся гнуть свое:
– Помню, мать моя покойная, она в горочистке секретаршей работала, сказала мне...
Что именно сказала ему мать, никого не интересовало, но покладистый Носов на всякий случай сочувственно кивал:
– Оно конечно... Это само собой... Какой может быть разговор!.. Бывает же!..
Окружающее как бы не касалось Федора. Он пил, не отставая от других, но хмель не дейст-вовал, а лишь распалял воображение. Какая-то гибельная сила тянула его туда, к светящемуся в холодной ночи окну. И, не в состоянии более противостоять этой силе, он под общий говор встал и двинулся через караулку, через лес, через поле навстречу плывущему из черной пропасти свету. И, преодолевая удушье, постучал. И она открыла. И, впуская, погладила его, как маленького, по голове.
И дальше не было ни яви, ни памяти.
6
Это затянулось у них до белых мух, до твердых заморозков, до тех пор, пока тяжесть зимы не обложила всё вокруг долгими холодами. По утрам, когда после бессонной ночи Федор отсыпался в караулке, Носов, занятый хозяйством, беззлобно гудел у него над ухом:
– Говорил я тебе, чудаку, не связывайся, не твоего огорода такой овощ. Вон в поселке девок навалом, сами просятся, хоть кажинный день новую, а эдакие-то не для нашего брата, мы им вроде баловства, с жиру бесится стерва, тела девать некуда. А майор узнает, на фронт пойдешь, а чего ты там не видел на фронте-то, или не навоевался? Брось, парень, верно тебе говорю, брось!..
Федор и сам сознавал, что тот прав, что ношу он примеряет для себя непосильную и что груз этот в конце концов придавит его. Но едва на дворе высыпало и там, в доме на той стороне взлетной площадки, вспыхивал свет, его, словно лунатика, поднимало с места, и он опять украдкой пробирался туда, чтобы начать всё сначала.
Это прервалось лишь с появлением очередного "мальчика", жизнь которого на объекте против обыкновения затянулась: что-то застопорилось в отлаженном механизме переброски. Федор потерянно кружился, тыкаясь из угла в угол, с замирающим сердцем следил, как зажигается, а затем гаснет свет в ее окне, клял себя, свою блажь, свою слабость и мучился ревностью: "Сука, сука, размывало его ревнивое исступление, – змея подколодная!"
Вялый после запоя механик при встречах выговаривал ему лениво и скорбно:
– Не жилец ты, Самохин. Смертник, можно сказать. Это для тебя, как мина замедленного действия: рано или поздно взлетишь на воздух. Она не таких в распыл пускала. Залей лучше этот пожар ратификатом, похмелись с перепою и забудь, завяжи морским узлом на веки вечные. Я тоже чуть не попал, еле выбрался. Послушай дяденьку, дорогой товарищ, дяденька битый. Упрешься, не сносить тебе головы...
И надо же было тому случиться, что однажды утром он встретил их – ее и его, этого нового мальчика, – по дороге из лесу. Огибая поле, они шли мимо него вдоль опушки, локти их касались друг друга, и по той снисходительной доверительности, с какой Полина в разговоре наклонялась к спутнику, Федор обморочно догадался, что все слова, которые он слышал от нее в самые сокровенные между ними минуты, она уже слово в слово повторила и этому парню. И томительное отчаяние последних дней вдруг сменилось холодной яростью: он убьет ее, пристре-лит, как собаку, и будь, что будет, ему теперь все равно! "Больше вышки не дадут, – почему-то вспомнил он летчика, – дальше фронта не пошлют!"
После обеда наконец-то объявился Конашевич, и события потекли своим чередом: встреча, разговор за чаем в караулке, подготовка к вылету. Федор куда-то ходил, с кем-то переговаривал-ся, на кого-то смотрел, но явь вокруг существовала как бы помимо него и того, что в нем. Решимость, двигавшая им теперь, не нуждалась в поддержке или подтверждении со стороны, жила сама по себе, цельной, отдельной от всего жизнью.
Это его состояние не укрылось от одного лишь Конашевича. Выходя поздно вечером следом за ним из караулки, старший лейтенант вполголоса заговорил:
– У тебя белые глаза, солдат, белые, как перегорелый антрацит. Не сходи с ума, солдат, зачем тебе этот затяжной прыжок без парашюта? У тебя вся жизнь впереди, не считая войны, конечно. Посмотри на себя в зеркало, у тебя лица совсем нет, сплошной сланец...
Но Федор уже не слышал ничего и никого вокруг. Ему было не до размышлений или разго-воров: воля, куда более властная, чем рассудок, руководила сейчас каждым его движением и мыслью. Прежде всего, следовало сразу же после отлета Конашевича незамеченным нырнуть в темь и, опередив Полину, первым оказаться в большом доме, за перегородкой, отделявшей врачебный кабинет от ее жилья, и, когда она только войдет туда, нажать курок. Главное, убеж-дал себя Федор, не дать ей заговорить, открыть рта: он боялся, что самый ее голос может лишить его силы. "Не о чем мне с ней разговаривать, – мысленно повторял и повторял он, осваиваясь с темнотой за перегородкой, – не о чем, поговорили вдоволь, хватит!"
Ему были известны в этой комнате каждый закоулок и всякая вещь. Любое прикосновение к чему-либо больно ранило память: слишком многое здесь было с ней связано. Так, ощупывая предмет за предметом, он добрался до висевшей над кроватью портупеи с пристегнутой к ней кобурой. Прохладная сталь пистолета, остудив ладонь, только придала ему решительности. "Лишь бы не заговорила, – снова испугался он, – лишь бы не заговорила!"
Сначала Федор услышал голос майора, просительно окликавшего ее, затем быстрые, судя по легкой поступи, женские шаги, которые тут же пресеклись шлепающим топотом:
– Полина, постой, надо же в конце концов объясниться.
– Не надоело тебе, Виктор? – послышалось на ступеньках крыльца. Десять лет объясняемся.
Ступеньки опять скрипнули, но уже тяжелее, напористей:
– В последний раз, Полина, честное слово, в последний раз. Когда-нибудь надо же кончать.
Коротко взвизгнула дверь: Полина вошла к себе и уже из комнаты откликнулась со злым вызовом:
– Что ж, заходи, Виктор, если вправду в последний раз. Пора тебе, Виктор, закругляться, я сыта по горло.
– Хорошо, Поля, хорошо, – майор за перегородкой дышал трудно, со сбоем, – давай по порядку, мы не дети.
– Еще бы! Детей ты, Виктор Николаевич, на смерть посылаешь, – она не скрывала ярости, – своих нет, так ты чужих туда!
– Подумай, что ты говоришь, Поля, я выполняю задание государственной важности, родина оказывает этим ребятам свое высокое доверие. Партия поручила мне...
– Прекрати, Виктор, ты не на собрании, а я плохой объект для твоих воспитательных талантов. Ты, Пашин, идейный-идейный, а своей выгоды не забываешь, Борьку моего не ради партии утопил, ради своего удовольствия: Полькой Демидовой попользоваться захотел. Пополь-зовался, Пашин, попользовался, Виктор Николаевич, переспала я с тобой, жизнь Борькину вымолить думала, да разве такие, как ты, способны на жалость?
– Но, Поля, он же признал себя виновным по всем пунктам, – спокойствие майора явно давалось с трудом, – и в связях с группой Косарева, и в саботаже.
– Признал! Будто ты не знаешь, не ведаешь, как у вас люди признавались, напраслину на себя наговаривали?
– Полина Васильевна, не забывайте, что вы тоже работник органов, стены слышат, враг начеку, за такие слова вы можете понести ответственность по всей строгости. – Но не выдер-жал тона, виновато сорвался: – Поля, ты же знаешь, революция требует жертв, лес рубят, щепки летят, не он первый, не он последний.
– Для вас, может быть, а для меня и первый, и последний! – продолжила она почти со стоном. – И не пугай ты меня, Виктор Николаевич, после Бориса ничегошеньки я не боюсь, жить мне нечем да и незачем.
– Хорошо, Поля, хорошо, – тот безропотно сдавался, – я понимаю, Поля, успокойся.
– Брось за мной по пятам таскаться, Пашин, всё равно ничего не получится. Не удержат меня твои высокие дружки около тебя, так или иначе, но скроюсь. Лучше уж с первым встречным, чем с тобой.
– Ты себе хозяйка, Поля, но зачем же вот так – напоказ? Люди же видят, разговоры начинаются. – Майор едва не молил. – Это у тебя пройдет, Поля, это от обиды. Я подожду, Поля, подожду.
– Нет, Виктор, не жди, не пройдет! Для меня любой из них, как Боря: зеленые мальчики, которых вы на смерть посылаете. Никакой радости у них позади, ни любви не знали, ни женщины. Так пусть хоть напоследок облегчатся, им умирать легче, а от меня не убудет. И не приставай больше, завтра же рапорт на фронт подам, не останусь я здесь, а не отпустят, руки на себя наложу, застрелюсь. Мне около тебя дышать нечем.
– Ладно, успокойся, Полина, ложись. Утро вечера мудренее. Завтра без горячки поговорим.
– Уходи, Виктор, и не показывайся мне больше на глаза, – голос ее перешел во взбешен-ный шепот, – не доводи до краю, если мне своей жизни не жалко, то твоей и подавно, у меня рука не дрогнет. Уходи!
Чуть слышно захлопнулась дверь, и в тишине, наступившей за этим, Федор услышал за перегородкой сдавленный всхлип: Полине заметно стоило усилий не разрыдаться. От его недавней решимости остались только опустошающая усталость и стыд. Стыд за себя, за нее, за майора и еще за что-то такое, чего он и сам покамест не мог определить, выразить отдельным понятием или словом. "Вот и всё, – пронеслось в нем, – и вся любовь до копейки".
За перегородкой вспыхнул свет, качнулся и, приближаясь, потек в проем смежной двери. Полина появилась на пороге с керосиновой лампой впереди себя и, едва увидев сидящего на кровати Федора с пистолетом в поникшей руке, поняла всё. Ее заплаканное лицо мгновенно потухло, заострилось, пошло тенями.
– Эх, Федя, Федя, – еле различимо выдохнула она, – за что тебе такая тяжесть, за какую вину? Поднимешь ли...
Ему нечего было ответить ей, в словах теперь не оставалось ни нужды, ни потребности. В эту минуту горло его стиснулось такой пронзительной жалостью к ней, к ее беде и беззащит-ности, что, молча проходя мимо нее, он не выдержал и бережно коснулся ладонью ее волос.
Вернувшись в караулку, Федор застал ребят мертвецки спящими прямо за неприбранным столом, а утром уже стучался к майору с письменной просьбой о переводе в распоряжение здешней комендатуры. И по легкой поспешности, с какой майор не глядя наложил утвердитель-ную резолюцию, его осенило, что тому о нем с Полиной давно всё известно. "Носов, – запоздало догадался он, – сума переметная!"
Та же полуторка с тем же старшиной за рулем тащила Федора голыми перелесками в обрат-ную сторону. Оттеснив его в угол кабины, старшина, как и в прошлый раз, бесился, остервенело сплевывал, поругивался:
– Надоело, твою мать, гоняют туда-сюда, как извозчика, чуть что, фронтом пугают, туды твою растуды! А чего мне фронт, я почище виды видывал, такие воронки водил, до сих пор волос дыбом стоит, одни маршала с наркомами, битком, как сельди в бочке, стоймя под себя ссали, мать твою бабушку!
Дорога вынесла их в луговой простор, и тут, на стыке леса и жнивья, Федор в последний раз увидел Полину. Она стояла среди безлистых берез и, щурясь от солнца, пристально следила за ними. Глядя на ее устремленную вдогонку своему собственному взгляду фигуру, Федор вдруг ответно просветлел и вытянулся: "Прощай, Поля, Полина, Полина Васильевна, товарищ Демидова. Дай-то тебе Бог того, чего хочется!"
* * *
– Здравствуйте, Полина Васильевна. – И тут же нерешительно поправился: – Здравствуй, Поля...
Чуть заметно сотрясая стекла, вдали за окном гудело и погрохатывало.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Сверху остров походил на корабль или, скорее, на большую, поднявшую над водой плавники и хвост рыбу. По мере снижения, суша под крылом самолета росла, растекалась, выявляя на сво-ей поверхности цвета, оттенки, рельефные особенности, с редкими вкраплениями хозяйственных и жилых построек. Сахалин, плавно покачиваясь с боку на бок, устремлялся навстречу Золота-реву.
Остров встретил его моросящей сыростью. Со стороны моря тянуло сладковатым запахом водорослей, на траве, листьях, хвое деревьев, крышах оседала липкая изморось, все вокруг выглядело осклизлым, волглым, разбухшим.
Встречала его целая компания местных чинов, среди которых выделялся дородностью и руководящей повадкой высокий, сравнительно молодой еще парень, отрекомендовавшийся начальником Гражданского управления острова Приходько.
Гурьбой, на двух стареньких "газиках", они отправились, как выразился один из встречав-ших, на "русскую хлеб-соль". Дорога вытягивалась вдоль низких, барачного типа, только с плоскими крышами, построек, еще сравнительно ухоженных, с огородными палисадничками перед каждым.
Поглядывая сквозь ветровое стекло на эту японскую идиллию, Золотарев невольно усмех-нулся про себя, заранее представляя, в какие развалюхи и хляби превратится она – эта идиллия, – когда сюда пьяной саранчой нахлынет орава вербованных, состоящая из среднерусских мужиков и недавних головорезов штрафных рот.
Словно угадывая его состояние, сидевший сзади Приходько произнес:
– Постепенно ломать будем эти карточные домики, не для русского человека такое жилье: ни печки путной, ни устойчивости, жилец в нем, как в спичечной коробке! Вот и приехали!
Чайная, у которой они остановились, располагалась в деревянном и потемневшем от ветров и сырости особнячке с боковым входом для важных гостей, стоявшем на взгорье, откуда виднелось море.
За много лет службы на высоких должностях Золотарев изучил ритуал этих дежурных застолий до мельчайших подробностей, но, не будучи к ним особо расположен, умел – и всегда вовремя – выйти из игры, тем более это легко было сделать здесь, где он оказался в кругу подчиненных. Поэтому, когда торжественные тосты были закончены и гостевание начало заметно переходить в заурядную попойку, он поднялся:
– Делу время, как говорится, у нас с вами большое хозяйство, товарищи, работать пора. Товарищ Приходько, познакомьте меня с вопросами.
Тот покорно поднялся:
– Есть познакомить с вопросами, – сообразительно принял он тон гостя. – Пора, товарищи. Прошу ко мне, товарищ Золотарев.
Золотарев по опыту знал, что творится сейчас в головах собутыльников, но не в его правилах было всерьез принимать настроения подчиненных: потерпят, ему тоже приходится порою терпеть: полез в номенклатуру – терпи от старшего и дави на младшего, так компенсируется в их среде уязвленное самолюбие, не маленькие – должны знать!
В кабинете начальника Гражданского управления Приходько он по-хозяйски сразу же уселся за стол:
– Ну рассказывайте, что тут?
Золотарева не интересовало положение на островах, он получил необходимую ему информа-цию еще перед отъездом, но это было в их среде правилом или некой повинностью, которую он отбывал, чтобы сохранить лицо, проявить свою власть, поставить подчиненного на место. И Приходько принимал его игру тем легче, что на месте гостя он поступал бы точно так же:
– Главный вопрос сейчас – переселение японцев, их присутствие действует на приезжаю-щих разлагающе. Затем – жилье, но с этим пока обойдемся, народ у нас выносливый, кому не достанется – перезимуют в землянках. Ну и, конечно, продовольствие. Завоз идет с перебоями, хотя, в крайнем случае, тоже перебьемся...
Тот колыхался перед ним своим большим телом, преданно устремлялся к нему широким лицом, с солидным видом хитрил этими самыми "с одной стороны", "с другой стороны", но слова его почти не задерживались в сознании гостя. Мысленно Золотарев уносился сейчас к своей молодости, к той единственной для каждого поре, откуда всю жизнь на человека наплывают сны и видения, запахи и краски, лица и голоса.
Путь, что прошел он от первой деревенской горечи, казался ему теперь по-настоящему непостижимым. Как, по какой воле сычевский мальчик мог пройти этот путь, не погибнув и не оказавшись среди тех миллионов, какие сгинули в гнилых бараках лагерной системы? и что, наконец, определило его судьбу?..
– Да, вот еще что, – голос хозяина вновь пробился к нему, – бумага тут одна из Москвы поступила, чудят, ей-Богу, будто нам здесь больше делать нечего, как приходы открывать! Вот полюбуйтесь...
И то, что Золотарев увидел и прочитал, резануло его под самое сердце и голова у него пошла кругом: вот она, судьба-то, не успел спросить – уже отвечено!
В бумаге, которую пододвинул ему хозяин, Всесоюзный совет по делам церквей предписы-вал Гражданскому управлению – и уж кто-кто, а Золотарев-то знал, что не без указания с самого верха, – открыть в Южно-Сахалинске церковный приход и рекомендовал для замещения должности проживающего на островах гражданина Загладина Матвея Ивановича.
Так вот оно что, так вот зачем жизнь провела его сквозь всё, так вот отчего тревожила столько лет! Затем лишь, оказывается, чтобы привести его сюда, на эти Богом забытые острова, на встречу со свидетелем его позора, его слабости, его несчастья, да с тем, чтобы по дороге устроить ему свидание с другим свидетелем.
Ему стоило большого труда не выдать себя, овладеть собой и сразу же перевести разговор на невинную тему:
– Для начала город бы надо посмотреть, с людьми познакомиться да и проветриться заодно.
У Приходько заметно вытянулось лицо: чутьем, воспитанным в той же, что Золотарев, среде, только рангом пониже, он понял, что совершил ошибку, но никак не мог догадаться, какую именно, и от этого мучился еще больше.
Потом, тенью следуя за Золотаревым по деревянным тротуарчикам города, тот услужливо дышал у него за спиной, всё пытаясь загладить возникшую неловкость:
– Ошибки у нас бывают, – еще Ленин говорил, не ошибается тот, кто ничего не делает, – но на ошибках учимся, критика и самокритика у нас в почете, делаем выводы, переходим на новые рельсы.
Но теперь уже Золотареву было не до него, всё в нем сосредоточилось сейчас на одном имени: Матвей Загладин, – а всё другое кануло в прошлое и к нему, этому прошлому, возврата уже не было.
А тот всё бубнил и бубнил позади, за плечом:
– Дел невпроворот, иногда заработаешься до того, что соображать забываешь, такая наша доля руководящая! – И уже доведя его до гостиницы, почти прокричал ему в затылок: – Товарищ Золотарев, войдите в мое положение, я ведь тоже человек!








