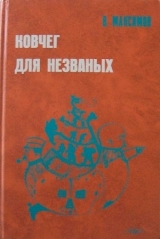
Текст книги "Ковчег для незваных"
Автор книги: Владимир Максимов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Но Золотарев и тут не ответил, захлопнул перед носом у того дверь и, оставшись наедине с собой, забылся в мутном, почти без сна, беспамятстве.
2
И вдруг ему почудилось, будто кто-то зовет его: тихо, душевно, сочувственно:
– Ильюша, Илья, Илья Никанорыч!
Голос был знакомый-знакомый, только какой-то глуховатый, как бы неживой. Золотарев открыл глаза, пошарил взглядом по пустой комнате, но, никого не обнаружив, снова было задремал. Но стоило ему смежить веки – всё повторилось сначала:
– Ильюша, Илья, Илья Никанорыч!
Это уже его просто испугало, но, чтобы стряхнуть с себя наваждение, он быстро оделся, подаваясь вон из дому, в ночь, в город, куда глаза глядят.
Сырая без звезд ночь нависла над городом, в домах посвечивали редкие огоньки, даже собачий лай слышался в этой темени глухо и сдавленно, словно из-под ваты.
И только тут, на улице, Золотарев понял, что услышанный им голос звучит не вовне, а в нем самом, и вдруг во взорвавшемся в нем сердце возникло имя, принадлежащее этому голосу, и было ему звучание: Мария! И только поняв это, он приготовился ко всему.
Сомнамбулически двигаясь на запах водорослей, Золотарев не разбирал дороги, шел без единой мысли, без цели или направления. Его вела сила, у которой нет ни имени, ни обозначе-ния, и только ей – этой силе – он сейчас подчинялся и только ею руководствовался.
Сознание стало возвращаться к нему, когда впереди, на самом стыке земли и моря, перед ним обозначилось красное пятно костерка и он направился туда, постепенно приходя в себя. "Ишь ты, – удивлялся Золотарев, – как лунатик!"
Костерок оказался у небольшого причала, пылал уже затухающим пламенем, освещая нескольких то ли геологов, то ли рыбаков, и край большой лодки.
– Здравствуйте, товарищи! – Подойдя ближе, Золотарев присел позади них на корточки. – Приятного аппетита.
Никто не отозвался, даже не повернулся в его сторону, все продолжали есть, не обращая на него внимания. И только единственная среди них женщина молча протянула ему ложку.
Решив, что отказываться неудобно, он подсел ближе и для приличия пригубил из котелка ложку-другую довольно жидкой ушицы.
Ели они бережно, со вкусом, словно молились, придерживали ложки снизу, видно, дабы не обронить даже капель, что почти развеселило Золотарева: это у моря-то!
Лишь закончив, один из них, тот, что постарше, с тронутым оспой узким лицом, спросил:
– Откуда будете?
– Из Москвы.
– А, – не проявил особого интереса тот, – народу, говорят, много, так ли?
– Хватает.
– В гости сюда или как?
– По делу.
– А, – опять безо всякого интереса протянул тот и умолк.
– Что ж у вас ушица-то того, жидка? У моря живете!
На этот раз не ответил никто. Их молчаливые лица качались перед ним в светотени затухающего костерка и в этом молчаливом покачивании ему просто не было места, он не существовал для них, не присутствовал, не жил.
И снова он каким-то непонятным ему внутренним видением, которое, впрочем, длилось не более мгновения, внезапно и коротко проник, что это когда-то уже было с ним, но память тут же смыла призрак и он двинулся от костра опять в ночь, в город, куда глаза глядят.
Но в последнюю минуту он не выдержал, обернулся и захлебнулся собственным дыханием: женщина у костерка смотрела ему вслед с протяжным и долгим сочувствием, словно желая напутствовать его:
– Ильюша, Илья, Илья Никанорович!
3
Примерно в то же самое время над землей загорелась новая звезда. Трудно тогда было представить, что же она собою знаменует: то ли конец света, то ли Новое Пришествие. Не случилось ни того, ни другого. Но вскоре было замечено, что по всей стране стали рождаться мальчики и девочки, которые, к величайшему ужасу родителей, начали задавать вопросы.
А к концу пятидесятых и в начале шестидесятых эти мальчики и девочки перешли от вопросов к прямым действиям. Мальчиков и девочек стали пачками и в одиночку отправлять в места не столь отдаленные и места, где из них пытались сделать мычащих инвалидов с последующей припиской к психдиспансерам по месту жительства.
Но процедуры эти над ними совершали, как правило, тоже мальчики и девочки, только воспитанные в лучших традициях вечного принципа "моя хата с краю".
Это были, не в пример своим родителям, вымуштрованным в далекие времена, вполне цивилизованные особи. Они не орали на допросах и – упаси Боже! – не рукоприкладствовали, они только задавали вопросы, правда, лишь служебного свойства и особенно были пристраст-ны к разговорам по душам.
И вот один из них, мучаясь своей сыскной совестью, спросил на допросе девочку, которая вышла на площадь ради абсолютно далекого и мало знакомого ей народа:
– Так скажите все-таки, зачем вы это сделали, зачем, ведь это абсолютно бесполезно!
И девочка ответила ему:
– Я сделала это для себя, иначе я не смогла бы продолжать жить, и к этому мне нечего добавить.
Была звезда, и хотя не было волхвов, мы теперь знаем, что звезда эта предзнаменовала Пришествие к нам Совести.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Открытый океан. Полночь. Тонущий пароход. Человек посреди крика и стремительно пустеющей палубы наедине с самим собой. Разговор:
– Ты кто?
– Твоя судьба.
– Что скажешь?
– Ты удивлен?
– Нет, я заранее знал, что приговорен.
– У тебя есть вопросы?
– Всего один.
– Я слушаю.
– Ты позаботилась о том, чтобы я сел именно на этот плавучий гроб, еще в молодости предупредив меня о моей участи, но, скажи на милость, почему, за какие грехи вместе со мной должно погибнуть столько невинных?
– Успокойся, двадцать лет я собирала вас по всей земле на эту посудину, поверь – это была хлопотная работенка!
2
Утлый катерок Федора тарахтел вдоль Курильской гряды, направляясь к родному причалу. Вода за бортом стояла тихая, почти без морщинки на сизой поверхности, небо над нею отсвечи-вало умытой синевой, горизонт впереди обещал погожую ясность, и только сбоку, поверх черной цепочки островов, кое-где клубились дымные шапки. Кругом было свежо, безветренно, тихо.
С новым для себя делом Федор освоился быстро, сгодилась ему его недолгая шоферская практика, катерок под его руками с толковой исправностью хлопотал свою нехитрую службу: развозил почту по хозяйствам, мотался с попутными оказиями, но более всего состоял при начальстве, удовлетворяя транспортные нужды местного ИТРа.
Островная жизнь Федора мало-помалу втягивалась в привычную колею, становилась буднями, повседневностью, бытом. Теперь отсюда, с высоты времени и пространства, деревен-ское прошлое выглядело таким далеким и призрачным, что порою казалось – и не существова-ло его вовсе. И лишь изредка, по ночам, просыпаясь, он вдруг сладостно затихал в краткой, как вспышка, грёзе: студеный вечер за окном перед Крещеньем, дотлевающие под белым пеплом уголья в распахнутом поду печи, кислый запах теста по всей избе, и над всем этим, сквозь это – текущее к нему сюда, через годы и версты, прерывистое воркование сверчка. Господи, утоли его печали, восхити его душу грешную!
За спиной у Федора в сумраке пассажирской каюты брала разгон разговорная карусель нара-стающей пьянки. Руководящая троица острова начальник отдела Гражданского управления Пономарев, его заместитель по политчасти Красюк и кадровик Пекарев возвращались с предпра-здничного угощения на Парамушире и, судя по всему, закругляться в ближайшие дни не думали, хотя накачивались из них только первые двое, третий – вечно взъерошенный горбун из спецчасти – в гульбе не участвовал, слыл на острове трезвенником, был неизменно въедлив и вездесущ, а поэтому одинаково нелюбим всеми.
В беспорядочном галдеже застолья по-обыкновению преобладал пропитой басок Понома-рева:
– Ты меня слушай, Красюк, ты еще под стол пешком ходил, когда я уже в органах работал, в коллективизацию чуть не по всей Украине кулачье чехвостил, долго будут Пономарева помнить, кровососы мужицкие! Я с самим Всесоюзным старостой, товарищем Калининым Михаилом Иванычем, лично, как с тобой, за ручку здоровкался, тогда еще целая была, рубала врагов народа без пощады и снисхождения! Я в заградотрядах целые фронта от паники выручал, мне генерал Серов своей рукой медаль на грудь привинчивал, кабы не шальная мина, до каких чинов дошел бы, а ты говоришь!
Замполит, хохол, себе на уме, с вечной, будто приклеенной к тугому лицу хитроватой усмешкой, не поддаваясь хмельной развязности, покладисто приноравливался к хозяину:
– Мы за старыми кадрами, как за каменной стеной, Василий Кондратыч, поперед батькА в пекло не лезем, от старой гвардии ума-разума набираемся, крепко сталинские заветы помним, без вас, без вашего опыта нам никак не обойтись, зелены еще, учиться надо...
Кадровик время от времени корректировал разговор, вставлял словцо-другое, не проявляя, впрочем, особого азарта или заинтересованности:
– Какой же может быть порядок среди контингента без дисциплины? Единоначалие – наш закон, без него пропадем, как цуцики, каждый должен знать свое место. Что бы мы в войну делали, если б без железного порядка? Спасибо вождю, вправил мозги, научил жить.
Разговор, то затихая, то вновь раскручиваясь, слился вскоре в сплошной гул, из которого в конце концов опять выделился пономаревский голос:
– Чего, спецчасть, заспешил? Или наша компания не по нраву, правду говорят, гусь свинье не товарищ... Иди, иди, паря, проветри шарики, а то, гляжу, они у тебя на холостом ходу крутятся...
Через минуту горбун появился в рубке, встал сбоку от Федора, засопел сердито, глядя впереди себя:
– Нажрутся, черти, мелют языком чёрт-те что, управы на них нет. Хорошенький пример контингенту показывают! Не хозяйство, а кабак круглосуточный! – Пожевал губами, скосил колючий глаз на спутника.
– Ты, Самохин, слушать – слушай, да только помалкивай, твое дело солдатское: что видел, что слышал – военная тайна, роток на замок, как говорится, ясно?
– Наше дело сторона, – в тон ему, чтобы только отвязаться, сказал Федор, – не мы пьем, не нам похмеляться.
Катер послушно брал к берегу, остров матерел, расцвечивался, дымная шапка над конусом сопки всё плотнее застила небо, отбрасывая окрест скользящую, в редких распадах тень.
– Не нравится мне что-то в последнее время эта печка, – кадровик говорил, словно про себя: глухо, задумчиво, с расстановкой, – копоти больно много, не загудеть ли собралась? Если по-настоящему разойдется, костей не соберем, такая у нее слава. – По резкому, в кустистой щетине лицу горбуна промелькнула издевка. – Не боишься, Самохин?
– Волков бояться – в лес не ходить, – по-прежнему норовил отговориться Федор, – как на фронте у нас говорили: позади Москва – отступать некуда, приказ – стоять насмерть! – Он сбросил скорость, плавно выруливая к пирсу. – Чему быть, того не миновать.
– Ну, ну, Самохин, ты, я гляжу, за словом в карман не лезешь! – У того явно пропала охота продолжать беседу, – все нынче разговорчивые сделались, война разбаловала, укорачивать пора. – Кадровик с пристрастной цепкостью следил за тем, как Федор причаливал, швартовал-ся, глушил машину. – Знаешь свою работу, Самохин, хвалю. – Прежде чем сойти на пирс, горбун в последний раз обернулся к нему, посветил на него в упор упрямыми глазами. – Запри их, пускай у тебя проспятся, чтобы на людях в таком виде не показывались, головой отвечаешь, Самохин, понял?
И, не ожидая ответа, резко застучал каблуками сапог по деревянному настилу пристани, будто целую жизнь только и делал, что отдавал приказы во все стороны.
Федору даже заглядывать не пришлось в каюту, доносившееся оттуда похрапывание говорило само за себя. Осторожно, чтобы не разбудить спящих, он задраил входную дверцу и, не задерживаясь более, подался на берег.
3
Дома Федор никого не застал. Он заглянул к Овсянниковым, но дверь у них тоже оказалась на замке. День на дворе стоял нерабочий, гостевать им ходить было не к кому, поэтому гадать Федору не приходилось: "Опять у Матвея сборище, – решил он, – нашли себе забаву!"
Вскоре после той их первой встречи в чайной Федор стал замечать, что старики его налади-лись подолгу отлучаться на выпасы к Загладину, приохотив к этому и соседей. Сначала он лишь посмеивался над старческой блажью: чем бы дитя ни тешилось! Но со временем его все чаще посещало неясное предчувствие перелома в своей судьбе, который непостижимым пока образом связывался в нем именно с этими родительскими бдениями у Матвея. Порою Федора даже подмывало самому пойти туда, прикоснуться к запретному, заглянуть в бездну, но всякий раз, когда он уже было решался, обязательно возникала какая-нибудь помеха, отвращая его от пугающего соблазна.
Спускаясь теперь по винтовой тропе к прибрежным луговинам, Федор внутренне еще сопро-тивлялся, еще силился объяснить себе свою внезапную решимость простым любопытством, но воля, куда более властная, чем руководившие им самооправдания, подсказывала ему, что сегодняшний путь его был уже когда-то и кем-то заранее предопределен.
В сиянии погожего дня ничто не предвещало ненастья или беды. Берег внизу упирался в безмятежную воду. Над сопкой висело обычное облако, правда, уже с первыми черными полосами. Над прибрежными лугами, над ольховником, над крышами домов висела легкая дымка. Было тихо, умыто, празднично.
Федор спускался вниз в том расположении духа, когда мир кажется простым и податливым, собственное тело почти невесомым, жизнь долгой и многообещающей. "Далось бы только здоровье моим старикам, а уж остальное моя забота!" Даже крысы, шнырявшие под ногами, не вызывали у него, как прежде, ни брезгливости, ни отвращения: "Тоже тварь живая, тоже свое хотят!"
Еще издалека он разглядел у пастушьей землянки устремленных внутрь ее людей, а подойдя ближе, услышал доносившийся оттуда голос Матвея:
–...И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась на свое место, а Египтяне бежали навстречу воде, так потопил Господь Египтян среди моря...
Впереди, в землянке, освещенной только коптилкой, Федору бросились в глаза лица родителей, Овсянникова и, что он уж никак не мог ожидать, Любы. Робкий огонек отбрасывал на них тени, мешая со светом, и от этого все они казались ему не теми, обычными, какими он привык видеть их в обыденной жизни, а преисполненными некоей особенной торжественнос-тью, словно на кладбище или важном собрании.
–...И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию...
Матвей стоял лицом ко всем, в руках у него была толстая книга, на носу очки, а в трубном басе его неожиданно слышалась голосовая слеза:
–...И двинулись из Елима и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли Египетской. И взроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне...
Еще днем раньше Федор едва ли мог принять все эти сказки всерьез, но чем дальше он слушал, тем сильнее представлялся ему этот неизвестный и непонятный ему народ, который с такими трудностями рвался, да куда – в пустыню! – тем более проникался он их мукою и судьбою, их бедой и делом.
Когда Матвей кончил, Федор, не ожидая своих, стал подниматься вверх и по дороге всё представлял себе, как они идут и идут, по кругу, идут и идут.
И так – без конца.
"Может, и мы так-то вот, – идя, всё повторял и повторял про себя он, бредем, бредем, глядишь, и выбредем к верному месту?"
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
Один из них был рядовым евреем из Риги на вольном хождении по прозвищу "Тридцать три несчастья", а второй – начальником лагеря, разница, как говорится, небольшая, но существен-ная. Еврей разменял из своей десятки первый пятерик, а начальник уходил на повышение, тоже, в известной степени, дистанция. Опять же, начальник ел и пил, а еврей только убирал за ним, но в остальном они были почти друзья.
Перед отъездом полковник в последний раз вызвал еврея к себе для душевного собеседования.
– Бери, пей, – он налил тому рюмку коньяку, – без дураков, заслужил: за пять лет ни одного взыскания.
– Благодарю вас, гражданин полковник.
– Скажи честно, неприкосновенность гарантирую, ты когда-нибудь замечал во мне чего-нибудь особенное?
– Если честно, то да, гражданин полковник.
– Говори – чего?
– У вас один глаз стеклянный, гражданин полковник.
– Какой именно?
– Левый, гражданин полковник.
– Вот чёрт пархатый, а ведь он так хорошо подделан, у лучшего глазника в Москве заказывал. Как угадал?
– А в нем есть что-то человеческое, гражданин полковник.
2
Голос рыбного министра униженно вибрировал в трубке, слова набегали одно на другое, тот захлебывался словами:
– Товарищ Сталин... Как коммунист... Как верный солдат партии, я обязуюсь ликвидиро-вать прорыв... Лично вылетаю на место стихийного бедствия. – Министр перешел на умоляю-щий хрип. – Костьми лягу, товарищ Сталин...
Он не стал дослушивать, положил трубку: пусть выкручивается теперь, старый боров! Он знал, что после такого телефонного оборота этот вахлак будет землю носом рыть, но положение выправит. Чёрт бы их побрал, эти стихийные бедствия! Едва кончилась война, они, словно сговорившись, принялись наваливаться на страну след в след: засуха на Украине, затем в Молдавии, а вот сейчас это самое цунами на Курилах. И всякий раз приходилось затыкать всё новые и новые дорогостоящие дыры, перекраивать бюджет, искать и наказывать виновных. Никак не удавалось прочно подняться на ноги, чтобы вновь взять за шиворот вчерашних союзников, которые наивно полагают, будто он удовлетворится, наконец, тем, что ему принес тучный послевоенный раздел. Как бы не так, господа хорошие, как бы не так, не для того он годами отстраивал эту махину, рисковал судьбой и преступал все заповеди, чтобы довольство-ваться частью: всё или ничего, и, как это сказано там, в Евангелии, пусть мертвые хоронят своих мертвецов!
Он снова опасливо скосил глаза на лежащую сбоку от него "тассовку": "С 10 по 14 ноября происходило крупное извержение одного из действующих вулканов Курильской гряды. Подзем-ные толчки..." Дальше следовали подробности, которые его мало интересовали и в которых он не усматривал особого проку: ничего уже нельзя было ни предотвратить, ни поправить. Теперь оставалось найти виновных, а затем начинать всё заново. Виновные же, разумеется, найдутся, он всегда отказывался считать стихию смягчающим обстоятельством, по опыту знал, только попус-ти, каждый начнет оправдывать свое разгильдяйство всякими субъективными и объективными причинами: в болтовне утопят страну. "Взялся за гуж, – он вдруг вспомнил Золотарева, посожалев лишь о том, что не успел проверить этого туляка в деле, лишний раз убедиться в своем знании человеческой природы и собственной прозорливости, – не говори, что не дюж".
В нем давно выработался спасительный инстинкт самосохранения от праздных раздумий по какому-либо конкретному поводу. Это помогало ему принимать решения, не растекаясь в деталях или подробностях, что, в свою очередь, обеспечивало таким решениям немедленное воплощение в реальность: Золотарев, вместе с его васильковыми глазами и собачьей преданно-стью, мгновенно отошел от него в небытие, уступая место новой теме и новому имени.
Имя это значилось в Указе, с утра лежавшем перед ним на столе в ожидании его утвердите-льной визы. С этим Указом, а вернее, с этим именем у него была связана целая, чуть не сорока-летняя история, которая, по его мнению, заслуживала теперь достойного завершения. Облег-ченно перестраиваясь на шутливый лад, он поднял трубку "вертушки", набрал однозначный номер:
– Зайди, Лаврентий, – на этот раз даже его гортанное произношение показалось ему кстати, – дело есть, Серго крестить пора...
Он с детства не любил своего грузинского акцента, вязко напоминавшего ему о его плебей-ском происхождении. С завистью вслушивался он в свободный выговор своих сверстников из дворянских семей, где русский язык считался обиходным, отмечая, с какой легкостью перехо-дили они от раскатистого грузинского "э" к почти беззвучному русскому "е", произнося чужие "ш" и "ч" без единого свистящего звука. Его детская зависть к ним, к их облику, к их внешнему превосходству, хотя почти каждый из них и влачил то же самое полунищенское существование, – в Грузии, как известно, на каждого нищего три дворянина, – с годами обратилась в жгучую, трудно преодолимую ненависть, которой долго потом, после победного похода Одиннадцатой Армии по Закавказью, он насыщался, но так и не насытился, только поостыл с годами. И поэтому, когда хваткий кутаисец Давид Рондели, явно угождая ему, снял незамысловатую, но злую комедию о двух беспортошных князьях из Эристави, он осыпал сообразительного мэтра щедротами и периодически просматривал ленту, всякий раз удовлетворенно покатываясь со смеху. По-кавказски укорененно презирая русских и всё русское вообще, он жаждал выглядеть со стороны чистокровным русским, чтобы по праву смотреть свысока на инородцев и их жалкие подражания чужому величию...
Берия вошел, даже скорее вскользнул, по обыкновению без стука, весело поблескивая на него преданными стеклышками пенсне в предвкушении предстоящей забавы. Не спуская с хозя-ина понимающих глаз, приблизился к столу, остановился рядом, но не сел, молча устремленный к нему сердечностью и сопереживанием момента.
Это была их давнишняя игра, какую они время от времени разыгрывали себе на потеху с людьми из ближайшего окружения. В строгом соответствии с загодя и тщательно отрепетирова-нным сценарием он так же молча кивнул гостю на телефон.
Бережно подтягивая к себе трубку, Берия по-прежнему продолжал заговорщицки светиться ему в глаза, слегка сотрясаясь от смешливого удовольствия, но едва заговорил по телефону, как в голосе его прорезалась привычная повелительность:
– У тебя готово?.. Соединяй. – И деловито подбираясь, прокашлялся. Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Сергея Ивановича... Кто просит? Смотрите, какая любопытная граждан-ка! Старый друг просит... Гражданин Кавтарадзе не платит за телефон? Ай-ай-ай, скажите пожалуйста, партиец с дореволюционным стажем, профессиональный дипломат, кристальной души человек, детей любит, а он, оказывается, еще и злостный неплательщик! Накажем, честное партийное слово, накажем, в крайнем случае, гражданка, за него уплатит центральный комитет векепебе. – Голос у того вдруг резко пресекся. – А теперь позови Кавтарадзе и – быстро: говорят из органов! Одобряя исполнительность абонента, победительно осклабился. – Серго! Здравствуй, Серго! Кто говорит! Ну, не квартира, а кружок любознательных, хоть сейчас наряд с ордером высылай. Лавруша говорит. Узнал?.. Ну, какой же я тебе "товарищ Берия"! Лаврушка, Лаврентий, как хочешь называй, только, пожалуйста, без официальностей. Рука об руку революцию делали, а теперь величаться будем, брось! Только сегодня узнал, сам понима-ешь, мои молодцы донесли, что ты уже целый год, как в Москве. Целый год, Серго, и глаз не кажешь? Совесть иметь надо, дорогой, рано тебе старых друзей забывать, вот и Сосо все время спрашивает: что там Серго, как там Серго, где он? Приезжай сегодня, если не занят... Ерунда! Что значит "не в чем"? В чем есть, в том и приезжай. Да, чуть не забыл! Вот Сосо стесняется спросить у тебя сам: можно, и он подъедет? Тоже повидать тебя хочет, соскучился. Втроем посидим, без баб, выпьем, споем, по-домашнему, по-мужски... Согласен? Слушай меня внимательно, Серго, ровно в двадцать один ноль-ноль за тобой заедет Саркисов...
Дальше он слушать не стал, мысленно уходя в то далекое прошлое, когда судьба впервые свела его с этим парнем из Зестафони. И хотя тот числился дворянским отпрыском, держался запросто, даже с известным подобострастием, как младший со старшим, не упуская случая подчеркнуть свое почтение перед его опытом и заслугами. Парень был на шесть лет моложе, пописывал стихи, но кто их только ни пописывал в пору полового созревания, рвался в работу, не рассуждал, не мямлил, не чистоплюйствовал, делал, что приказывалось, чем в конце концов и пришелся ко двору. Он умело использовал неофита там, где самому ему было ввязываться не с руки, учил, натаскивал по мелочам, даже впоследствии привел за собою в "Правду", но хмель Октябрьской лафы многим ударил в голову, в том числе и этому зестафонцу, который в угаре митинговой болтовни оказался вдруг в троцкистской орбите, путался с Иоффе, якшался с Лариным, петлял вокруг Шляпникова и после высылки своего кумира, как и следовало ожидать, очутился за бортом. Он годами не трогал глупца, изредка напоминая тому о себе то сдержанно вежливой повесточкой из милиции по поводу законности местной прописки, то случайным приводом за мнимое нарушение уличного движения, а то – что было более крепким средством упоминанием в дежурной статье об истории борьбы партии с фракционной оппозицией. Так, почти на протяжении тринадцати лет перепуская беднягу из холодного в горячее, он довел того до полного человеческого ничтожества, после чего, уступая просьбе Лаврентия, восстановил в партии, пристроив в МИД, на случайных загранпобегушках. Но затем опять сменил температу-ру: год держал строптивца без работы и хлеба, в коммунальном курятнике на окраине города. И вот сегодня тому предстояло последнее испытание...
– Слушай, Лаврентий, – вне всякой связи с недавним разговором он вдруг вновь вернулся к Курилам, – не справился твой Золотарев с заданием, дров наломал, не сумел обуздать стихию.
Тот схватил его мысль с полуслова, с полувзгляда, с полунамека: мгновенно напрягся, вытянулся:
– Мой грех, Сосо, – переходя на грузинский, семантика которого позволяла гостю эту маленькую фамильярность, Берия вкрадчиво нащупывал его настроение, – проглядел ротозея, ты не беспокойся, за всё ответит подлец, не выкрутится.
– Успеешь, – снисходительно отмахнулся он, настраиваясь на прежний лад. – Подумай лучше о крестинах, устрой так, чтобы навсегда запомнил и внукам-правнукам наказал. Крестить так крестить! – И сразу же пресек слабую попытку гостя продолжить разговор. – Ступай. Я к тебе сам приеду...
Затем он снова ушел в себя, в свое одиночество, в свои уже старческие видения: ему никак не хотелось верить, что жизнь в нем стремительно катится под уклон, что конец близок и что химеры прошлого, так надоевшие ему в последние годы, возникают перед ним из пепла его собственного распада. Ведь, кажется, еще совсем недавно, только что, может быть даже вчера, он сидел с тем же самым Серго Кавтарадзе в прохладном подвале батумского духана и говорил с ним о женщинах, кахетинском вине, заморских странах и многом, многом другом, чего за давностью лет теперь и не восстановишь. Возбужденный хмелем и молодостью, Серго мерцал в полумраке влажными глазами, тянулся к нему всем корпусом через стол, страстно твердя:
– Ведь мы не умрем, Сосо, не умрем, ведь это не для нас, вот увидишь, Сосо, мы не умрем!
И счастливо смеялся, снова отстраняясь в полумрак и мерцая оттуда на него влажными от хмеля и молодости глазами...
Зимняя темь за окном матерела, набирала студеную силу, размножая вдали россыпи городских огней. Взгляд его снова скользнул по белевшей сбоку от него "тассовке", невольно задержался на ней. "Тьфу ты, чёрт! – Он чуть было не выматерился вслух от охватившей его досады. – Глаза промозолила!"
Он рывком вытянул на себя верхний ящик стола, наотмашь, ребром ладони смахнул туда злополучную бумажку и резким тычком задвинул его на место, а Указ, лежавший перед ним, аккуратно сложил вчетверо, сунул в боковой карман френча.
3
Поздним вечером его машина бесшумно вкатилась в квадратный дворик безликого особняка на площади Восстания. Изнутри особняк был так же безлик, но компактен, привлекая удобным расположением служб и жилья. Изредка бывая здесь, он всякий раз отмечал про себя сходство этого дома с маленькой крепостью: все окна выходят в тесные проезды; вдоль Садового кольца, откуда возможно огневое оцепление, – сплошной кирпичный забор; во дворе, с тыла глухая, в шесть этажей стена, но главное, что сразу бросилось ему в глаза еще при первом посещении, – это здание Радиокомитета, торчавшее прямо напротив, через узкий проулок. "Окопался, сукин сын, – по обыкновению опасливо обожгло его, – на воре шапка горит, часа своего выжидает, шакал, у микрофона под боком устроился!"
Емко очерченный сзади светом дверного проема, тот уже сбегал к нему навстречу со ступенек приземистого крыльца:
– Ждет, ждет голубчик отца крестного. – Хозяин бережно подхватил гостя под локоток и бочком, бочком повлек к дому. – Извелся весь в ожидании, поверь, осунулся даже. – Принял у него шинель и, догоняя, продолжал косить в его сторону сбоку веселым глазом из-под пенсне. – Как говорится, готов, только окунуть осталось младенца. Сюда...
Стол был накрыт на троих, сверкал и лоснился хрусталем, никелем, снедью, строго топорщи-лся крахмальной белизной скатерти и салфеток. Проходная, без окон комната тонула в теплом сумраке от низко спущенного над столом абажура с густой бахромой, и поэтому всё в ней, этой комнате: мебель, картины, портьеры на дверях – смотрелось смутно и зыбко, словно сквозь запотевшее стекло.
– Вот он, вот он, крестничек, дрожит, как нашкодивший школьник. Хозяин ловко обогнул гостя, летучей походкой пересек комнату, отдернул портьеру. – Проходи, Серго, не стесняйся, Сосо приехал, видеть тебя хочет.
На пороге противоположной двери выявилась безликая фигура, сутуло устремилась было к нему, но тут же замерла, согнувшись чуть не в поясном приветствии:
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович...
– Брось эти величания, Серго, – хозяин уже подталкивал того сзади, посмеивался, мельте-шил стеклышками пенсне, – Сосо к тебе как к другу пришел, обнять тебя хочет, а ты со своими официальностями, нехорошо получается. Иди, иди, не бойся, не укусит.
И чем ближе тот подступал к нему, тем неуютнее становилось у него на душе: он вдруг разглядел в этом сутулом старике, который, кстати, был на шесть лет моложе его, свое собствен-ное отображение. И хотя его давно донимала мысль о старости, ему в голову не могло прийти, что дело зашло так далеко и что возраст уже сыграл с ним такую скверную шутку. Ему понадо-билось некоторое усилие воображения, чтобы узнать в этой студенистой развалине бойкого парня батумских времен с белозубой улыбкой во весь рот и влажно мерцавшим взглядом. "Нет, видно, никого она не щадит, костлявая, заключил он мысленно тот давний их разговор в духане, – всех без разбора метет".
Приближаясь к нему, тот словно ступал по тонкому льду: прежде, чем поставить ногу, инстинктивно нащупывал подошвой пол под ногами. Заглаженная до блеска шевиотовая пара сидела на нем, будто с чужого плеча, старомодный галстук поверх ветхой сорочки болтался, как петля, тщательно подстриженные, но редкие волосы почти не скрывали лысеющего черепа: тусклое подобие человека, небрежный слепок с облика разоренного игрока, пожелтевший негатив их общего прошлого.








