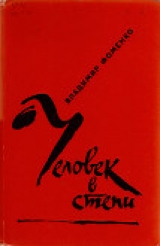
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц)
Шевелева
Пара дончаков, резвых от породы и от овса, вынесла нас на полевую дорогу. Утро было душным, лошади сразу взмокрели в пахах, а под шлейками на вспрыгивающих крупах забелелось мыло.
Хорошо сидеть на пригретой солнцем кошме, разостланной на пролетке поверх свежей травы, и вдыхать запах конского пота, смешанный с запахом горячего ветра.
Мы ехали на ферму. Лошадьми правила рослая красивая женщина, Мария Григорьевна Конотоп, зоотехник совхоза.
Ферма, казавшаяся совсем близкой благодаря ясному небу и ровной, как стол, степи, на самом деле была в восьми километрах, и мне хватило времени узнать о знаменитой Шевелевой. Бугаятнице, которая обихаживает свирепых бугаев.
– Какой у нее метод? – переспрашивает Мария Григорьевна. – Да никакого. Просто она не считает их опасными, и они, вероятно, чувствуют, что хозяйка их не боится. Если по-честному, то бояться есть чего, – говорит Мария Григорьевна. – Каждый весит тонну. Тонна мускулов!.. Случается, ни с того ни с сего озлится – и порвет цепь, разворотит стену! Хотя уход за бугаями высоко оплачивается, среди мужиков нет охотников.
Мария Григорьевна неожиданно весело подмигивает:
– Беритесь, когда есть порох!
Пыль несется за пролеткой, словно дым, клубится под колесами, и наши ноги покрылись толстым коричнево-серым слоем.
Остановившись у конторы, мы веником обиваем с обуви пыль, как зимой обивают налипший снег.
Контора ничем не отличается от любой другой конторы. Первомайские плакаты, до сих пор не снятые ввиду их красоты, конторские счеты и привядшие полевые цветы на подоконнике… За столом среди бумаг – управляющий фермой, маленький большелицый дед, очень старый, но по времени послевоенному годящийся, видать, для руководства. Мария Григорьевна четко сообщает, что зовут его Федотом Александровичем Катальниковым, что он – бывший сабельник шестьдесят третьего полка Первой конармии.
Несмотря на августовскую жару, он в валенках. Шагаю с Федотом Александровичем на полуденный двор, залитый солнцем. Ни воды, ни деревца. Зной тяготит накаленную, жгущую даже через подметки землю. Такая жирная, вытоптанная, без единой травинки земля бывает только на скотных дворах. Каждый сантиметр хранит отпечатки клешнятых коровьих копыт, в каждый сантиметр плотно впечатаны кусочки соломы, начесанная коровами шерсть, и вся земля пахнет солнцем и ни с чем не сравнимым солоноватым запахом тырла, на котором годами топчется стадо. Сразу за постройками выгоревшая степь, а здесь – открытые, пустующие днем загоны, пересохшие на ветру деревянные жерди.
Вид Шевелевой разочаровал меня. Это была жилистая, низкорослая женщина с выпуклыми бесцветными глазами. На белках виднелась сетка красноватых прожилок, что придавало ее лицу мужское выражение, такое же грубое, как наименование специальности – «бугаятница».
– Вам посмотреть бычат? Можно. Доразу за тем сараем начну банить Варяга…
Я задержался с управляющим, а когда зашел за сарай, замер при виде редкого зрелища. Огромный, белый, будто снеговая глыба, бык, весь мокрый, в стекающих струях воды, стоял, ворочая тяжелой курчавой головой. От этих движений его тугая, словно инеем покрытая шея перекатывалась волной, и на груди под кожей шевелились живые шары. Бык стоял около колодца на короткой привязи. Босая Шевелева, вытягиваясь на цыпочках, поливала из цибарки, терла щеткой широкий хребет, и под ее рукой розовела плотная, налитая кровью кожа зверя. Бык медленно переступал, выгибал то один, то другой бок. При моем приближении он скосился и, засопев, рванул кольцо, вдетое ему в ноздри. Шевелева неприязненно глянула на меня:
– Нельзя так, гражданин, животному больно. Стой, стой, Варяг, ничего…
Она охлопала рукой мокрую шею быка и, снова окуная в бочонок мешковину, стала тереть мясистую голову, ладонью омывая прищуренный бычий глаз. Струи текли по морде, и Варяг отдувался, далеко бросал ноздрями водяные брызги.
Во время работы косынка у Шевелевой сбилась на затылок, обнажив черные прямые волосы. Когда мытье – от ушей до копыт – было окончено, Шевелева, отвязав, повела за собой Варяга, должно быть не думая о рогах, которые качались за ее спиной.
– Пойдемте, – обернулась она ко мне.
Мы пошли. Варяг медленно ступал по двору, изредка помыкивая, раскачивая складками тяжелого подгрудка. Натертая при мытье кожа розовела сквозь нежную белую шерсть, отчего весь он еще больше напоминал снеговую глыбу, освещенную закатными лучами. У входа в сарай он приостановился, но, глянув на Шевелеву, пошел, задевая боками раскрытые половинки дверей.
В помещении стояли уже вымытые остальные племенники.
Их было шесть. Они размещались в отдельных станках, привязанные на растяжку цепями, и каждому в ноздрю было вдето смирительное кольцо с длинной, пропущенной назад бечевой. Быки шевелили влажными еще загорбками, пытаясь посмотреть на вошедших.
Шевелева приковала Варяга и занялась своим делом. Она подлазила под брюхо всхрапывающим быкам, чтобы выгрести стоптанные подстилки, и, если какой из них «заступал» солому, она плечом отталкивала его ногу.
Порою с улицы доносились женские голоса; стая дерущихся воробьев влетала в золотую от солнца дверную щель и рассыпалась под самыми ногами Шевелевой. Она ни на что не обращала внимания. Когда она зашла в станок дымчато-красного Вулкана, тот неожиданно топнул и, озлясь, прижал женщину к стене. Женщина рывком проскочила вперед и, ухватясь рукою за ноздри, повернула к себе храпящую голову.
– Чертяка бессовестный!..
Бык лупнул глазами и, уткнув нос в плечо Шевелевой, шумно выдохнул, будто из кузнечного меха. Шевелева оправила волосы и нарочито медленно, снова между стенкой и быком, прошла к выходу. Чувствуя, что ей неприятно, я молчал, вроде ничего не видел. Опять заскребла лопата-грабарка в жилистых руках.
Когда она выходила, я рассматривал хозяйство: столбы, цепи, огромных, как тракторы, быков, – и мне было не по себе наедине с ними.
Особняком стояли два молодых бычка. Их спины были еще слабыми, точно у телок, зато толстые шеи и широкие, «кубатые», словно ящики, бока обещали в будущем особую крепость. Я не слышал, как в мягких валенках подошел управляющий Федот Александрович Катальников.
– Каковы кавалеры, а? – подмигнул он. – Вот от кого пойдут коровки! Каждая одну ферму заменит… Это ж сверхэлитные, элита-рекорд!
Во всем их облике уже проступала сквозь телячье простодушие угрюмость племенных быков. Кровяными глазками по-медвежьи посматривают они исподлобья и снова зарываются мордами в сено. Слышно, как стучат по доске уже вдетые в ноздри кольца.
Перед станком подростков – сдвинутый в основании подпорочный столб. На высоте груди он измочален, будто ударами лома.
– Неужели бык?
– Нет, это я! – довольный шуткой, смеется Катальников.
За сараем, со стороны поля, слышатся все нарастающие, мягко идущие по земле дробные стуки. Уже совсем близко покрикивание пастухов, свист подпасков, и в яркой от солнца дверной щели мелькают бока шагающих коров.
– Гурты гонят на обеднюю дойку. Вы пойдете?
– Нет, Федот Александрович, побуду.
– Развевай интересно? – вмешалась вдруг Шевелева.
– Интересно. Я таких быков еще не видал…
Катальников пошел, бесшумно переставляя валенки.
С улицы, едва с ним не столкнувшись, вбежал малец и, увидев меня, чужого, что-то спрятал в ясли.
– Здравствуйте…
– Здравствуй!
Я сразу узнал в мальчике сына Шевелевой. Он до мелочей походил на мать, и мне почему-то было приятно видеть в мальчишке материнские, но удивительно привлекательные в нем черты. Такие же выпуклые, только ясные, широко открытые глаза, чем-то возбужденное лицо и даже черные прямые волосы с застрявшей соломой – все было красиво.
– Чего ты, Николай? – спросила Шевелева.
На ладони мальчика желтела глина. Вытянутой рукой, чтоб не испачкать, он притянул к себе голову матери, зашептал ей на ухо. Шевелева отмахнулась:
– Показывай уж, не задавайся.
Николай вернулся к яслям, вынул оттуда спрятанное. Это была вылепленная из глины фигура танкиста. Мать взяла, отодвинув от себя, поворачивая всеми сторонами.
– Молодец!.. Ну, забирай бойца, иди!
Хотя лоб мальчика был чистым, Шевелева что-то стерла с него ладонью и, видимо, чтобы лишний раз прикоснуться к сыну, подтолкнула его в плечо:
– Иди, гуляй!
– Хорошая работа, – сказал я, когда малец вышел.
Шевелева задержала на весу лопату, полную стекающего навоза.
– Скажите, товарищ, не знаю вашего имени-отчества, работа это или баловство?
– Думаю, товарищ Шевелева, что работа, если Николай любит ее.
– Конечно, – помолчав, согласилась она. – Если Коля любит…
Она пошла к выходу, я тоже вышел из сарая. В самом конце двора неровно, точно придавленный, двигался от хаты к катуху горбатый мужчина. Он был страшным: очень большой, согнутый вдвое, освещенный ярким полуденным солнцем. Не поворачивая зажатой плечами головы, гребя длинными, почти достающими до земли руками, он медленно передвигался, будто нес на спине тяжесть.
– Кто это?
– Мой мужик.
Я глядел на жилистые, по-мужски грубые руки Шевелевой, на ее голову с черными, упрямо не седеющими волосами и попросил:
– Расскажите, мать, о своей жизни.
Она стояла в шаге от меня, а за ней, под солнцем, виднелось стадо красных коров. Около них пестрели платки присевших к вымени доярок. Еще дальше начиналась степь – и надо всем в белых облаках синее, бесконечное небо.
– Об жизни? А вам зачем? На мужика посмотрели?..
Я признался:
– На мужика.
– Что ж, жизнь у каждого разная. Да вы бы сели, чё стоять. А жизнь – она и мачеха, и любушка, когда как взглянет. – Шевелева стряхнула насевшую на фартук полову, намела в горстку. – Жизнь… Мы-то воронежские. Не здешние мы, дальние… Когда помер отец, осталась с нами мать – сама восьмая. Слез наших мать не видала, как и мы ейных не видали, потому что порастыкались мы по разным дворам: кто батрачил у Мироновых, кто у Селезнева, у Кукушкиных… Какие из нас, конечно, поумирали – всякое бывает в сиротстве, а я выжила, стала девкой. На двадцатом году присватал меня хороший человек. У обоих ни кола ни двора, зато была меж нами любовь.
В старости можно говорить – завидовал мне весь хутор Грицынин. Был мой Иван Лукич писаным красавцем, захотел бы – любую богачку взял. Но я его за всю горькую молодость любила! Было б надо ему – стирала б ему портянки да воду пила, такой был ласковый и сердечный. На горе славился он своей силой. Во всех деревнях рассказывали об Ване истории. Без подогреву разгибал подковы, один мог подкатывать жернов… Гордый был своей силой. «Ни к кому, – говорил, – Елена, не пойдем кланяться, сами выйдем в люди!» Поженились мы, работали у кулаков. Ваня тянул за целую артель – все зарабатывал, поставил собственным, личным своим хозяйством обзавестись. И случилось! Поднял на молотилке конский привод в тридцать пять пудов и надломился. Домой привезли на повозке… По обычаю, в головах три дня горели свечи – считала я, что отходит, а он отдышался. Только уж прежним не стал. Теперь, к старости, совсем сказалось: уж сколь времени крючком гнется – давит его тот конский привод…
Из сарая послышалось мычание и требовательный стук. Шевелева ухмыльнулась:
– Молодец пить захотел. Слышь, коленом по доске бьет!
Мы вошли в помещение. Самый старый, крупный и злой из всех племенников – мутно-седой бык Молодец колыхал отросшим чуть не до земли подгрудком и, посапывая, вздувал бока.
– Для виду пыжится, – будто оправдывая в моих глазах быка, объяснила Шевелева.
Сухонькая, она рывком подняла на ясли трехведерную бадью:
– Пей, не пугай.
Молодец долго пил, тупо уставясь в столб выкаченными, подернутыми мутной пленкой глазами. Его широкий, как днище табуретки, лоб не влезал в бадью, и Шевелева на весу наклоняла ее.
– А к ним, к бычатам, я вот как пришла… Хоть один на семью работник, но решила Колю сделать ученым, мужика лечить на курортах. А тут война. Погнали мы гурты в Казахстан, место Чилик. Чего натерпелись! Ну, то минуло, а возвратились сюда – и того хуже: все уничтожено, а работники на фронте. На всех мужских постах – бабы. Какая и поревет, чтоб кругом не слыхали, а потом опять ничего: дескать, чё там!.. И я на эту работу рискнулась. В первый день он вот, Молодец, ударил меня, спасибо, не затоптал, мимо проскочил. Поднялась я с земли. Хорошо, никто не видел. Стою на четвереньках, как малое дитё, и не могу дохнуть…
Шевелева засмеялась, отодвинулась от Молодца. Тот тянулся, просяще подталкивал ее в локоть кучерявым лбом.
– Сейчас, ладно уж! Еще, вишь, пить хочет… Ну, вздохнула я кой-как, а потом пошло. Правда, еще доставалось… Может, я чудно рассуждаю, но всегда в памяти, как мы, семеро сирот и мать, хоть о плохонькой коровенке думали в голодные ночи. А ведь от этих быков какие происходят коровы и скольким тыщам людей на счастье!.. Тут чем лучше уход за бугаем, тем больше породных телят. Я как кормлю племенника, так мне и думается: вот он глотнул – и это на пользу еще не зачатому теленку. Глотнул – еще одному… Может, вы посмеетесь над таким рассуждением, а оно верное: каждый, даже самый обчерствелый человек о детях думает. Мой Колька будет, может, фигуры лепить, а другие дети – еще что-нибудь. Сколько их после войны без отцов… И всем нужны коровы.
Здесь, в сарае, часто вспоминаю Михайлу. Покойного отцова брата. Дядю то есть… Расстреляли его: прятал он в избе раненых красноармейцев. Около избы и расстреляли. Дядя Михайло еще в царское время знал грамоте, и не абы как – шибко знал. Поп и учитель прозывали его «студентом». Хозяйствишко имел два горшка и шестеро едоков; семейный, а держался чудно, вроде бобыля: говорил об человечестве и все читал книжки. Мы еще с отцом жили, махонькие, а дядя посберет нас всех в избу – и своих, и с улицы – и читает хорошие стишки да заставляет заучивать. Вы, мол, заучите, даже хоть и как балберки заучите, а когда вырастете, станете понимать. Стишок – он иногда лучше отца поддержит.
Знаете, какая детская память? После, во взрослые годы, много было чего переговорено, и так ни на что истерлось в памяти, а из детства каждое слово и сейчас живое, Даже помнится дядино лицо, с каким он какое слово читал! Был там красивый стишок – я его и сейчас знаю. И Колька знает. В нем про старую жизнь, и вроде задание на нашу работу… Как песня. Начало – об другом, а дальше так:
У леса стадо пасется —
Жаль, что скотинка мелка;
Песенка где-то поется —
Жаль, неисходно горька!
Ропот: «Подайте же руку
Бедным крестьянам скорей!»
Тысячелетнюю муку,
Саша, ты слышишь ли в ней?..
Надо, чтоб были здоровы
Овцы и лошади их,
Надо, чтоб были коровы
Толще московских купчих,—
Будет и в песне отрада
Вместо унынья и мук…
Слушал я некрасовские стихи, произносимые сбивающимся, сипловатым голосом, и думал о некрасивой прекрасной женщине, о тучных стадах, которых не видел давно умерший писатель, но о которых он пел…
Элита
Ровна степь на границе Целинского и Сальского районов. Лишь с юга на северо-восток змеями тянутся неглубокие балки Юла и Кугульта да желтый, с беловатыми, посолонцованными берегами Маныч сонно течет на северо-запад.
Вода в пересыхающем Маныче горькая. На десятки километров нет ни одного пресного озера, нет холодных журчащих криниц, кони пьют из разбросанных по степям колодцев, вырытых в сухой земле. Цепями, перекинутыми через блок, тянут из колодцев старые быки-водокаты ценную в степи воду. Равнины выгорают здесь рано. Уже с июня трава становится серой, четко виднеются жесткие, как металлическая стружка, железняки и верблюжья колючка. Неласковы эти места. Летом знойные астраханские северо-восточные суховеи, зимою тоже суховеи, только морозные, сдувающие снег с каштановой и суглинистой почвы, с выщелоченной земли…
Это крупнейший в мире Буденновский конный завод, как сообщают справочники, лаборатория и фабрика задонского коневодства. Тут совершенствуют новую скаковую лошадь, которую назвали «буденновской».
* * *
…Жаркое утро. Мы сидим в стороне от дороги с Мещеряковым – смотрителем табунов, и Мещеряков рассказывает историю новой породы. Позади пасется табун. Издали слышно, как переступают, жуют матки, как отфыркивается неумелый жеребенок, заглотнув пыли.
– Давно это было… – говорит Мещеряков. – В тысяча девятьсот двадцатом году… Первая Конная гнала беляка из Ростова и Батайска, обходом шла сюда, на Сальские степи. А тут день и ночь дым висел над Егорлыком и Манычем, Сал гудел от крику: живодерили по степям деникинцы и шкуровцы, было их как волчья по балкам, и все верхами да на тачанках, и всех надо было гнать и топить в Черном море… Стоять! – колыхнул смотритель большое тело, оборачиваясь в сторону ударившей по земле копытной дроби. – Го-о-о-у, гоу, забурунные! Вы смотрите, что делают!
По полю, отделяясь от табуна, скакала рыжая, чем-то напуганная лошадь. Впереди, у ног ее, вился чужой вороной жеребенок. Взбрыкнув, лошадь остановилась, повела боками и, как ни в чем не бывало, наклонилась губами к траве.
– Кокетничает, принцесса! А сама жеребая, не дай бог, скинет.
Мещеряков, или, по-конзаводскому, товарищ Мещеряк, снова присел на корточки и намотал на руку повод своего коня.
– Газетка есть?
– Есть.
– И спички?
– И спички.
Откинув полу расстегнутого на тучном животе пиджака, Мещеряк полез за кисетом.
– Да… значит, гнали беляка через Великокняжескую – нонче Пролетарскую, оттуда – на Торговую – нонешний Сальск. Всех чисто выгнали и, как нужно, потопили. Вот тогда командарм Первой Конной Семен Михайлович стал создавать конзаводы. А генерал Михайло Иванович Чумак, что теперь начальником над всеми заводами, был комбригом… Ему и приказал Семен Михайлович интересоваться по эскадронам племенными лошадками. Подходили больше те, каких в бою, шашкой и наганом, брали конники у гидры контрреволюции. А гидрой были Деникин, Врангель, батько Махно, а также Маруся Никифорова.
…Ну, товарищ Чумак выполняет боевой приказ, собирает лучшую лошадь на Украине, при станции Игрень, а оттуда переправляет сюда, где мы с вами сейчас пасем табун…
Кроме нашего, организовались тогда и завод Первой конармии, и Терский на Кавказе, и Шаблиевский. Управление донскими и кавказскими заводами назвали в те дни «Удонкавконь», и узаконил это управление Революционный совет приказом две тысячи пятьсот двадцать семь…
Трудновато получалось. Первая Конная на Крымском фронте громила Врангеля. А как разгромила, кинула сабли в ножны и вернулась на Северный Кавказ, тут все зараз заработали. Сам Семен Михайлович в заводы с головой нырнул и не выныривает досе!..
Повествует Мещеряк ритмично, плавно, с цветастыми размеренными оборотами, явно разбираясь в поэтическом слове, смолоду, с семнадцатого небось года, умея ораторствовать.
– Хлебнули, – говорит он, – кислого. В коневодстве основа – это хорошая лошадь. Осознаете, что такое хорошая лошадь?
– Осознаю, наверное…
– Нет, милый товарищ, лёгко смотрите! Мы, кто под конским брюхом выросли, жизнь на коне прожили – и то не осознавали. Не могли осознать, потому что не существовало тогда на свете хорошей лошади. Вы мне скажете про араба? Отвечу: араб – завидная лошадь, картинка, а до хорошей арабу далеко. Не трудовой это конь, а парадный. Под мягким ковром играет, движения нарядные, резв, а бездорожья на сотню километров, суточного дождя не выдюжит. И всякая заграничная – венгерка, прусская, трокен – не выдюжит. Скажете о русских? Не спорим, характерные кони, а зато на скорость со слабиной. В общем, не имелось тогда породы, чтоб бессомненно сказать о ней «хорошая», утвердить ее в корень молодых заводов и повести от нее племя.
А Семен Михайлович поставил перед заводами задачу: производить такого коня, чтоб и в повозке, и в борозде работал, и под седлом отличался быстротой. «Думайте! – объявил он всем. – Такая лошадь – необходимость для государства….»
Тогда наш заводской человек раньше всего в мыслях построил, вроде нарисовал, новую лошадь!.. Не сразу это вышло. Думать нужно было, чтоб и не залетывать в облака, но и делать не меньше, чем возможно человеку на земле. Командиры, которые еще не позалечили ран, демобилизованные кавалеристы-табунщики, сам командарм и ветеринары обсудили будущую лошадь со всех сторон, всю ее, какой она в будущем образуется, продумали – от постановки и формы копыта, от неколющегося рога на этом копыте до кончика ее уха.
Обсудили множество старых пород и выбрали из них те, от которых пойдет новая. У дончака решили взять крепкое тело и выносливость и соединить в одно с этими качествами резвость английской скаковой.
Богато здесь было споров. Ученые, по большей части старого воспитания – назывались они англоманами, вроде как на бога молились на английскую скаковую и считали, что нужно всех наших маток скрещивать с английскими жеребцами, потомство опять скрещивать с ними же – и так, пока не поглотит английская кровь степную… Доказывали: «Английская скаковая – лучшая во всем мире».
Командарм Семен Михаилович им отвечал: «Насчет всего мира – верно. А нам она не подходит. Не деловая это лошадь. Проскакала она с красивостью свои положенные сажени – и выдохлась и нуждается, чтоб ей скорее массаж и другой уход делали, вроде она в санатории».
А были такие, что в другую сторону перегибали. Шумели: «Наша донская лошадь улучшений не просит. В том виде, в каком она есть, поведем от нее потомство. Нечего в дончаке менять. Это конь отечественный!»
Не критиковали они в старом дончаке того, что скачет он не дюже. По-ихнему было: хоть лапоть, а раз он отечественный – значит, он лучше любого сапога.
Отбросили мы как англоманские, так и ихние ошибки и стали думать о правильной лошади. О такой, чтоб и крестьянину была подарком, и в атаке не уступила б по скорости даже пуле!
Но чтоб строить, дорогой товарищ, такую лошадь, требовались кровные производители. Где их было в разруху взять? В старое время за них состояния отдавали. Заводчик Корольков до революции заплатил за жеребца Грымзу шестьдесят тысяч рублей золотом. Это что! За Гальтимора плачено двести тысяч – поинтересуйтесь, почитайте в управлении документы.
По таким лошадям мы тосковали, чтоб их в производство ставить, а их, голубей, еще при «всевеликом» Войске Донском западные заводчики Супруновы, три брата Королька, Воеводины, Жеребковы, Хоцкие угнали от большевиков да по дороге поморили. Нам же досталась, за мелким исключением, худшая из задонских кровей – лошадь Букреевских и Пишвановских восточных заводов.
Что это за лошадь? Ребенок знает: она и безаллюрна, и маловерхова. А самый ценный конь погиб от руки буржуев-заводчиков. Было их при царизме по этим степям сто сорок пять частных заводов, не считая станичных казачьих табунов, не считая на правом берегу Дона Провальского завода Войска Донского, что тянулся до самых границ с Украиной. И вот зло, дорогой товарищ, берет! Есть у несведущих мнение: хорошо, мол, конзаводам – для своей работы готовые табуны получили.
А хотите вы знать, что из всех маток, бивших копытами эту степь, досталась нам одна десятая процента, совсем точно говорить – одиннадцать сотых. А жеребцов и того меньше – девять штук.
Сила наша в том оказалась, что табунщики подобрались из буденновцев, у каждого ладонь в мозолях от шашки, у каждого душа без колебанья. По крохам нацарапывали хозяйство. У Старого Маныча окружили и поарканили одичалый косяк жеребца Буслая, что дикарем пробродил по речным верховьям два года, не допускал ни волка, ни человека. В Кугульте захватили жеребца Бордо, поарканили маток.
Ладные были первые кони, но не такие, чтоб увидишь – и сердце загорится…
Например, жил у нас с первых дней сын Дарьяла – жеребец Дневник, взятый с жизнью у шкуровского карателя бойцом Колей Свешниковым. Лучше Дневника не имелось тогда производителя. Был он самым что ни на есть дончаком, как говорят по-ученому – «дончаком восточного типа». Сам роста крупного, широкий, могучий – страшно смотреть. Глазищи выпуклые, как у барышни. Повернет – стрельнет. Выразительно, сукин сын, смотрел… Но имел этот красавец серьезные недостатки, даже пороки. Например, цибатость, сказать по-житейскому – долговязость. Лопатка у пего была прямая, а ценится углом, чтоб у ноги был в беге большой рычаг. Бабки торцовые, то есть прямо стояли, а нужно, чтоб легонько наклонялись, – тогда нога пружинит и не так разбивается на скаку. Ну, была еще у Дневника растянутая линия верха…
…Честно отслужил свое, давно пал Дневник. Почет и спасибо ему за все, но истины, товарищ, не укроешь: не был он безупречным дончаком.
Имелся еще заслуженный жеребец, правнук Тимоти, сын Галилея – Буян. Шея с высоким выходом, колода тугая, шерстка короткая – ножничками не возьмешь. Была у него «оплата корма» – лучше не надо: что ни съест, оплачивалось его резвостью. А тоже имел и саблистость в ногах, и другие недостатки.
Были это наши лучшие жеребцы, в то время как стояла перед нами задача – создать с ними табуны, о каких и не мечтал человек.
Но хорошо строить, скажем, бричку, когда есть под рукой материалы. А как строить, когда их нету? Так и рассуждали некоторые специалисты: дескать, необходим без упрека племенной материал, иначе затея впустую.
Семен Михайлович губ не разжимал. Одного выслушивал, другого, только руки позади сдавит добела и покачивается с каблучка на носочек. А потом как рубанет им: «Эх, вы! Учили вас, мамочкино горе!.. По-революционному взирать надо! Что значит материалы и не материалы, если Родине новый конь нужен? Есть у вас наука селекция, по ней и действуйте. А если что в науке не так – переделайте!..»
И пошел по заводу командарм Семен Михайлович Буденный… А вокруг – конармейцы, друзья и по наступлениям, и по цигарке, которая выкуривалась одна на пятерых, – все знают Семена Михайловича, и Семен Михайлович всех знает. Огладил он усы и как скомандует (я тогда как раз не был, мне потом рассказывали): «Товарищи революционные кавалеристы! – так крикнул, вроде сейчас подаст «По ко-о-о-ням!» – Братцы! С кем, – спрашивает, – разбили Шкуро?»
«С тобой, Семен Михайлович», – говорят бойцы.
«С кем, отвечайте, разбили Деникина? Пилсудского? Махно?.. Врангеля?.. А бедность не разобьем? Не создадим, – спрашивает, – замечательную лошадь? Вы, – говорит, – хоть зараз не при форме, а мои бойцы! Так что ж, Дона, Маныча не прославим?»
Вот так говорил командарм…
– Ну и что?
– Как что? – будто проснулся Мещеряк. – Да что ж вы, товарищ, по заводу не ездили, табунов не видали?
– Видал. Я спрашиваю: к работе как приступили, начали с чего?
– А!.. С чего начали? Это так… Собирались тогда командиры. И Семен Михайлович, и Михайло Иванович Чумак, и командиры эскадронов. Станут перед лошадью, смотрят на нее и говорят, вроде она глиняная: «Надо подсушить ей пясти. Больно сырые». То есть мясистые. А скакуну нужна нога сухонькая, как струна у скрипки, – поясняет Мещеряк. – «Прибавить, – говорят, – холки». За неимением лучшей, пойдет, значит, лошадь для племени, только надо подобрать ей пару, чтобы жеребенок не унаследовал плохой ноги и низкой холки.
«А этой, – рассуждают, – отлить такой-то крови и прилить этакой, чтобы прибавить ходкости. Уведите», – говорят.
Конюхи отводят, приводят другую.
«Вот у этой матки, – любуются, – пышная мускулатура. Только надо б потомкам прибавить верховости. Скрестим-ка ее с Дозором».
С этого начался, не знаю – поймете ли, научный подбор и отбор. Жеребят здесь решили не всех пускать в дело, а лишь тех, что начнут отвечать нашей мысли, тем думам, что мы выработали о будущем скакуне!
Но это полдела! Требовалось еще обдумать, как выработать в породе легкость к трудной жизни… Решили, что воспитываться обязано животное не в помещении, где на него сквознячок не дохнет, а день и ночь под открытым небом. Нехай получает привычку и к степному морозу с ветром, и к зною, чтоб и детеныши начали рождаться крепкие, чтобы образовалась в породе выносливость, как образуется, например, масть породы. Иначе нельзя. Мало ли в какие условия попадет в жизни…
Мещеряк глядит в поле. Его тяжелая фигура неподвижна. Вылезшие из-под тугого воротника складки кожи, бурые от загара, словно медные, кажутся раскаленными жгучим солнцем.
– Сейчас, – говорит он, – когда рассказываешь, милый человек, про дела, кажется, просто все. А оглянуться назад – чего только не было!.. Едва начали работу – выяснилось, что лучшие жеребцы Бордо да Буян со скрытым сапом. По положению, надо стрелять. Это нужных-то производителей пулей бить!.. Приехал врач Сильченко, принялся что-то вливать им под кожу. Кровь у них возьмет, смотрит в микроскоп. Видать, не нравится ему… Опять достает иглы.
Мы ждем, а он сутками не показывается. Наконец вышел, надел на Буяна, потом на Бордо вроде противогазы и на свою ответственность разрешил пустить их в косяк. Это легко сказать – разрешил. А ну промахнулся бы человек и заразил все поголовье… Не промахнулся, потому что сердцем болел за это! Сейчас лучшие линии новой породы – линия Бордо, линия Буяна.
Или корм… Думаете, накормил коня, чтоб ему от пуза, и все? Извините! В создании организма разная трава играет разную роль. Их по нашим степям чуть не двести трав. Рассчитать надо, чтоб не выели табуны одну, не оставили другую. Начались обследования. Отмеряли в степи квадратики и ухаживали за каждым, как за сыном; под траву лазили, изучали грунт, минералы, а поверху высчитывали: сколько в квадрате таких травинок, от семени идут или от корня, долголетние или годичные. Пустят туда жеребят, а потом, что они не дощиплют, ножницами состригали, раскладывали по пакетикам – мол, каких же питательных веществ и в каком проценте не потребляет лошадь. И атмосферу изучали. Разная атмосфера разно влияет на коня.
А сам конь? Каждую ворсинку в нем постигни! Наука тяжелая, как астрономия, а разобрались вот – посмотрите на результат…
Тонконогие гладкие матки пасутся в двадцати шагах. Бликами отливают крупы и спины, десятки длинных, по-степному тонких шей опущены к траве. Еле приметно движется косяк навстречу ветру, губы перебирают былки, обходя горький полынок, сощипывая стебли типчака. Сантиметр за сантиметром, не оставляя следа на целине, переступают никогда не знавшие подков легкие копыта. Высокие, большеглазые жеребята требовательно толкают мордами под черный кобылий пах, ловят губами набрякший от молока сосок. Изредка оторвется в сторону молодая матка и, выскочив, взбрасывая тонкой гривой, заржет, будто красуется перед подругами.
– Хо-о, хо-о! – звучит успокаивающий голос Мещеряка.
И опять все тихо, неподвижна дневная, тронутая осенью степь.
Вдалеке залитая солнцем рыжая скирда, а перед нами, совсем рядом, еще более яркой рыжиной блестят пасущиеся лошади. Одни более темных, каштановых, другие светлых, буланых оттенков, иные совсем светлые, но все одинаково слепят и ласкают глаза присущим дончакам мягким играющим отливом.








