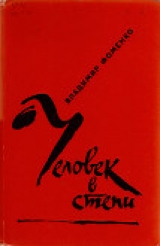
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Взвывает мотор, идем в воздух.
Но волка-хозяина мы не обнаружили. Если его не взяли с других самолетов, он разбойничает до сих пор.
На острове
Товарищ Жариков – аккуратнейший человек, причесанный на пробор волосок к волоску. Помощник председателя райисполкома, он с посетителями беседовал необычайно обстоятельно. Если вопрос решить сразу было нельзя и приходилось назначать следующую встречу, Жариков открывал в настольном календаре нужную страницу, делал пометку, а записав, снова надевал на чернильный карандаш пластмассовый наконечник.
Я поразился, узнав, что в войну Георгия Никитича Жарикова – лихого разведчика – знали на весь казачий корпус. Поговорить о корпусе с самим Георгием Никитичем не удавалось: шла стройка Веселовского водохранилища, в райисполкоме было не протолкаться от приезжавшего народа.
Как-то, убирая в сейф дела, Жариков неожиданно сообщил, что едет на утку. При слове «утка» я не выдержал и, должно быть, так глянул на Жарикова, что он спросил:
– Хотите стрельнуть? А плавать умеете?
Я кивнул. Плавать я умел, и вроде неплохо. Непонятно, правда, зачем он об этом спрашивает? Уж несколько дней, принесенные восточным ветром, стояли морозы. Где ж тут плавать?
– Ну, поедем, – решил Жариков. – Ружье с патронами и носки дам я. Остальное надо доставать. У вас какой номер сапог?
– Сорок первый.
– Значит, нужен сорок третий, чтоб на шерстяной носок и портянки.
Он снял телефонную трубку, с кем-то соединился и спросил:
– Товарищ Сапега, не дадите мне сапоги на ночь? Завтра привезу.
У меня сжалось сердце. Сейчас этот Сапега скажет: «Что ж вы вчера не звякнули? Вчера как раз были сапоги, лежали. А сегодня, как назло, дал зятю». И сорвалась поездка…
Но сапоги были дома.
В другом месте не отказали в ватных штанах вместе со стеганкой. У третьей доброй души нашлась капелюха. Венцераду, то есть широченное рыбацкое брезентовое пальто, искали долго.
– Нет-нет, – говорил Жариков в ответ гудящим в трубке голосам. – Венцераду белую. Только белую.
Под вечер шофер привез в дом приезжих ружье и громоздкий узел. Я рано лег, но, как всегда перед охотой, спал тревожно, все взбрасывался. Окончательно встал в три ночи, зажег лампу, начал одеваться. Ветер на улице, слышно, не утихал, проносился над крышей, гремел болтом ставни.
Жариков обещался в четыре. Секунда в секунду за окном стрельнула дверца машины, вошел Жариков.
Не раз замечал я, что люди, одетые для охоты, ведут себя как бы запорожцами: шагают вразвалку, разворачиваются энергично. Георгий же Никитич аккуратно пригладил волосы, попросил:
– Покажите, как портянки замотали.
«Комроты Жариков проверяет солдатика», – усмехаясь, подумал я и стянул сапог.
– Ничего, – осмотрел замотку Жариков, – а когда руки поднимаете – стеганка не тянет?.. Покажите. Ладно, поехали. Насчет дичи будет так: по паре нам с вами, пару шоферу, остальное, как всегда, в детский интернат.
Мы помчались по гладким, как стол, улицам степного поселка Веселого, но, выбравшись за околицу, сбросили скорость, начали нырять по изрытой дороге. Все вокруг было ископано, в лучах фар высвечивались бугры земли, высокие штабели, заборы, склады, и все это тянулось до самого берега незаконченного водохранилища. Смешанные воды Маныча и далекой Кубани соединялись, затопляя и мелкие и глубокие балки, хороня русло Маныча, где, отмеченная на всех специальных картах, лежала многовековая великая дорога перелетной птицы.
Сейчас тут, где были привычные птице берега, разлилось Веселовское море, и удивленные утки садились на небывалый здесь простор. Мороз в эту осень ударил жестокий, будто январский, но птица чуяла, что он нестойкий, не спешила на юг и, снимаясь с открытой воды, летела к берегам, в «затишки».
К одному из таких затишков и направлялся Жариков. Стройка все больше уплывала назад, машина выбралась на степной профиль, начала прорезать резкий ветер, бьющий нам в бок. Минут через пятнадцать, несмотря на шум мотора и свист напирающего в степи ветра, стало слышно, как о берег ударяют волны.
Машина остановилась.
Фары освещали береговую линию, белую от намерзшей у воды ледяной корки. Один за другим поднимались всплески, их шум был непрерывным, напряженным, будто вдоль берега работали турбины.
– Протронь еще, – сказал Жариков шоферу, и мы поехали вдоль «турбин».
– Еще малость протронь. Стоп!
Здесь почему-то не бил прибой. Вода не взбрасывалась, шла под берегом быстрыми кругами, как в половодье на обрывистой глубине.
– Впереди в море намыло островок – он волну тушит, – объяснил Георгий Никитич. – Здесь и будем заходить.
– Куда?
– В воду. Нам на островок надо.
Шофер выключил фары, и мы вышли из теплой машины. Ветер сразу прохватил меня насквозь, захлопал полами наших брезентовых венцерад.
– Подъезжай к десяти, – сказал Жариков шоферу.
Тот уехал.
– Пошли, – сказал мне Жариков.
Утро значилось только по часам, на самом деле была глухая ночь. Где-то влево, наверно возле складов на стройке, мерцали точечки электрических огней.
– Пошли… – сказал я и вслед за Жариковым шагнул в темноту.
Днем, если стать лицом к морю, очертания противоположных берегов виднелись с одного лишь бока. Дальше – всюду только небо и вода. Водные просторы, видные днем, рябили ровными, одинаковыми волнами, а у земли, возле строительных лесов, вода то беспорядочно плескалась, то словно выворачивала со дна круги расходящейся мути. И в такую воду надо сейчас, ночью ступать…
Наши резиновые сапоги были высокими, с боков у бедер они доходили до пояса, и в ушки сапог мы продели брючные ремни. Затем под ремни патронташей плотно подоткнули полы своих венцерад и сползли с обрыва вниз.
Сразу скрылись огни слева, в ноздри вместе с ветром пахнуло сыростью волны. Под каблуком захрустел лед, и ноги оказались в воде.
Мы подняли перед собой ружья, пошли вперед. Невидимая в темноте вода плескалась о колени, потом сразу стало глубже. Георгий Никитич обернулся и коротко проинструктировал:
– Мы идем по гребешку наноса. Тут с острова ил нанесло гребешком. Узеньким. Так что не становитесь ни влево, ни вправо. Если кто из нас окунется, другой пусть не бросается к нему, а протянет ружье, иначе оба можем потерять гребешок. – Сказав это, Георгий Никитич пошел дальше.
Я огляделся. Кругом каждым кусочком кожи чувствовалась во мраке вода, журчала вокруг ног, толкала проплывающими ледяшками. Ноги были в носках и плотно намотанных портянках, но лишь тоненькая резина защищала их от воды, и сквозь резину явственно ощущалась эта обхватывающая вода. Она все поднималась, сапоги скользили по гребешку, и инструктаж Жарикова нисколько не успокаивал. Может быть, вчера гребешок был одним, а за сутки его размыло этим журчащим, плещущим на ветру течением. Ступнешь – а впереди яма. Ведь кто знает, как ведет себя это недостроенное море?..
Держа ружье в одной руке, я пробовал другой – не выбились ли из-под ремня полы венцерады? Что-то они очень отяжелели. Полы не выбились, но намокли от всплесков и оледенели вокруг меня жестким колоколом; вода захлестывала все выше, я поднимался на пальцы, хотя и понимал, что этим не спасешься.
– Стоп! – шикнул впереди Жариков и взмахнул рукой.
«Залезли», – решил я.
– Казарки, – шепнул Георгий Никитич и пригнулся к воде. Из темноты, сквозь всплески донеслось характерное кыгыканье летящих казарок.
Низко пригнувшись к воде, стараясь не выкупать ружье, я лихорадочно стал заряжать, но Георгий Никитич выпрямился.
– Свернули, – громко сказал он, пошел было дальше и резко вдруг, забурлив водой, попятился. – Яма, – объяснил он, остановившись. – Разряжайтесь.
Да, разряжаться нужно. По инструкции Жарикова тому из нас, кто окунется, другой протянет ружье; не следует протягивать заряженное.
Я не ощущал уже, что руки у меня мокрые, что лед намерз на рукавах и подоткнутых полах. Я ждал указаний Жарикова.
– Переступите, попробуйте дно справа от себя, – раздался из темноты его голос.
Моя нога, скользнув по илистому откосу, пошла вниз.
– Так. Теперь влево попробуйте, – сказал Жариков с присущей ему, удивительно приятной здесь аккуратностью.
Я попробовал, но и слева не было дна.
– Отступите три шага назад, ищите там, – сказал Жариков.
Мой правый сапог снова оборвался, но зато левый нащупал ровный пятачок дна.
– Есть, Георгий Никитич, только узко.
– Ничего, нам хватит! – стал подходить ко мне Жариков.
Место было настолько узкое, что мы плотно обнялись, чтоб разминуться, и Георгий Никитич опять пошел впереди, разыскивая ответвление гребешка, которое все-таки привело бы нас к острову. Он почти сразу нашел какую-то подводную тропку, и мы двинулись. Ноги чутко щупали дно, переступали осторожно, чтоб высокая вода не захлестнула поверх сапог.
То ли развиднелось, то ли глаза работали особенно напряженно, но я увидел в темноте остров. Хотя бы не оборвался гребешок; ведь, наверно, может и под самым островом оказаться размоина. И, возможно, здесь, вдали от оставленного берега, как раз и понадобится мое умение плавать, чем интересовался вчера Жариков. Тогда, естественно, будет довольно важно – тянет или не тянет под мышками стеганка и не стесняет ли движения? Минуты шли…
– Все! – сказал наконец Жариков, шагнув на глинистую, скользкую ступеньку. Мы зашагали уже свободно, разбрасывая ногами меленькую, не страшную теперь воду, и вышли на остров.
Радостно стоять на сухой, совершенно твердой, даже каменной от мороза земле! Волна не бьет о наши колени, их прекрасно обхватывает сухой ветер, а ледок, тонкий, как стекло стакана, намерзает на резине, чудесно осыпается при каждом движении. Мы поотбивали друг на друге лед с венцерад, потом Жариков поднял на берегу выброшенную водой дощечку, поставил ее на ребро, против места, где мы выбрались из воды.
– Чтоб не потерять брод, – объяснил он.
Мы зарядили ружья и пошли по хрусткой от застывших лужиц земле. Над головами засвистело, Георгий Никитич выстрелил в темноту. Сверкнул огонь, и тут же четко хлопнулась утка. Жариков не бросился за ней, а ударил вверх из второго ствола, и новый звук – хлопнулась вторая. Георгий Никитич поднял уток одну за другой, стал подвязывать к поясу.
– С полем, – поздравил я, испытывая противную острую зависть, понятную каждому охотнику. – Как это вы видите в темноте?
– Какое ж тут увидишь? По звуку бью. Конечно, упреждение нужно, учет ветра, угол, все, как в зрячей стрельбе. Вы офицер?
– Да. В запасе.
– Вот и тренируйтесь. А то ж, конечно, все забросили небось и меня вон там, в воде, проклинали!
По голосу было слышно, что Жариков сияет, должно быть очень довольный и тем, что отыскал в воде дорогу, и мастерскими выстрелами.
Пройдя шагов пятьдесят, он сказал:
– Маскируйтесь тут, а я сверну в сторону. Ложитесь, только нагребите под себя камыша, под живот и грудь побольше, а то простынете.
Я остался, начал поспешно сооружать логово. Ни одного куста, чтобы стать за ним. Какие ж кусты, если островок молодой, может, месяц от роду; кругом лишь кучки чакана и камыша, прибитого волнами, окостенелого на морозе.
Подмостив под себя камыш, нагреб его с боков и перед лицом, положил на этот камышовый бруствер заряженное ружье, взвел курки. Теперь можно лежать, укрывая лицо от колющего ветра, а когда налетит птица – вскакивать, бить навстречу.
Сразу же засвистело впереди, потом с одного бока, с другого, я хватился за ружье, но не стрелял. Взять, как это делает Жариков, в темноте упреждение, учесть ветер, угол, – и все это в одно мгновение – не так просто. Расстрелять же патроны впустую и безо всего встретиться с опытным напарником не позволяла охотничья гордость. Можно учиться, когда один. Тогда не зазорно возвращаться с сумкой стреляных гильз и больше ни с чем.
Впереди, должно быть под берегом, громко крякал «сидячий» селезень. Крякали и где-то на воде сзади, где-то, слышно, пролетали в вышине. Птица на островке кишела, недаром сюда такая трудная дорога. Выстрелы Георгия Никитича до меня не доносились: он стоял за ветром. А, наверно, много уже набил…
С начала охоты прошло минут пятнадцать, светало, и уже можно было различить силуэты. Низко налетали две утки. Я выстрелил – и передняя упала. «Есть! Началось!» Подбежав к утке, я поднял ее. Она была крупной, на ощупь сытой, горячей под крыльями.
Удачный почин многого стоит! Начинаешь уверенней вскидывать, без спешки, но мгновенно ощущать прицел. Но тут же счастье и изменило.
Высоко, в совсем уже светлом воздухе, показался гусь. Не наша обычная казарка, частая на юге, а крупный сибирский гусь-гуменник. Бросая гортанные крики, он шел сюда, не замечая меня, плашмя прижавшегося к земле. Вскочив, когда птица была уже надо мной, я дважды выстрелил. Гусь изменил направление и, сперва приостановясь, воронкой пошел вниз. Падал он не на землю, а в море. Всплеснувшись, он вывернулся вверх грудью, показал угол крыла, и его понесло. Невыносимо смотреть на дичь, которая не только выслежена и умело подпущена, но и сбита, но которая не лежит перед тобой, а на глазах уплывает. Вот тебе и личные трофеи и детский интернат!..
От досады я начал горячиться, мазать по новым целям – и последний раз непростительно, когда нельзя было не попасть. Я понял: надо насильно бросить стрельбу на пяток минут, отдохнуть от напряжения.
Закурил и, поднявшись в рост, стал отдыхать, искать глазами Георгия Никитича. Он был на длинном мысу – совсем узенькой стрелке, открытой ветру и окруженной волнами. Вот, пересекая стрелку, проносится цепочка черных точек – уток. Выстрел – и одна падает.
«Везет, – подумал я. – Не в волны, а как раз на землю».
Вот еще цепочка, но уже с другой стороны, и опять то же: второй выстрел – второе падение черной точки рядом! Тут я понял: Жариков улавливает то место на стремительном полете, на котором надо попасть, чтобы инерция полета птицы бросила ее, уже убитую, как раз на полоску земли.
Вот это умение! Не моя мазня… Прав Жариков, заброшена моя тренировка!
Поднималось солнце. Уже ясно виднелись на островке наплывы чакана, соломы и даже шары перекати-поля, принесенного водой откуда-то из затопленной степи. Все это, мокрое еще несколько дней назад, сейчас от мороза белело, и опять с уважением подумал я о Жарикове, который требовал по телефону обязательно белую венцераду.
Когда лежишь неподвижно, трудно бороться с холодом. Несмотря на капелюху, ватную одежду и венцераду, зябнут пальцы, спина, голова. Но вот видишь налетающую издали птицу, и от толчков сердца враз становится тепло.
…Было восемь утра, кончился богатый пролет валом, птица летела реже, и можно было оглядеться. Справа лежал пролив, через который мы шли ночью; за ним берег, отороченный ледяной каймой; дальше черная, сухая от мороза степь, по которой ветер гнал полосы пыли. Слева на много километров тянулось холодное, затопившее землю море, под горизонтом оно казалось выпуклым и застывшим, а чем ближе, тем гребни были круче, поднимались, словно крыши хат.
Георгий Никитич подошел в девять. Утки ярко висели вокруг его пояса, он испытующе глянул на меня: как, мол, настроение?
Узнав о случае с сибирским гуменником, посмотрел в ту сторону, куда он рухнул, и сказал:
– Его прибило к тому выступу. Пошли.
У выступа птицы не оказалось.
– Как же вы ошиблись? – укоризненно спросил Жариков. – Где ж гуменник-то?
У берега колыхался нанесенный плав, и было видно, как издали, по дуге, огибающей остров, подносило новые щепки и черные корни камыша.
– Здесь бы он был, – показал Георгий Никитич пальцем. – Вы его подранили, он и уплыл своей дорогой, вышел из течения. Зря, – выругался он, – покалечили.
Мы двинулись домой, подошли к броду. Глядя на установленную Жариковым дощечку, повернутую к воде острым углом, словно указкой, я вспомнил о пластмассовом наконечнике на карандаше Георгия Никитича и подумал: «За Жариковым не пропадешь».
Мы снова стали подтягивать сапоги до пояса, и Георгий Никитич вдруг радостно засмеялся.
– Гляньте, – показал он на тот берег, на подъезжавшую машину. – Шофер наш. Я его выучил точно подъезжать, так он небось за бугром стоял, а увидел, что мы вышли, – и враз появился, черт хитрый!
Родные души
Известно: рыбак рыбака видит издалека. Так же и охотники.
…Мчится по зимней проселочной дороге грузовик. В кузове – колхозницы, везущие на базар молоко, живых кормленых гусей и кур; двое незнакомых друг другу парней из разных хуторов; гладко выбрившийся дед, едущий в райцентр в гости к сыну или к замужней дочке.
Режет встречный ветер, и все, подняв воротники полушубков, надвинув на глаза капелюхи и шерстяные платки, сгрудились вместе, натянули на себя добытый у шофера брезентик. Брезентик совсем небольшой, и, чтоб не задувало, надо сидеть тесно, не ворочать головами.
– Лисица мышкует, – слышится из-под брезента ни к кому не обращенный голос одного из парней.
Вдали возле стогов действительно видна мышкующая лисица. Ярко-желтая, чистая, с огромным выхоленным хвостом, она по-кошачьи вспрыгивает в воздухе и, припав носом к снегу, быстро гребет лапками, далеко швыряя вверх блещущую на солнце снежную пыль.
– Стерва, – тоже ни к кому не обращаясь, говорит второй парень, чернявый и крепкий, сидящий под брезентом с другого края. – Когда ее надо, ее никогда не найдешь. А сейчас – вот она!
– Ага! – оживляется первый. – Ее бы сейчас из-за стога!
– Нет, – отмахивается чернявый. – Она к стогу не подпустит.
– Почему?
– Потому.
– Да не мордуйтесь вы! – хором вскрикивают женщины. – Тут едва затуляешься от ветра, а они размахались. Герои!
Раздражается и дед:
– Нема им покою! Сидели б себе и сидели, не крутились бы…
– Папаша, мы ж тихонько, – бросает деду чернявый и быстро поворачивается к собеседнику: – Не подпустит она до стога.
– Подпустит!
– Брось! Надо не с стога, а с лесополосы! Во-он смотри – с той… И от дороги нагнать! Она сюда, а ты – тут. Она туда, а ты – там. И крой дуплетом!
Угол брезента, натянутый на головы тесно сидящих людей, срывается. Несколько человек вскакивают, чтоб его ухватить; бьют крыльями всполошенные гуси.
– Молоко перевернете!.. Молоко!
Кто-то колотит ладонью по крыше кабинки:
– Шофер! Шофер! Господи, да стой!..
Машина останавливается. Из кабинки беспокойно выглядывает полногубый скуластый шофер:
– Что такое?
– Да перевернули молоко! Дурни тут лисицу увидали!
– Где лисица? – выскакивает на подножку шофер, бойко оглядывается по сторонам.
– Проехали, понимаешь! – заглушая голоса, с сожалением объясняет первый парень. – Вон там сидела. И сидела хорошо…
Чернявый подтверждает:
– Хорошо! Был подход со стогов. Мы такую позавчера взяли.
– Где ж брали?
– В балочке. Если б один там у нас не пуделял, еще б накрыли. В тернах, за «Красным колосом».
– А ты что, с «Колоса»?
– Нет, с «Двадцать лет Октября».
Первый парень вмешивается:
– Это я с «Колоса».
– Ну?! – улыбается шофер. – А я рядом, с Поляковки. И пушку имею… Не кричите, бабочки, – досадливо поворачивается он к женщинам, – сейчас едем. Хлопцы! Давайте в кабину: у меня «ЗИС» – просторно. Не договоримся сходить в субботу?..
Безусловно договорятся, знаю по опыту!..
Фиша
Наш сосед, Даниил Кондратьевич, был горячим охотником. Он, как рассказывали мои родители, еще до революции имел и двухстволку, и ягдташ, хотя люди рабочие таким благородным делом не занимались. Даниил же Кондратьевич, бывший уже тогда известным котельщиком-паровозоремонтником, дозволял себе удовольствие стрелять на лоне природы…
Происходил он из казаков станицы Курмоярской, но, несмотря что родился так же, как его отец, в Ростове, а с детства, равно как отец и даже дед, работал в тех же железнодорожных мастерских, бродили в нем сельские (сказать теперь новым языком) гены. И не просто сельские гены, а именно казачьи, зовущие не только к саду-огороду, но и к лодке, собаке, дорогому ружью.
Это ружье, виденное моими детскими глазами, было удивительно. От его вороненых, черно-синих стволов исходило сияние, солнце катало на этих масленых стволах золотое яичко, я видел это за ракушечной огорожей Даниила Кондратьевича и понимал: мир прекрасен.
Мои отец-мать жили через забор с Даниилом Кондратьевичем. Наша городская окраина лежала под высокими буграми; откосы этих бугров, поросшие терном и дерезой, нависали над крышами хибарок, серебрились выжженной полынью, желтели пластами ноздреватого камня-ракушечника, из которого клал здесь народ все фундаменты и огорожи.
Далеко вверху, за взбегающей тропкой, за фабриками «Красный шорник», «Красный текстиль», «Красная макаронщица», шумел в Ростове базар; где-то там, бог знает где, громыхали трамваи, а здесь, на узкой овражистой полосе, между буграми и раскинутым внизу Доном, была особая, отгороженная ото всего страна с баркасами на берегу, с козами, пасущимися на фоне неба, на краю обрыва.
Рядом с козами громоздились навалы стекол, тянулись на месте разрушенного бутылочного завода. Нескончаемые осколки, крупные, настолько режущие, что не пройти и в сапогах, остро сверкали на припеке и на морозе; они, будто геологические образования, виднелись за много верст, потому окраина именовалась Стеклянным хуторком.
В городе хуторок считали «горячим краем», то есть бандитским, и мы, ходившие через бугры в школу, «боговали» над мальчишками-горожанами, хотя бандиты, пожалуй что, здесь не гнездились, а жили ломовые извозчики-драгили – бесконечные дяди Петюни, дяди Ованесы Амбарцумовичи, дяди Коляни, которые разрешали нам купать на берегу драгильских жеребцов и даже подкатываться на ихних дрогах. Были нам хороши и живущие здесь пароходные кочегары, и лоцманы с барж, дозволявшие в хорошую минуту удить рыбу прямо с бортов, с глубины. Мы раболепствовали перед всеми ними, но все же они меркли перед Даниилом Кондратьевичем, единственным охотником во всем Стеклянном.
Низкая ракушечная огорожа Даниила Кондратьевича была обсажена плотными кустами акаций, сквозь их густые шипы мы разглядывали богатство соседа: его латунные патроны, стоящие в ряд на верстаке, его пегую гордую собаку. Имелись собаки у каждого из нас, маленькие лохматые шавки. Здесь же переступал длинными ногами гладкий грудастый пойнтер, похожий на скакуна, украшенный тяжелым ошейником с наборными бляхами, и мы продирались головами сквозь шипы акаций, в кровь исцарапывали уши. Разогретые зноем пыльные ветки были в глубине душными, затянутыми тугой паутиной, которая упруго лопалась на лбах и глазах. А чего стоил сработанный руками соседа лодочный мотор! Он при наших глазах рождался на верстаке. Он был первым на всем берегу, ослеплял медью надраенных трубок, ребристостью радиатора, и мы, еще не курящие, не потерявшие нюх, на расстоянии впитывали его роскошный бензинный запах.
Это, разумеется, тайно, сквозь кусты. Без боязни же, чтоб открыто смотреть с забора, можно было лишь когда рябой, жилистый, длиннорукий Даниил Кондратьевич уходил.
Несмотря на то что в Стеклянном жили и пароходные механики, и даже совслужащие, всю неделю одевавшиеся «чисто», сосед ходил на работу нарядней всех – при галстуке и в шляпе. Зимой – в фетровой, летом – в дачной, соломенной, с лентой вокруг тульи. Во дворах звучали русские и армянские слова, люди поверх низеньких огорож почтительно здоровались с ним, одни произносили: «Здравствуйте, Даниил Кондратьевич», другие: «Барев, Даниил Кондратьевич» – и все говорили ему погромче, ибо, клепая паровозные котлы, был он от вечного звона молотков туг на уши, а также туг и от контузии, когда в девятьсот пятом мастеровал капсюли для железнодорожников-бомбистов и рвануло у него в подполе гремучую, говорят, смесь. Видимо, чтоб не оскорблять соседей, если он, недослыша, промолчит, он заранее приподнимал шляпу, шагал размеренный, прямой, в глубочайших оспенных рябинах. В старое время оспу, считай, не прививали, рябых людей ходила на каждом шагу уйма, однако таких изрытых, как сосед, не встречалось. Даже его уши и ноздри были с краев зубчатыми, казались вырезанными ножиком.
…С охоты кроме чудных птиц-бекасов приносил он то букет болотных белых и розоватых лилий, то вдруг четко свистящего ужа, помещал его в погреб ловить мышей; а воротясь однажды, извлек из фуражки с десяток диких яиц, подложил квочке, и по двору зашныряли редкостной быстроты утята, превратились в крыжней, каких до этого видели мы лишь в небе, растянутых недосягаемой цепочкой. Теперь они крякали в полушаге, и мы их вспугивали, хотя смертельно боялись хозяина и хозяйских дочерей-барышнючек, ухаживающих за крыжнями. Барышнючки были не так уж намного старше меня, но были огромными, точно широкоспинные ломовые кобыляки, а главное, ругливыми, пронзительно громкими. Рискуя попасться, мы шикали на крыжней, бросали через забор комья – и крыжни поднимались на крыло, с посвистом мчались между небом и блещущими горами бутылочных стекол.
* * *
Но сложилось так, что надолго, на все детство, отправили меня в другой город, к дядьке… Воротясь кавалером, спустился я в первый же час к берегу и тут осознал: это мой дом, это мои лягушки, зеленые, грузные, единственные в мире, гулко плюхающие в воду, куда бросился с размаху и я и обалдел от детства!.. Потрясенной кожей слышал волны, из-под которых вынырнул, глядя в небо, в солнце, плывя, плывя и плывя через весь Дон, а едва лишь коснувшись напряженной ногой дна, тотчас развернулся и, по законам Стеклянного хуторка, без перерыва – обратно. Стоя опять на своем берегу, увидел, как затвердели охолодавшие, изумительно взрослые бицепсы.
…Сосед, Даниил Кондратьевич, был жив-здоров. Возвращаясь с завода, подпускал меня – уже серьезного – к заветным владениям, в том числе к моторке, и мне было непривычно и радостно, что это разрешается.
После погибшего от чумки пегого красавца пойнтера он держал теперь новую собаку, верней собачонку – полугодовалую сучку неопределенной масти. Была она волоокой, по-цыгански черноглазой, при этом с белыми свиными ресницами и разумным, вечно пакостным, как бы порхающим, выражением. Происхождения она была не только не легавого, то есть благородного, но даже не дворняжьего, а, если есть такое у собак, шла от подлых лакейских кровей. Заметя, что на нее смотрят, с ловкостью начинала выразительно дрожать, вроде от верности, от нестерпимой любви к хозяину. В щенках звалась она Фишкой, а когда чуть повзрослела – это было уже при мне – стала Фишей.
Называл он свою Фишу на «вы», как называл в свое время на «вы» и красавца пойнтера, и других, прежних собак. Еще смолоду, то ли в самом деле веря в бога, то ли из настырства, из аристократической потомственномастеровой блажи, а может, из казачьего курмоярского ухарства, считал, что если к самому господу обращаются «ты», так с какой стати отдельному человеку произносить «вы», вроде это не один человек, а целая толпа?.. Поэтому он любому-каждому говорил «ты».
Но животному, поскольку оно не подобно богу, даже не подобно человеку, надо, как философствовал Даниил Кондратьевич, говорить «вы». Так он и произносил:
– Гляньте, Фиша, мне в лицо. Чтой-то вы нехорошо смотрите.
Она падала на спину, подобострастно извивалась, мигая черными, выпуклыми, как всегда, отвернутыми на сторону глазами.
– Фигура! – ухмылялся Даниил Кондратьевич. – Ты глянь на ее выражение!
Действительно, у нее было выражение, словно у базарной дошлой торговки, которая умильно улыбается, а сама так бы запустила, что ахнешь! В отличие от лохматого тела, ее морда, точнее сказать – физиономия, была гладкой, почти голой; эмоции на этой физиономии просматривались четко, и, вроде зная это, Фиша отводила взгляды, а то и вовсе зажмуривалась, скрывала презренье.
Но, вероятно, все это лишь казалось. Уж очень беспомощно взметала она спиною пыль, скрещивала на груди жалко дрожащие лапы. Хозяин склонялся к ее уху, уговаривал держаться достойно, с поднятой головой.
– И пожалуйста, – говорил он, – не вихляйтесь, Фиша!
Он брал ее за ременную сворку, водил шаг в шаг строго слева, чтоб у нее вырабатывались охотничьи манеры. Рядом, на верстаке, под навесом лежали просаленные войлочные пыжи, стояли банки пороха и приготовленные к набивке стреляные гильзы, закопченные, резко, прекрасно пахнущие гулкой стрельбой!.. А надо всем этим добром, высоко на буграх, поверх бутылочных стекол, двигались из города электрические столбы.
В газете сообщалось, что прославленный ударник, знатный котельщик-паровозоремонтник поставил в послерабочее время совместно с друзьями линию столбов, ликвидировал на окраине тусклые старорежимные коптилки, включил ослепительное, ярчайшее «электро»! Я был комсомольцем, завидовал корреспонденту, так лихо написавшему в газете; пытался и сам сочинять прекрасное, если уж не про «электро», то хотя бы про «авто», которые отродясь не ездили по улочкам Стеклянного, а теперь ездят, сигналят, окутанные вылетающим из-под колес густым, пахучим дымом.
Наверное, захоти этого наш сосед, видный в городе человек, он тоже мог бы кататься на авто, но он привычно ходил пешком, по-прежнему всегда отутюженный, как на пасху, величественный.
В городе гремело стахановское движение. Даниил Кондратьевич свершал по два производственных плана, даже по два с половиной и по три. Затем вел общественную профнагрузку в завкоме, цехкоме и подшефном ФЗУ, где часами обучал молодежь, разумеется безвозмездно, в порядке дружбы, как требовалось знатному стахановцу, которому следовало участвовать плюс ко всему в дополнительных общезаводских авралах…
Возвращаясь домой, он стаскивал жгущие туфли, освобожденно шлепал по двору, по кремушкам и мягким травинам. За кустами сирени паровала на скамье вода в оцинкованной выварке, лежал кусок кирпича, заменяющий мочалку, рядом с ним – настоящая мочалка для второго, уже легкого, мытья и мыло. Пока хозяин мылся, домочадцы готовили еду, хлопотали вместе с гостюющей станичной родней – нарядными веселыми старухами, которые поворачивались в сторону сирени, выкрикивали, как маленькому, Даниилу Кондратьевичу: «Даня,» даже «Даня, детка» – и тот громко откликался, переспрашивал про Курмояры, нежно именовал древних гостюющих старух «тетя Нюша», «тетя Манюрочка» и, говоря так, плескался за густыми кустами, вымывал кирпичом и мочалкой вбитую в оспины грязь.
Умывшись, отдыхая от бани, подзывал Фишу:
– Идите, Фиша, поздороваемся.
Он открывал перед нею ладонь, а если подхалимная Фиша снова намеревалась грохнуться на спину, подхватывал ее с огорчением:
– Да имейте ж, наконец, совесть!..
Кругом в соседних дворах семьи готовились к трапезе, хозяйки стряпались на легком воздухе, на сложенных под небом, под вишнями глиняных беленых печурках с трубами из старых, с выбитыми донцами ведер, насунутых одно на другое. От печурок текли запахи пышек, жарящейся рыбы; Фиша, завидуя на чужое, втягивала все это энергичными подвижными ноздрями, и хозяин спрашивал:








