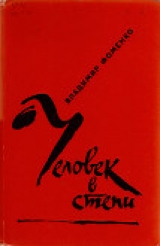
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Охотничья жилка
Замечательно даже само слово «охота»!.. Так и пахнёт от него морозным жестким полем, физически ощутишь в сжатой ладони шейку ружья, спусковую скобу под пальцем, будто увидишь вдруг шагах в сорока блеснувшую рыжиной лисью спину. Куда тут девается усталость пройденных километров в тот миг, в сотую секунды, когда перехватив дыхание ведешь перед собой стволы!..
Разве объяснишь это человеку, не знающему, что такое грохнувший из вскинутого ружья выстрел, отдавший в плечо, что значит не только стрелять, а даже собираться на охоту, когда после работы, ночью, торопливо набиваешь патроны, надписываешь на пыжах номера дроби, уже сейчас переживаешь то, что случится завтра в поле.
Тех, кто знает это, отличишь от сотни других.
Вот в обед над тракторным станом показался в небе треугольник перелетных птиц. Никто из трактористов не обращает внимания, а у одного ложка с горячим борщом остановилась у рта, внимательные глаза устремлены «в гору».
– В Зеленково займище идет утка, – вздыхает тракторист.
«Идет» эта утка едва приметными в голубизне точками, а тракторист с остановленной у рта ложкой безошибочно определяет:
– Материковая, крыжень.
Нарочно проследим потом, как пройдет этот человек к трактору! Пройдет он особенным – быстрым и одновременно, вроде как у разведчика, мягким шагом, становясь не на каблук, а на всю ступню – широко, без стука. Проследи, как, ухватись, напружинясь, резко провернет мотор, сядет, – и в любом сильном, мягком движении определишь охотника.
По ухватке определишь охотника и в полеводческих бригадах, и на элеваторе, и в правлении колхоза. Узнаешь охотничков даже в огромной пестрой толпе.
В хуторском сельмаге по соседству с готовыми пальто и одеколоном выставлены новехонькие тульские ружья.
Группа колхозных парней добрых два часа рассматривает эти ружья. Завмаг, он же продавец, уже не в силах спокойно говорить с парнями. Ему надо отпускать приходящим крупу и сахар, давать на примерку туфли, разворачивать сатин. Ребята и сами понимают состояние завмага и потому несколько подавленно просят:
– А ну, пожалуйста, покажьте еще вот то, крайнее…
Продавец мрачно дает. Парень, чтоб не стукнуть по голове колхозницу, выбирающую на прилавке сатин, чуть отодвигается и взбрасывает ружье к плечу.
– Прикладистое, – удовлетворенно говорит он и взбрасывает еще несколько раз, направляя то вверх, как по бекасу, то вбок и вниз, как по лисице. Затем открывает замок и на свет смотрит в стволы. – Правый – цилиндр, левый – чок, – отмечает он и передает ружье следующему.
Так все по очереди по многу раз темпераментно берут на резкую вскидку, открывают замок и смотрят на свет, после чего, вздохнув, просят завмага:
– Пожалуйста, покажьте еще вон то…
Разговорись с ними – и выяснишь, что они вовсе и не покупают. У каждого есть дома двухстволка, и точно такая же – тульская, тот же «правый – цилиндр, левый – чок», но смотрят они потому, что нельзя, невозможно им, охотникам, равнодушно пройти мимо ружья.
…Шумно за стенами сельмага. Колхозники снуют меж рядами грузовиков и бричек, вытянутых рядами по хуторской площади. Увлеченно покупают, торгуются, орут люди – сотни незнакомых, разных. Но вглядись-ка по внимательней… В людском водовороте – супружеская пара. Хлопец-муж по-семейному прет корзину и мешок, продирается в толпе за молодой, командующей женой, следует за нею шаг в шаг. Но вдруг видит он в стороне кружок мужчин, разглядывающих легавую собаку. Мужчины щупают у собаки нос и хвост, привычным движением далеко оттягивают собачью губу, вроде она резиновая.
– Аня, – толкает хлопец жену, и на лице его уже нет семейной солидности, а лишь азарт и беспокойное нетерпение, – Анечка, постой тут, на месте, я собаку гляну.
– Зачем еще… Куда ты? Стой!
– Я, понимаешь, так… Сейчас. – И, оставляя юную красавицу жену, бежит к мужчинам, торгующим собаку.
Не может он не бежать, хоть и знает, что ждет его буря, которую устроит ему Анечка дома или даже прямо тут, среди базара. Все, как партизан на допросе, вынесет охотник!..
Человек с характером
Иные думают, что охотиться – это все равно, что стрелять в тире, в новом костюме, желтых полуботинках, при галстуке стоять среди публики и, победно оглянувшись, прицелиться в нарисованное яблочко.
Нет, среди поля не так. Прежде чем вскинуть ружье, многое должен стрелок.
И на велосипеде он должен ездить по кочкам, рытвинам, канавам, везя за спиной фузею, мешок с забродскими сапогами, продуктами, плащом да еще и усадив на раму безвелосипедного товарища, примостив на багажнике фанерный ящик с подсадными кряковыми утками, непрерывно крякающими всю дорогу.
И грести он должен уметь, и «пихаться» о дно шестом, стоя на корме верткой каечки, такой маленькой, хлюпкой, насквозь прогнившей, что это даже уже и не каечка. И плавать нужно, и ходить…
Не каждый умеет ходить. Ходить – огромное дело. Это не по улице пройти и даже не целый день прошагать на работе, а дня три подряд, скажем, на Октябрьские праздники или в отпуску. Дорога неровная – терновые балки, яры, за плечами на лямках рюкзак, в руках наперевес ружье – каждую секунду наизготовке, так как там, где яры, бывает куропатка, а идти-то, чтоб куропатку не распугать, надо по всем правилам: легко, не цепляя коленом кустов, не ломая подошвой веток, особенно сухоньких, которые хрустят, как стреляют. При этом не кряхтеть, не волочить ногами, но все дни, каждый день в две смены, держаться орлом! А после всего домой еще – непроглядной бесконечной ночью, километров за тридцать. Счастье, если не в гололед…
Не просто оно дается. Здесь основное – выработать характер. Без него пропадешь. Плавать-то приходится и прямо в одежде в ледяной воде рядом с просмоленным, скользким днищем перевернутой лодки, из-под которой повсплывали и снова, пустив пузыри, на собственных глазах погружаются твои шмутки. Летом, бывает, так напечет комарье – живого места не сыщешь. И через гимнастерку жжет, и под фуражкой; забивает глаза, уши, даже умудряется жечь через подошву. Сидишь в камыше: комара миллионы, а утки ни одной; хоть бы посмотреть на нее – может, легче б терпелось… Осенью так измокнешь под меленькими дождями, что уже и не пытаешься укрыться. Зимой едва ототрешь перчаткой и снегом белые уши напарника и свои собственные.
Может, кого и отпугнешь этими подробностями… Но о тех, кого отпугнешь, жалеть не стоит. Пусть сидят дома.
Может, кого и отпугнешь, а в поле надо быть своим человеком: и не ужасайся ничему, и огонь разожги на ветру из мокрых бурьянин, и среди ночи в незнакомом месте сориентируйся – хоть по звездам, хоть иначе, а дорогу найди.
Недаром в армии особенно уважают этот охотничий народ. Помню: строй новобранцев, мы в строю, перед нами улыбчивый человек – командир взвода:
– Есть, – спрашивает, – охотники? Оч-чень хорошо! – И, довольный, поворачивается к комбату: – Вот они – наши «глаза и уши», готовые разведчики.
В самый раз охотнику быть разведчиком. Хорош в снайперы. Очень хорошо, даже отлично в снайперы. Везде ко двору эти ухватистые хлопцы.
Безусловно, трудная задача – выработаться в ухватистого.
Экзамены
Зима, равнина, на горизонте столбы высоковольтной линии. В поле группа охотников за много километров от дома. С ними паренек, которому повезло. Матерый заяц-русак, весом с приличную собаку, висит второй уж день привязанный через плечо тонкой жгущей веревкой. Смотришь и знаешь, как изгрызено у паренька плечо, знаешь, что от непривычной двухдневной ходьбы у него перед глазами круги оранжевого и зеленого цвета. Представляешь и мысли охотничка: «Ух, проклятый русак, и тяжелый! Еще б раз убил его, к черту! Сел бы тут в снег, вытянул бы задубевшие ноги…»
Но и думать нельзя, чтоб сплоховать перед старшими, и хлопец, изображая на красном пухлом лице равнодушное мужество, шагает вперед и даже пытается посвистывать – вытягивает в дудочку непослушные на морозе губы…
Правильно начинает человек! Понимает, что коль уж взялся – тренируй в себе неунывающий, хоть умри, веселый характер. Чтоб, даже возвращаясь с охоты пустым (это обычнее всего бывает – ведь не на рынок ходишь), не вздыхать, раздражая товарищей, не допускать даже в малых мыслях такое кощунство, что, мол, последний раз ввязался…
Так не годится. Надо и в пути быть как сталь, и дома, на пороге, ждать, что будет издеваться семья. Чтоб обезоружить остряков, надо и самому держаться сияюще. На вопрос: «Сколько убил?» – надо ответить: «Убил двое суток и шестьдесят километров». И, отвечая, во что бы то ни стало улыбнуться, хоть улыбаться не хочется. А когда спросят: «Опять пойдешь?» – ответить: «Нет, теперь уже до выходного, должно, не пойду».
Хлопцы в степи
Завидная особенность у этих ребят: знают они землю! С детских ногтей выработались у них эти короткие отношения.
Какой-нибудь остроглазый Коля – по должности, на летних каникулах, подпасок чабана, по таланту снайпер, хозяин дедовской берданы, – он в любое время ночи и дня «чует» степь… Ветер, который начнется через сутки, будущий мороз или, напротив, оттепель – все это Коля предскажет без промашки. Лишь только приостановится среди поля, неторопливо, как бы по-стариковски, потянет носом запахи листа, потом неба – и дает прогноз, опять же обязательно с размеренностью. Не в переносном, а в доподлинном смысле глядит сияющий голубоглазый Коля ястребиными глазами. Появится в небе ястреб над лесной полоской, и по тому – широкие ли круги у ястреба или на месте трепещет ястреб крыльями – видит Николай, где в лесной полосе ходят куропатки, шныряют ли они между стволами деревьев или сидят затаясь.
А уж если надо на безграничном снегу определить заячью лежку, с Николаем и вовсе не потягаешься. Чуть кинет глазом – точно решит: поворачивать отсюда или именно здесь, среди ровных, ничем не отличимых один от другого увалов, будет поднят заяц. Иначе Николаю нельзя: доставляет «Заготпушнине» то заячью, то лисью шкуру, получает за это «копейку», еще и продукты – перловку, подсолнечное или сурепное масло… Компаньоны Николая, такие же, как он сам, добытчики, рассыпаются подковой перед этим возможным среди белизны зайцем. И хоть завтра им нужно стемна кому в школу, кому на работу, а сегодня прошагали они столько, что и мотоциклетка б на их месте застопорилась бы, но снова легко перепрыгивают через буераки, не спотыкаются на запорошенных, окоченелых на морозе комьях. Губы от сосредоточенности оттопырены, глаза не моргая смотрят перед собой.
Вот оно! Вздрогнула впереди бурьянина, посыпалась с нее изморозь. Русак… Вечно ожидаемый и вечно неожиданный, он вскакивает и, положив на спину уши, вытянувшись струной, мчится по равнине.
Грохот. Дробь взметывает снежную струю позади русака. Далеко он поднялся с лежки, горожане наверняка упустили б его, но эти, полузагнутые с флангов, выносят стволы вперед. Меткий прицел – разогнавшийся русак взбрасывает собой снег.
– Выкунился, добрый воротник! – говорит парнишка, поднимая трофей. Он прикидывает вес трофея. Задние ноги вытянутого матерого зайца на высоте пояса парнишки, передние касаются снега. Ребята перезаряжают ружья, по-хозяйски прячут стреляные гильзы – и снова в готовности.
Хорош вид и у самого Кольки, и у любого его компаньона. Физиономия розовая, безудержно сияющая, а шаг нарочито спокойный. Особая в нем степная умелость к земле, к бесконечным – чисто конским! – расстояниям.
Зарисовки
1
Если ты не в отпуске, а в обычное воскресенье пойдешь с ягдташем, подгоняя накануне работу, ни на миг не вздремнув ночью, то к полудню выморишься, вконец изнудишься на нещадном зное.
Скинув сумку, ляжешь с товарищем среди жнивья, под сброшенной комбайном копицей – пыльноватой, горячей, как раскаленный кирпич. Заснешь в коротенькой тени, а через час повернувшееся солнце так припечет голову, что пересилишь измученное тело, сядешь…
Напарник спит лицом к жгучему небу. Рот открыт, и по губам его по-хозяйски ходит зеленоглазый, накусавшийся уже овод. У тебя самого все чешется, хрящик уха распух от укуса, под гимнастеркой по вспотевшей спине ползают муравьи.
– Петро! – толкаешь друга. – Подъем!
Тот садится, смотрит на ослепительное жнивье и вздыхает:
– Нет перепела, будь он проклят! Знаешь, я б даже купил. Хотя у меня Клава опытная на этот счет… Прошлый год вот так же ходил – мучился-мучился: ни одного. Закурил. Смотрю – из-за подсолнухов дед с заржавелой берданочкой, и в сетке перепелки.
– Продай, папаша.
– Купи.
– Почем?
Ну, сторговались, он ушел, а я их поразвешивал и на сумке, и на поясе, крылышки распушил, чтоб висели пошире, – и домой. Клава встречает, спрашивает:
– Петя, сколько?
Я этак равнодушно снимаю сумку:
– Не знаю, мол, шесть или восемь.
– Да нет, – говорит, – заплатил сколько?..
Петро смеется, довольный рассказом, вытирает фуражкой шею в налипших остюгах соломы, бордовый от зноя, блестящий лоб и, взяв ружье, мужественно решает:
– Давай, брат, еще ходить. Тут работать надо!
2
Но бывает другое.
Стрелок абсолютно не мается без сна, не горит душой, не выхаживает по тридцать километров. Даже ружье ему готовит личный его шофер, даже термос с чаем завинчивают для стрелка другие. Довозит шофер данного товарища до охотничьего заказника, куда еще накануне было сообщено, что товарищ приедет. Встречает его там, на озерках, старший егерь и, усадив в кайку, доставляет к приготовленному в камышах удобному хисту. Рассадит лодочник на воде перед хистом подсадных крякух, чучела и докладывает:
– Птица вот отсюда, из-за мыска, на вас пойдет. Вы стреляйте, не беспокойтесь, я вам всю подберу.
И пока дотемна грохают над камышами дуплеты, лодочник дежурит в зарослях, шофер – на берегу, у машины.
Жаль таких лодочников, шоферов, не завидуешь и самому стрелку, что орудует ружьем наивысшего класса и ни разу не бросится в азарте за подстреленной неказистой утчонкой, разгребая руками осоку, хватаясь за уходящий, ускользающий меж камышей утиный хвост. Без трудов дается этому охотнику цель, равнодушно хлопает он, будто печать кладет на бумагу, которую подвигает ему под руку на его широком письменном столе секретарь… Новая утка – и снова хлопает, а отхлопавшись, отправляется в домик заказника с марлей на окнах и салфеткой под графином, с подвешенной над кроватью тетрадкой жалоб и предложений.
Черт-те что оно!..
3
В тыщу раз лучше, отгоняя оводов, сидеть под накаленной копичкой или холодной ночью, перед заморозками, в кузове случайного грузовика добираться компанией до каких-то небывало утиных, по слухам, мест.
Сидишь в темноте на корточках, держишься за колено товарища, другие – за твои локти, плечи; без разбору – и охотники, и едущие базаровать колхозницы с корзинами, с оклунками сгрудились ближе к кабине, где меньше дует и чуть легче взбрасывает на выбоинах.
– Сидай на чувал, – толкает тебя в бок старуха соседка. – Не подавится, тут пшеница.
И едешь уже на мягком, да еще укрывшись от ветра порожним мешком, что сунула та же старуха. Летит над спинами холодный ветер – то чистый, то после встречной машины с пылью, с вонью бензина. У хуторков садится новый народ: машина трехтонная, поднимает много; и так же, как набирал шофер в разных местах «королей», так в разных местах и высаживает – там, где тарабанят ему из кузова по крыше кабины.
Наконец и мы слезаем в темень у какой-то, как учили нас, Стеблиевки.
– От нее, – объясняли нам, – давайте вправо, потом начнется зябь, от зяби опять вправо, потом будет кюветик и дорога. По дороге не идти, а забирать уже левее – все вбок и вбок; тут еще километра с два и через балку и убранный кенаф начнутся новые рисовые поля, где и есть утка.
Черно. Ни звезды, ни огонечка. Ноги работают и за себя, и вместо глаз, определяя, где зябь, где кюветик, а значит, за ним твердая дорога, от которой надо левее. А может, совсем и не левее, а, наоборот, правее? Может, это абсолютно не та дорога. Поди-ка разберись, когда все как тушь… Но надо поддерживать дух, это понимают все, и все шагают уверенно.
– Выбрались подальше, – бодро говорит кто-нибудь, – так уж зато постреляем!
– Факт! А вблизи разве стрельба? На одну утку пять охотников. А тут рис, на рисах – непуганая.
– Какая ж на рисах пуганая? Она тут ест да пьет и горя не знает. Тут, говорят, даже экскаваторщики, что роют каналы, на каждом шагу поднимают крыжней.
– Эх, чудак Василь – остался дома.
– Да, пожалеет Василь. Вот она – балочка. Теперь, братцы, через нее, значит. А там уж будет кенаф.
– Ясно! Правильно идем! А что это за хата?.. Нам ничего не говорили про хату…
– Где? Приснилась тебе хата! Ну да, хата… Откудова она тут?.. А ну, покричим.
– Хозя-а-ин!
Злой, гулкий, как из бидона, лай оглашает тихую ночь. Взад-вперед перед хатой мечется смешанный с лаем звон бегающего по проводу кольца. В дверях забелелись подштанники.
– Как нам на рис пройти? Объясни, пожалуйста, папаша.
– А на шо вам рыс? – рявкает молодой бас. – Кашу варыть?
– Митро, – встревает заспанный женский голос, – да то ж опять охотники, хай им сатана.
– Цыть, – обрывает Митро. – Знаем мы охотников по чужим амбарам. Вот як спущу кобеля…
Под его руками гремит цепок, на котором, давясь, рвется собака, и мы поспешно удаляемся в темень.
– Правильно двигались! – начинаем мы не очень уверенно обсуждать маршрут. – От Стеблиевки вправо, потом зябь, потом дорога, ее бросили; может, конечно, многовато бросили… А направление верное!
– Значит, пошли?
– Пошли…
Дождь начинается внезапно, все сильнее, и такой холодный, что ощупываешь себя: не леденеет ли одежда. Для поддержания духа все говорят, что «раз дождь, то птица будет лететь низко, самое раз…». Капли секут резко, ноги чмокают, вгрузают все глубже, но впереди, будто опрокинутое длинное окно, тускло блестит вода в оросительном канале.
– Рис! Вот оно!
– Правильно шли, а я что говорил?
– Приехали!
А дождь свистит ровный, по-зимнему резкий. Идти уж некуда, приседаем на корточки, глубже натягиваем фуражки и так сидим. Ноги немеют, становишься на колено, и в продавленную лунку затекает вода. Даже в карманах мокро, вынутые спички, поднесенные к папиросе, не зажигаются; и от холода вибрирует в тебе каждая мышца.
– Эх, хорошо! – вздыхает за спиной какой-нибудь остряк. – Свежий воздух, прохладный! Жаль все же Василя, что не поехал.
– Ага. Лежит, бедный, дома, скрутился на сухой перине у печки. А тут вот пыльцу прибило, и еще до утра прибьет! Это ты, Костя, первый облюбовал местечко на рисах и нам присоветовал?..
– Да. Спасибо тебе…
– Чш-ш!.. – обрывают вдруг. – Тихо!..
В дождевой сетке, в высоте отчетливо шуршит воздух. Шуршание проносится, замирает, а вслед новое – уже рядом, могучее. Будто огромное полотнище, хлопая, несется в темноте над головами. Слышно поспешное трепетание множества крыльев, выкрики, даже вроде брызгают нам крылья в поднятые кверху лица.
Мы вскакиваем, начинаем прыгать и толкаться, махать руками. Разминаем плечи, колени, занемевшие, мокрые насквозь спины. Говорят сразу все.
– С рассвета еще и ветерок, братцы, начнется!
– Факт! Разгонит тучи, подсушит, а при ветре утка хорошо, низко пойдет. Вон ее, красавицы, сколько!
– Ку-уда! Тут она попрет, как с конвейера.
– Вот они, цыпочки, где! На рисах!..
И хоть каждый понимает: может, то пролетный ночной косячок, а утром ни единой птахи не будет, может, и не стрельнешь ни разу, но каждый рисует небывалое. И дышится уже иначе, со вкусом; действительно, воздух тут свеж! Потянешь – пахнет тучами, мокрой степью, холодом!..
А что сам не только до нитки, а сквозь мясо мокрый – так на то шел. На то ж и мучились компанией, чтоб в любом виде, но перечувствовать все страсти, какие – и сто лет живи – не постигнешь без охотничьей жилки.
На утином отлете
Есть в дельте Дона, у берега Азовского моря, село Кагальник. Прожил я в нем не один месяц. Не говоря уж о стариках и молодежи, все мальчишки в Кагальнике – рыбалки и охотники. На каждом заборе сушатся накидные сетки, у каждого крыльца полощут в корытцах клювы подсадные крякуши, ходят по двору вместе с домашними утками.
Осенями много собирается в море пролетной птицы. Стадами садится на воду утка-чернушка, от которой темнеет море там, где спустились густые черные косяки. Садится шилохвость – с гибкой длинной шеей и длинными хвостовыми перьями, действительно сходными с шилом. Опускается крыжень – тяжелая крупная утка и маленькие уточки – чирки-свистунки и чирки-трескунки. Иногда отдыхают на легкой волне, держатся особняком пролетные гуси-казарки.
В безветренную погоду вся эта птица недосягаема. Ни катера, ни даже лодчонки она не подпустит – снимется, перелетит хлопающими тучами на новое место. Море спокойно, и на тихой воде покачиваются различимые только в бинокль силуэты дичи, да изредка, когда потянет с моря ветерком, доносится мучающее слух охотника кряканье, густое, многоголосое, как на колхозной птицеферме.
Зато в ненастье, когда близко к зиме зарядит низовой ветер и раскачает на море метровую зыбь, птица не может усидеть на волне, поднимается в воздух. Готовая к отлету на юг, сытая, носится над морем и камышовыми плавнями.
Вот в такое время и показывают свое мастерство местные ребята. По заросшим протокам и ерикам направляются они в кайках на взморье. Едут и в одиночку, и компаниями, по человеку на каждой кайке. Кайка – это самодельная, вроде остроносого корыта, лодочка шага в три длиной, в полшага шириной. Она из тонких дощечек и фанерок, законопаченная разным тряпьем, прошпаклеванная оконной замазкой, обитая жестью из консервных банок.
Хорошие лодки не у ребят, а у их отцов. Замечательный баркас у родителей моего соседа по Кагальнику Леньки Курова. Хоть Ленька ходит уже в седьмой класс и работает летом в рыбколхозе, но своей «справы» отец ему еще не дает. Отец ездит рыбалить на добром просмоленном баркасе, семья возит на нем камыш для топки или сено и траву корове. У Леньки же, как у всех мальцов-охотников, собственная, на честном слове сколоченная кайка. Сейчас Ленька стоит на ней в рост, пихает длинным шестом в дно ерика, гонит кайку к морю, перекликаясь с дружками. Те тоже на кайках, тоже с шестами в руках.
В школе нынче санитарный день, и половина класса едет на утку, счастливая ветром и свободными буднями. Разве в воскресенье постреляешь так? В погожее воскресенье по всему ерику за каждой камышиной городские охотники. Наваливают из Ростова, Азова, Таганрога, едут поездом, пароходом, машинами, даже собственными катерами.
Ленька Куров оглядывает бьющиеся на ветру камыши, по-декабрьски бурые, пустынные, и весело орет:
– Тем героям только летом ездить! Кормить нашего комарика!
– Правильно! – отзываются товарищи. – Летом они могут, а сейчас кишка тонка. Не выдюжат по такой погоде.
Погода в самом деле серьезная. Над заиндевевшими берегами свистит ветер, даже в закрытом ерике рвет с поверхности брызги. В сером воздухе пахнет снегом.
На ребятах теплые тужурки, капелюхи, резиновые забродские сапоги. Едут не для забавы; они люди хозяйственные, от отцов-дедов знают: настрелял – значит, будет всё, – и тушки, засоленные в бочонке, и жарковье, и на базаре мамаши продадут-сменяют на штаны, ботинки, шапку. Мало ли на что!.. Чем ближе к морю, тем отчетливее шум нагоняемых бурунов, ниже стелются гривы камышей. Не сегодня завтра начнет леденеть Дон, разветвленный тут многочисленными рукавами.
И вот оно, взморье. Здесь граница. Кончаются низинные топкие берега, начинается темноватый простор воды с белесыми недобрыми гребешками. Можно не идти на риск, а попросту остаться в зарослях, у берега. Но ведь больше «идет утка» на открытом. Кое-где в начале открытого моря маячат полузатопленные кулиги высокого камыша, кажутся издали круглыми, шевелящимися шапками. Вот в такую стелющуюся по ветру, окруженную волнами кулигу и хочется стать пареньку-утятнику.
Ребята делят места: «Ты станешь в то, я – в это» – и отчаливают.
Отчаливает и Ленька Куров, отрывается от прочной земли. Шест, доставая дно, все глубже уходит в воду. Здесь волны не то что в ерике… Они поднимаются над кромкой тонкого борта, и если б легонькая каика не повторяла каждое движение буруна, не возносилась подобно стружке, ее бы сразу, еще у берега, накрыло. Голые, облитые водой руки зябнут, а сам Ленька – весь в поту от работы и напряжения.
Наконец кулига. Ленька ищет в ней просвет – куда становиться, чтоб меньше мять нужные для маскировки камыши; резким движением загоняет в просвет кайку; стоймя опускает шест, заколачивает в илистое дно; привязывает кайку к торчащей верхушке шеста и, взяв ружье, трет малиновые от холода мокрые руки.
Несколько минут уток можно не высматривать: утки, находящиеся вблизи, видели движение в кулиге и сюда не налетят. Надо ждать других. У основания камышей бьется белая пузырчатая пена, шелестят ледяшки, с наветренной стороны нанесло сорванные волнами ржавые плети водяной травы – кушныря. Ленька примеривается, как удобней будет вскидывать. Вскидывая, лучше всего стоять в рост. В камыше немного глушатся волны, но все же кайку бросает, уносит из-под ног, и, чтобы стоять, Леньке придется балансировать…
Но вот он пригибается, взводит курки. В небе утка. Трепеща крыльями, напряженно вытянув шею, она возникает над камышом, навстречу взлетают и без выстрела опускаются стволы ружья. Нырок. Не стоит заряда. Уважающий себя утятник привозит домой отборную дичину. Пахнущего рыбой нырка он не привезет. Ленька представляет, как дома он кинет связку битой птицы на пол у двери. Пока он будет солидно, нарочито медленно раздеваться, мать наклонится над связкой и, щупая пальцами утиные грудки, скажет отцу: «Глянь, Ленька-то на неделю привез запаса». Может, подойдет и отец, в одобрительном молчании тоже пощупает уток…
В небе проносится густой косяк, но высоко – не достанешь. В других кулигах тоже молчат ребята – видать, табунки идут в высоте. Ленькины руки судорожней сжимают ружье, глаза наготове. Вот она приближается, лучшая дичь – крыжень! Это приезжие выдумщики гоняются из-за тонкого мяса за маленькой уткой – чирковой, а выросший на море хлопец любит тяжелую, крыжневую. Она уже над головой, ясно видны темно-кофейные перья на тугом зобу, видны красные лапы поджатые в полете к хвосту. Один пропущенный миг – и уйдет дорогая птица. Ведь не крыжнячка, а крыжень, самец! Ленька стреляет. Рухнув с высоты, падает селезень и, всплеснув, кувыркается в воде, поднятый на гребень буруна. Ленька выдергивает со дна шест, выталкивает кайку из камыша и гонится за дичью, которую понесло ветром. Нужно держать кайку носом на волну, а то и не охнешь – перекинет. Ленька проходит бортом вплотную к селезню, подхватив, кидает под ноги и опять правит в камыши, закрепляется, быстро отчерпывает корцом набранную через борт воду, перезаряжает и, с ходу обтерев рукавом забрызганные ружейные стволы, ждет…
Почти сразу налетает тройка лопоносов; заметив охотника, свечкой забирает вверх, но Ленька гахает разом из двух стволов, видит далеко шлепнувшегося в море лопоноса и опять, выдергивая шест из-под взлетающей волны, окуная рукав едва не по локоть, снова выталкивает кайку на открытое, на волю судьбы: опрокинешься или не опрокинешься в темную воду, замерзающую по-над бортами…
Птицы богато. Идет она то вполветра, то стремительно проносясь по ветру в гору, и вскидывать надо мгновенно: навстречу, в угон, в бок, с любого разворота; а то, что после добытой лопоноски и красавца крыжня Леню будто сглазили и он раз за разом мажет, это надо сносить без жалоб: в море всяко бывает.
Пусть к вечеру в корме лодчонки всего две птицы, зато жирные, в самый раз годятся и на борщи и на жарковье с капустой, с картофелью. Да и на подушку есть что набить – возьми ощипай пух под опереньем. Нежный, как дымок, плотный.
Ребята по одному выезжают к берегу, заложив два пальца в рот, пересвистываются и, собравшись, уже глухой теменью «пихаются» на протоке к дому.








