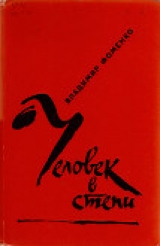
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 22 страниц)
– Вы беспризорная? Не имеете своего куска? И что вы глаза от меня отводите?..
С неделями она перестала отворачиваться, смотрела на хозяина прямыми, даже выкаченными от старания глазами. В хибаре Даниила Кондратьевича давно было тесно от разросшейся семьи; завод предлагал ему в центре, в новостроевском многоэтажном доме, квартиру с ванной, с дубовьши гладкими паркетами. Он отшучивался: «Фише будет склизко».
А лупоглазая Фиша все перековывалась, почти не рушилась на спину. Она самолично карабкалась теперь на бугры, на самый верх, приглядывать хозяйскую козу с козленком и давить тарантулов. Тарантулы здесь водились от века. На обгрызенной козами, истоптанной траве всегда темнели круглые, в трехкопеечную монету, норы; каждый малец имел шарик из воска, прицепленный к концу суровой нитки; этот шарик следовало опускать в нору, подергивать, и тогда было на ощупь слышно, как тарантул в глубине «клевал», а вытащенный на солнце, не мог освободить увязшие в мягком воске челюсти, и мы палочкой отдирали добычу над краем стеклянной посудины, где тарантулы уже кишели и так свирепо бросались друг на друга, что я, через многие уже годы работая в редакциях, поражаюсь точности выражения: «пауки в банке».
Неизвестным образом Фиша умудрялась выманивать тарантула и с размаху, чтоб не успевал куснуть, так быстро хлопала лапами, что издали казалось – танцевала на горячей сковороде, тешила этим хозяина. Она спускалась вниз – совсем уже взрослая, разумная, но, как прежде, взглядывала вдруг пакостно.
– Спиноза, – отмечал Даниил Кондратьевич, знавший слова. – Чего, Фиша, будете стоить вы на охоте?
* * *
После Отечественной, через долгие годы, подъезжал я к своему двору. Ехал по асфальтовой вьющейся шоссейке, где топали когда-то драгильские лоснящиеся битюги, жили тут, в Стеклянном, именовались все, как один, Васьками, громыхали на камнях окованными дрогами и огромными, размером в тарелку, копытами, высекающими искры. Сейчас ничто здесь не громыхало; вдоль асфальта мелькали кирпичные коттеджи, а на буграх, на фоне неба зеленели топольки на месте увезенных бутылочных стекол, так что название «Стеклянный» сделалось историческим. Да и вообще это место переставало быть захолустьем: городская культура перешагивала сюда через бугры.
Даниил Кондратьевич был абсолютно белый, но завод не бросал, собственноручно работал кувалдой и ручником, а на смену, как всегда, ходил при дорогом галстуке. Фиша уже околела. Хозяин продолжал ездить на охоту, но следующую собаку не заводил. Он закопал Фишу в углу сада, на пригорке, откуда виделось заречье с луговым левым берегом и всем горизонтом.
В каждую годовщину Фишиных похорон Даниил Кондратьевич в цех не являлся. Треугольник завода уже знал это. Знало, разумеется, и семейство, и в этот день никто не приближался к саду, к тому углу, куда хозяин удалялся с ягдташем и всею охотничьей амуницией. Бывало это поздней осенью, в бабье лето; он подходил к месту и, разгрузясь, положив ружье, опускался на землю, сидел, говорят, весь день.
Вот в такой день я все-таки пошел к соседу. Он не услыхал шагов. Его локоть опирался на холмик, насыпанный над Фишей, голова в охотничьей фуражке была опущена. Он зашевелился, и я неожиданно для себя припал за кустом. Подло? Подло! Но я не ушел… По осенней голубизне летели длинные паутины, цеплялись за антенны над крышами. Внизу, на фарватере Дона, сигналил пароход, требовал разводки моста.
– Вот такие дела, Фиша! – произнес Даниил Кондратьевич и, хлопнув по карману, достал отозвавшиеся спички, вытащил кисет.
Он всегда курил папиросы, а в походы брал махорку. Теперь, как на походе, оторвал от заготовленной газеты полоску, но пока что не закуривал, придавил полоску комом земли, чтоб не улетела, принялся организовывать «стол». Я смотрел, как расстелил он носовой платок, поставил на него граненый стакан и поллитровку. Рядом, чтоб все находилось под рукой, насыпал соли. Его движения были хозяйственными, он с толком раскладывал на широком платке вынутые из ягдташа припасы. Всего было понемногу, но-было все. Головка чеснока, луковица, один помидор соленый, один свежий, и даже между сыром и складным ножом несколько греческих маслин. Видимо, любил побарствовать в поле. Он дунул в стакан, протер внутри пальцем. Откупорив бутылку, налил, опять закрыл бутылку, чтоб не выдыхалась. Наполненный стакан он держал строго, рука, исклеванная оспой, была торжественна.
– Помянем! – сказал он, медленно осушил до дна.
Сидел долго. Водка брала его, в общем-то непьющего человека. Он свернул козью ножку, произнес:
– Не родились вы породной сукой, а стоили всех породных. И по перу работали, и по зверю. Помните, брали вы старого лисовина? Вот был хитрован! Натоптал на снегу сам-один, как хорошее стадо, и во все овражки настрочил выходов. Никакой бы разведчик не распутал, а вы обернулись на меня и мовчки показываете глазами. Ох, были у вас глаза!.. – Он снова плеснул в стакан, понюхал маслину. – Покоя вашим косточкам, Фиша.
Во дворах перекликались домохозяйки, что-то солили или мариновали на зиму, обменивались через заборы рецептами. За деревьями сада высились на шестах проволочные западки, настроенные на щеглов, утыканные для приманки репяхами; но теперь это принадлежало не нам, а новому молодому поколению. Вокруг поднимались дымки, жители жгли сухую листву с деревьев, огудины с грядок, тряпье со дворов. Пахло и махорочным дымом тихо курящего, неподвижного Даниила Кондратьевича.
– А помните, Фиша, – сказал он, – ту казарку-подраночка, что понесло водой?.. Нырнули вы без колебаний, без нежностей и гребетесь по волне, по ледяному шереху. Шерех, густой, почти уж схваченный морозом, затирает вас с казаркой. Бегу берегом, кричу в голос: «Фиша, бросайте!» – а вы делаете вид, что не слышите, отказываетесь бросать эту казарку… Вот, примерно, по такой широте и греблись вы. Гляньте, по такой ведь? – кивает Даниил Кондратьевич вниз, на светлый предзимний Дон.
Катера, скутера, глиссеры отсвечивали на солнце прозрачными плексигласовыми щитками, непрерывно сновали вверх и вниз по фарватеру, высоко взлетая стремительными носами, оставляя сзади взброшенные буруны, а надо всем этим висел голубой, разогретый полднем воздух.
Затылок Даниила Кондратьевича был неподвижен, но уходить я боялся. Хотя он и «глухарь», а именно потому «слышит» заместо ушей всем телом, особенно в молчаливые минуты, так что хрустни веткой – враз обернется; и я тихо лежал в кустах, оглядывал то верстак, то далекий за деревьями старый дом с новыми пристройками, где живут и хозяин и дочери – здоровущие, плечистые, как борцы, еще с барышнючек ругливые, громыхающие страшенным густым басом. А вот отыскали ведь любовь, повышли замуж. Может, оттого им подвезло, что семья уважаема, славна отцом – редкостным мастером. Вот барышни и определились, понарожали выводки детей. На асфальте, за домом, слышно, остановился грузовик; шофер Ера, младший зять Даниила Кондратьевича, пошел на дворовое крыльцо. Когда мы были детьми, а Ера – «армян», живший через улицу, был кавалером, он драгилевал с отцом, Геворком Вартановичем и, как Геворк Вартанович, опоясывал вокруг живота кушак, «чтоб не порвалась селезенка», когда вскидываешь добрый груз. Кушак, цветастый, непомерной, если его распустить, длины, был гордостью драгильского и грузчицкого сословия. Перед работой, утречком, когда напоенный жеребец был уже запряжен, Ера крепил конец кушака к дверной скобе, другой конец отпускал по двору этак шагов на пять, на шесть и, придавив ладонями к животу, крутясь вокруг себя, приближался к скобе, а натянув, отвязывал, подсовывал под низ, охлопывал этот красный, тугой, шикарный жгут…
Теперь Ёра прошлепал по крыльцу в легоньком пиджачке, со светлым макинтошем через плечо. Следом вбежали с улицы, из техникума, ребята, но тихо, чтоб в домостроевском этом семействе не получить от матерей по затылку. В других дворах тоже возвращались ученики; с недалекой волейбольной площадки слышались удары по мячу, на площадке с напряженностью раздавались судейские турчки, но Даниил Кондратьевич не желал замечать мешающего.
Аккуратно, чтоб не брызнуло, он разломил свежий помидор. Не разрезал, а именно разломил, чтоб в переломе виднелась приятная искристость.
– Уважали вы посолонцевать, Фиша! – сказал Даниил Кондратьевич, крепко макнул помидорину в соль, добавочно сыпанул сверху щепотью.
По вороненым стволам лежащего ружья ходили лучи, солнце, как в далекое до слез время, катало на масленых стволах золотое яичко. Стрекоза сидела на фуражке, не слетала с головы Даниила Кондратьевича, хотя он шевелился, подливая водку.
– Во всем Стеклянном только вы, Фиша, знали французские слова.
Он разжег козью ножку, произнес:
– Шерш, тубо, апорт.
Из коричневых, резко поклеванных оспой, зубчатых ноздрей шел густой дым, в стакане снова заплескалось.
– И слова знали, Фиша, и на травочке нетоптаной, уважали поваляться.
Из травы на холмике он аккуратно выскреб нападавшую листву.
– Нехай там весело икнется вам, Фиша.
Он широко развел руками: дескать, «а что ж иначе сделаешь?..» На правой его руке, между большим пальцем и ребром ладони, кожа была розовата, отполирована ручкой молотка. Ударял Даниил Кондратьевич этим молотком больше полустолетия; швы его паровозных котлов, будок, поддувал сшивались заклепками, раскаленными добела, мягкими под быстрыми на выдохах молотками; каждая заклепка сразу темнела, твердела, гулко громыхала под этими неумолчными частыми молотками, и каждый склепанный паровоз, начавший жить, дышать, возил миллионы, неохватные миллионы пассажиров!..
В солнце, в разогретом воздухе летели паучки-авиаторы. Держась за свои паутины, плыли на всех потолках – и по середине неба, и в высоте, и над самой землей, где сидел Даниил Кондратьевич. Он опять потрогал, понюхал маслину, опять из бутылки забулькало, и чем больше он поддавал, тем непрерывней вспыхивали картины.
– А помните, Фиша, – сказал он, – отправились мы по уточке к озеру? Солнце едва-едва на подъеме, все в пару, по воде розовость… А они, трое селезней, плавают у дальнего края под камышом, и никак не подойти туда. Мы с вами пригнулись в страданиях, вы аж дрожите… Я вам показываю рукой, шепчу: «Ступайте, Фиша, по-за камышом, зайдите с того края и пуганите на меня». И вы поняли. Глянули на меня своими глазами и побежали, забелелись своей спиночкой… Все вы соображали, Фиша. Не то, что наш профорг. Болван. Ему одно, а он тебе двадцать. И глаза дурачьи, как с алюминия. – Он протянул к холмику стакан, торжественно сказал – Земля вам пухом.
Осушил, с хозяйственностью вытряс из стакана в себя последние капли, разостлал на пригреве ватник, в голова стал примащивать ягдташ с нацеплявшимися воздушными паутинами, бегущими даже в безветрии. Был обед. Ребята на волейбольной площадке, козы, вечно блеющие на бугре, даже автомобили на недалеком асфальте примолкли; и в этой тишине, до того как лечь, Даниил Кондратьевич поднял ружье и на радость охотничьей собаке Фише с обоих стволов шарахнул в гору.
Художники слова
Если спросить неискушенного товарища, что такое охотник, он ответит: это человек, который убивает куропаток, лисиц, зайцев.
А это неверно. Охотник ничего не убивает. Особенно городской. Он держит дома собаку, ружье, коробки с порохом, холщовые мешочки с дробью, состоит в обществе собаководства, в обществе охотников, имеет в магазине «Динамо» знакомых, которые сообщают, когда будут давать просаленные пыжи. Целый год он бегает по утрам на рынок покупать кости, жена варит из этих костей специальный суп, которым по возвращении с работы охотник лично кормит собаку. Собаку надо кормить обязательно лично, чтоб у нее был контакт с хозяином.
Так готовится он весь год, а когда откроется сезон, привезет за все время одного лишь растяпу-куличка.
…Возвращение домой – самые мрачные страницы охотничьей жизни. Начинаются они в обратном поезде, где все пассажиры, перемаргиваясь, спрашивают, нет ли продажной дичи. Неприятностей в поезде можно избежать, натолкав травы в ягдташ и внеся его так, будто он набит птицей и оттягивает плечо. Трех-четырех неопытных пассажиров это надует, но, когда будешь идти с вокзала по своей улице, подведет обязательно. Каждый сосед, увидев толстую сумку, будет радостно просить, чтоб ему показали дичь.
А впереди еще возвращение домой, в собственную квартиру… Там, хоть натолкай в сумку травы, хоть не наталкивай, все равно жена отводит глаза в сторону и сообщает, что нормальные люди в воскресенье ходят в кино и хоть немного думают о семье.
И все-таки ездит человек!
И не от плохого ведь ездит!..
Хорош в сентябре в Ростове субботний вечер. Во дворах пьют на воздухе чай, давя в стакане сливы; сидят у ворот на вынесенных стульях, переговариваются через улицу. Облитые из шлангов мостовые сверкают, каждая скамья парка зовет к себе. Можно откинуться на выгнутую спинку и, расправив складки белых летних брюк, положить ногу на ногу. Мимо плывут легкие, точно вздохи, платья, вверху застыла листва, на политых клумбах раскрывается пахучий табак, все и вся приготовилось встречать вечернюю прохладу.
И в этот час одни лишь мы, охотники, сознательно едем маяться в камышах, сутки, скрючась, сидеть на дне кайки, боясь хоть на секунду разогнуть затекшую спину…
Мы лезем в неосвещенный, душный, как консервная банка, вагон, где не откупоривается ни одно окно. Пот сразу начинает заливать глаза, капать с ушей. Наши собаки грызутся, ружья в темноте цепляются за верхние полки, мы ничего не убьем, но мы твердо верим, что это какие-то «они» не убьют, а мы – дело другое!
Действительно, еще ведь не скажешь, кто из нас какой стрелок, поэтому каждый может многозначительно улыбаться, когда говорят о «мазилах», что палят в белый свет, как в копеечку. Пока же есть полная возможность солидно осведомляться у соседа, каким полем ходит его собака, по какой дичи он едет.
Едут на утку, другие – на бекаса, третьи предпочитают вальдшнепа, потому называются «вальдшнепятниками», что напоминает таежное «медвежатник».
На днях прошли дожди, и в вагоне говорят, что вальдшнепа после дождя высыпает, как грибов. У нас на Дону отродясь грибов не бывало, но «вальдшнепа, как грибов» звучит здорово.
– Главное – не горячиться. Взлетел вальдшнеп – спокойно отпусти его метров на двенадцать и бей. Заметь, куда упал, и следи: сейчас второй поднимется. Они парами пасутся. Запросто за одно утро – сумка.
Если б любой – конечно, не здесь, а дома – услыхал, как его сынишка или внук городит хотя бы десятую долю того, что говорит сейчас он сам, он строго сказал бы: «А ну, Борька, прекрати. Где ты только учишься этому?»
Но вот все уже влезли, сели, сваливают с плеч свои конские вьюки, движением лопаток и шеи отлепляют приставшие к спине мокрые гимнастерки. Поезд тронулся, собаки под ногами угомонились – значит, время заводить самое лучшее из всей поездки – охотничьи художественные рассказы, по-ростовскому – «балачки». Это без промаха. Дело верное, доступное каждому стрелку.
Поразительно, почему существуют десятки справочников по дичи (хотя ее и в глаза никогда не видишь), по ружью (а ведь его что с собой тащи, что брось дома – толк один) и абсолютно нет справочника по «балачкам», без которых практически не бывает охоты?!
Перестукивает поезд на стыках на выходе со станции, полосы света от далеких фонарей пробегают по окну, освещают потное, точно из ведерка облитое, лицо солидного, усатого, явно рабочего человека. Поскольку уже двинулись, настроение у него приподнятое, все струны его души поют, и из уст его, открывая повестку дня, начинает литься
Балачка № 1
– Повезли мы в Казахстан, на целину, наши ростсельмашевские комбайны. На случай захватили, сами понимаете, двухстволочки…
Урожай огромный, прямо чертячий. Убирали без сна, без роздыху; какая там охота, если и закурить некогда! Через декаду, в полночь, кончили, а назавтра ехать домой. Вот и поохотились… Но решили не сдаваться; пересидеть под скирдой темноту, а чуть забрезжится, походить. Поседали на землю, выпили по маленькой.
А вокруг, товарищи, вроде океан: сотни, считай, на две километров – стерня и стерня от скошенной пшеницы. Красиво, простору уйма, но крепко потягивает ночной холод. «Дай, – думаем, – разведем огня». И только подожгли соломку, слышим в воздухе: «Ш-ш-ш… ш-ш-ш!»
Подняли головы, а то дрофы. Они на пшеницах разъелись и, вроде бабочки на свечу, летят на костер. Каждая, считай, баран на крыльях! Мой напарник по ремонту комбайнов (хлопец молодой, неопытный) из-под мешка дернул свою тулку, курок оттянулся – и тарарах в гору! Только мы ему, напарнику моему, вкатали по шее за растяпство, слышим вой вверху. Знаете, такое звучание, как если самолет пикирует и ветер свистит в фюзеляже. А то дрофа – случайный подранок от этого, что с-под мешка, выстрела, – поясняет сельмашевец; и мы, сидящие в вагоне, многоопытные, враз понимаем, какой это жанр. Фольклор. Фантазия. То есть рассказывай хоть о домовых.
– Подранок-то как хлопнется на край костра, аж перо зашипело. Оттащили, – говорит сельмашевец, – начали сами беглым огнем. Напарник мой инструмент готовит, заряжает нам ружья, а мы садим в гору. Дашь вверх – следом тресь на землю! Опять дашь – опять тресь. Бригадир наш кричит: «Ничего, товарищи! С нами в эшелоне вагон-холодильник, дичь не попортится!»
А у нас уже и патронов нет, хоть, понимаешь, камнем пуляй, но и камня нет, кругом – стерня. А они, дрофы, как назло прут. Казахстан, земли вольные, охотников нету, дрофа дурашливая с жиру, взыгралась. Бригадир орет: «Затаптывай костер к чертовой матери, они на огонь лезут!»
И верно: затоптали – чуть схлынуло.
В Ростове уже, когда сгрузили из холодильника, думаем: куда ее столько? Не из жадности ведь палишь, а с физкультуры. И по цехам раздавали через завком, и самим будь здоров. С нее ведь что суп, что котлеты. А соус! Если с картошечкой, с чесночком!..
Машина пущена. Страсти задеты. Пожилой, могучий, как штангист, скуластый отставной военный перехватывает эстафету. Он не откашливается, не достает задумчивым движением своих толстых пальцев папироску, как, по мнению неопытных людей, полагалось бы рассказчику. Нет! Все это можно потом, когда повествование начнется и никто уж не перебежит дорогу. Эмоции в вагоне нарастают, воображение раскрепощено, и пожилым военным излагается.
Балачка № 2
– Подъезжаем мы, товарищи, к Синявке… А знаете, сколько здесь в прошлом еще году ходило волка? Как зайца! Скотомогильник тут был, и перед ним противотанковый ров – остаток Южного фронта. Мы и пошли с зятем в засид. Разделились. Он в одиночный окопчик сел, я – в ров.
Звезды, мороз, валенки у меня на меховой стельке, на коже, полушубок фронтовой, теплый. Сижу-сижу и чего-то придремнул, что ли… Проснулся и дай, думаю, посмотрю. А волчище, оказывается, против меня по ту сторону бугорка затаился. У меня украинская колбаса была в сумке, он, негодяй, подполз на животе и нанюхивает… Я ж ничего не знаю, высовываюсь тихонечко, а он тоже ничего не знает, как раз с другой стороны подвигает ко мне голову – и здрасьте! – нос к носу! Аж своей ноздрей в мою так и дыхнул… Я ка-а-ак крикну, он развернулся – и от меня. А за ним, оказывается, второй подкрадывался; так тот не разобрался – да вперед. И они – лбами! Шутите – удар! Я вскочил, не пойму, в кого стрелять?.. Оба зубами ляскают, ощерились, у обоих шерсть дыбарем. Глядь, третий! И не разобрал я, что то зять, дочкин муж. Он, понимаете, на мой крик выскочил из окопа, да оскользнулся и по инерции пропахивает на четвереньках. Вижу: самый из троих сытый.
«Эх, – решаюсь. – Живьем возьму!»
Знаю, что за уши надо хватать. Схватил, и в горячке даже не думаю, почему это уши маленькие?.. Зажал и гну. То он меня одолевает, то я. Верите, уже развидняться стало, машины по шоссе пошли, а я не разжимаю пальцев, давлю. Вдруг слышу, из-под меня волк жалобно-жалобно: «Папа! Что же вы, с-сукин сын, делаете?»
Стучит вагон, махровыми розами цветет разгулявшаяся охотничья фантазия, с треском лопаются бутоны страстей. Теперь уж не обойдешься обычным сереньким рассказиком, как с одного дуплета было сбито четыре лисицы. Требуется другое, куда более тонкое, более правдоподобное, и на риск идет вдруг застенчивый сухонький гражданин. Судя по галстуку, привычно повязанному даже на охоту, по отдельным словам и конторским белым рукам, это работник аппарата. Он-то и решается выдать.
Балачку № 3
– Был я в командировке, в Степновском районе. Собрались мы на куропатку: завпотребсоюзом, председатель колхоза и агроном. И увязался с нами еще один командировочный – инспектор облсельхозуправления. «Я, – говорит, – бью, ого! У меня держись». Добыли ему ружьишко, зарядов, пошли.
Дело осенью. Иней обмяк на солнышке, роса сверкает, воздух!.. Сели перекусить. Инспектор этот отошел – и прямо на русака. И, оказывается, не знает, что там в ружье нажимать. Мы ему: «Бей! Бей!» Заяц очумел, дует что есть силы по кольцу вокруг инспектора, тот ведет за ним стволами и сам вопит: «Хватай его, грызуна, держи!»
А за скирдой малец колхозных коней пасет. Какой-то мерин и выгляни из-за скирды на шум. Заяц до него добегает, а инспектор как раз к этому времени попал пальцами на спусковую скобу и – вроде ему во всей степи места другого не было! – с перепугу ба-бах! Мерин копытами к небу – и не охнул.
Подбегаем. Мерин гладкий, белый, все дробины на нем, как на фанерочке. И хо-орошо, между прочим, легли, кучно!.. Ясно, не глубоко, а иные и поотскакивали: не куропатка, все ж таки лошадь! А лежит. Мы кепками машем перед мордой, чтоб ему воздуху больше; уже и рук не чувствуем, намахались, а у него пульс пропал. Глаза закатились, в глазах облака отражаются, и сам каменеет: инфаркт.
Сели, закурили. Держим совет. Боже мой, теперь же узнает райком!.. Дело ведь накануне районной конференции, сами понимаем, как оно оживит доклад… Но сиди не сиди – расхлебывать надо. Встали, послали мальца за бричкой. Взгромоздили на нее мерина, подложили соломки и тронулись. Добираемся до хутора, до крайних хат, инспектор было в сторону. Мы его за штаны: не балуй! А уж совсем в колхоз въезжаем, тут и председатель колхоза не выдержал: «У меня, – божится, – срочное дело». – «У всех, – отвечаем, – срочное. Терпеть надо».
У мерина хвост на сторону, губа отвисла, вспрыгивает на колдобинах, а мы следом шагаем с ружьями на плечах, чуть не плачем. Как раз же воскресенье, все на улице, высыпали навстречу нашему катафалку… Спасибо, хоть палками нас не лупят.
«Здрасьте, – говорят ехидно, – Иван Филиппович!» – «Привет, Сергей Петрович!» – «С полем вас! Вы на кого, – интересуются, – охотились? На русака чи на рысака?»
Улица длинная, объезда нет, вот так и идем… Входим – это уже за хутором – на хоздвор, мерин как заржет, соскочил и метров восемь, что ему до конюшни осталось, галопом. Аж взбрыкивает, сволочь! Мерси, дескать, что подвезли. Оказалось, шок у него был.
Знаете, какой резвый коняка стал после! Воду ли везет, тыквы – так и срывается на карьер! Ветеринар объяснял, что встряска организма и, мол, замечательная даже польза для нервной системы.
А все равно, райком как узнал – ох, и завертелось!.. Хорошо, хоть не записали. Я лично, в Ростов когда вернулся, два сезона слушать не мог об охоте. Впервые вот еду.
* * *
Качаемся в поезде, смеемся. Но психология – дело тончайшее. Заронилось и копошится где-то в глубинах: «Все ж таки счастье работникам Сельмаша. Оно хоть и шуточки, а смотри, сколько дрофы налупили!.. Вдруг и у нас сегодня что-нибудь будет!»
Почему и нет? Вот как энергично трется о ногу твоя собака! Пусть на обратном пути она будет еле живой, грустноглазой, с перевалившимся через зубы языком, измазанным в песке, в присохшем иле и в нефти. Сейчас она бодра, как и ты; под локтем у тебя ящик с веселой уточкой-крякушей, вокруг пояса двадцать четыре патрона, и в каждом живая, трепетная надежда: «Дашь вверх – следом тресь! Опять дашь – опять тресь».
Могучая сила – художественное слово!








