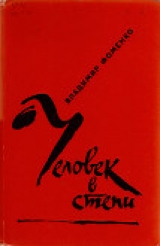
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
Остановившись, он подозрительно глянул на меня:
– Разве вам не нужно? Вы как-то это…
– Почему, Иван Евсеич? Идемте…
– Ну вот! Воротник у вас ничего, только тут до щек поднимите. И сапоги бы переобули, а? Переверните портянку, чтоб на сухое – нога не так заколеет.
Я подчиняюсь, и мы выходим. Час назад вдоль улицы можно было что-то видеть. Сейчас не разглядеть и на шаг.
– Огородами пройдем, – закрываясь рукавицей, командует Логушов. – Сюда, к углу сарая, поворачивайте: впереди колодец без сруба…
Мы шагаем какими-то пустошами, позади уже не видно ни домов, ни плетней, будто в мире и не существовал никогда этот хутор. Поле впереди дымится мутной заволочью, клубы снега идут один за другим и взрываются, рассыпаясь вихрями.
– Сейчас всю степь пройти – живого не встретишь! – криком сообщает Логушов. – И зверь и птица зарылись под снег, лежат, не копнутся. – Он глубже, двумя руками натягивает капелюху. – Кончится метель, го-олодные повылезают!..
Только здесь, за околицей, понятно, что такое ветер. Чтоб сделать шаг, надо всем телом ложиться на осязаемо твердый, идущий на тебя воздух; обожженное лицо становится чужим, полы шубы склеивают, облипают колени.
Выставив локоть вперед, я закрываюсь рукой, дышу в негреющие суконные складки рукава. Логушов шагает впереди, покачиваясь влево и вправо, словно выискивая, где меньше напор ветра. Изредка оборачивается:
– Плечьми, плечьми шевелите: теплее…
Веки смерзаются, и сквозь наледь ресниц мелькают впереди чернеющие по полю лысины. Их много, нога то ступает на убитую морозом окостенелую землю, то по колено проваливается в сыпучее, и перед глазами вырастает сугроб размером с хату. Гребешки его стремительно тают, охваченные прозрачным дымом, перемещаются под натиском поземки.
Трудно сказать, как долго мы шагаем. Ногой чувствуешь, что наш путь в гору; спина Логушова все маячит впереди, неторопливо покачивается. Наконец, остановившись на бугровине, он начинает всматриваться. Здесь, наверху, ветер давит полной силой. Вихри, проносясь мимо, поют каждый по-своему: один воет, другой высвистывает над головой тоненько и напряженно, и вдруг раскатывается грохотом, будто в воздухе рвутся железные листы…
Логушов носком сапога отыскивает что-то внизу.
– Колышек! – кричит он мне в ухо. – Вот по этой линии прямо на четвертую бригаду пойдет полоса. А вправо, через километр, во-он с того клина – сейчас не видать – еще одна! Дальше – еще! Так до конца колхоза!
Замерзшие губы плохо слушаются Логушова. Его лицо то возникает передо мной, то скрывается в завесе.
– Здесь, по краю полосы, пойдет кустарник. Тут гледичия будет. А тут, посередке, самое дуб!.. Центральный ярус.
Скулы ломит от мороза, и мне трудно отвечать Логушову.
– Центральный, – повторяет он. – Трите щеку вот тут – белая… В середке самый высокий будет ряд, а боковые порожками до краев, до кустарника снизятся. Во-он!..
Я всматриваюсь из-за поднятого, прижатого ветром к лицу воротника, куда показывает Логушов. Снег, перемешанный с ледяшками, с колючей пылью крутится на бегу, взлетает вверх и непрерывно сыплется на землю.
– Для дуба, – кричит Логушов, – полагается с боков сажать клены. Ведь под солнцем-то, когда духота, пекло стоит, особенно в косовицу, у дуба молоденький лист не выдерживает… – парень тянет меня за руку. – Разве ж выдержит, когда жарища – за металл не хватишься! Скотиняка – и та языки повываливает, нудится. Как же нежному листу? А подкленок раззеленится, тень в бока бросит – и ярусы в рост пошли!.. Трите еще щеку. Рукавом, он у вас суконный.
Логушов привычно коротко дышит на стуже, стеганка на груди покрыта от дыхания ледяным бугристым налетом.
– А раз деревья в рост пошли, то уж это вот поле – смотрите сюда! – условиями обеспечено!
Голубые, слегка навыкате глаза Логушова, окруженные красными от стужи веками, с требовательной мечтательностью смотрят на меня.
– Вы карту у меня видели? Помните, пунктиром показаны полосы – вторая очередь. Вот она, на том бугре будет вторая. Смотрите!
На обратном пути я чувствую, что физически вымерз насквозь. Равнине нет конца, всюду крутится белое, и не представляешь, где за ним лежат хуторские хаты…
Быстро вечереет, уже не спасают ни воротник, ни затверделые рукавицы, настойчиво думаешь, что идем не туда.
Видно, и Логушов иззяб. Несколько раз уже он плотнее натягивает капелюшку. Спросить бы, скоро ль, но трудно шевелить языком, а Логушов впереди все идет давно потемневшей степью.
В полушаге вырвался из метели угол сарая. Хутор! Я держусь стены, вспомнив о колодце без сруба… Ворочая окостеневшими губами, Логушов нечленораздельно спрашивает:
– Зайдемте к Матвеичу? Он печь топит… Ох, у него жаркая!
Еще минута – и мы в школе, в кабинете естествознания. Сторож действительно топит печь, на выбеленном поставце мигает лампа, и в комнате такая мирная тишина и теплота, что весь замираешь.
– Иван, чи в поле ходил? – всматривается Матвеич. – Тю! Господи… Грейтесь!
– А где семена? – оглядывает Логушов пустое место возле печки. – Отнесли?
– Отнесли. Раздевайся уж…
Логушов снимает капелюшку, стеганку вместе с рукавицами на тесемках и начинает, как на физзарядке, приседать, вытягивая перед собой руки. Лицо его покрывается каплями: иней оттаивает на волосинах щек и подбородка.
Сторож топит подсолнечной лузгой, бросая ее совком глубоко в печку.
Не нагляжусь на огонь! Близкий, горячий, бьется он рядом, мелькая желтыми, белыми, изумительно сухими, яркими лентами. Затверделое лицо отходит от мороза, радостно ощущение оживающей в руках и коленях, толчками заходившей крови, и одновременно начинает размаривать, клонить в сон. Холодно и подумать, чтоб еще выйти на ветер…
– Как хотите, Иван Евсеич, не пойду отсюда, – говорю я.
– А ужинать?
– Мучил человека, пока сам сголодался, таскала холера! – разглядывает Логушова сторож. – Жарево вот есть. Вчера кабана в кладовке кололи, – говорит он и без большой охоты развязывает узел с едой.
– А соль где? – с живостью оглядывает мясо Логушов. – Ага, в тряпочке. – Он раскрывает нож и, отерев о штаны лезвие, кладет передо мной. – Кушайте!
Мы принимаемся за свинину. Логушов ест сразу всеми зубами и вытирает губы куском газеты.
Матвеич бросает лузгу в топку, отчего в боровке, вмазанном в стену, явственно гудит пламя. Перед поддувалом на полу набит лист жести, на него просыпается зола, и огненные червяки ворочаются, дышат в ней. Налившиеся с мороза концы пальцев зудят и ноют, резкая дрожь пробегает по спине.
– Это холод выходит снутри, – объясняет Матвеич.
Наевшийся и разомлевший от печи и лампы Логушов расстегивает ремень, тянет через голову гимнастерку. Даже в одной сорочке, тесной ему в груди и у шеи, он широк и плотен. Он по-домашнему зевает, жмурясь на лампу.
Из сеней доносится топот: кто-то обивает сапоги, и в комнату вваливается высоченный худой человек.
– О-о, кузнец! Здорово, Михаил! – расплывается Логушов.
– Здорово! Где тебя черти носили?.. Полдня ищем.
В длинных руках кузнеца вымазанная мазутом высевная трубка от конной сеялки. Он замахивается трубкой на Логушова.
– Уже уширили? – увертывается тот. – Да стой! Покажь…
Кузнец отодвигает руку Логушова, говорит Матвеичу:
– Домой собирался, а у тебя свет. Вот и заскочил…
– А это что принес?
– Его ж, Логуша, в окне увидел, вернулся – пробу захватил. Мистеру заказчику!..
Он поворачивается к Логушову:
– Смотри уж, на. Выкрути огонька больше.
Осмотр длится долго.
– Тэ-эк… А здесь как семечко пойдет?
– Так и пойдет. Тут же на конус делаем, а будешь абрикосу пускать, шплинтик крутни – и дырка ширьше.
– Да нет! Эх, чудак ты… наклепай вроде козырьком.
– Чудак петух. Знаешь!.. – бросает шутить кузнец, лично сам примеряет трубку глазом и, должно, убедись, что Логушов прав, тяжко вздыхает: – Ох, и осточертел ты мне со своими лесами!..
Громыханье и хлопанье за окнами слиты в непрерывный гул. Ветер напирает на стену дома, слышно, как скрипят доски школьной веранды.
Матвеич выходит глянуть, что на дворе, и, вернувшись, останавливается перед нами. На его ладони – вырванный с корнем мертвый кустик озимой пшеницы.
– С землей пошло, – говорит он. – Озимку несет!..
Мы набрасываем одежду и выходим. Сени пронизывает насквозь, запертые школьные ворота вгибаются внутрь и трещат в петлях.
Должно быть, далеко вверху прокаленное морозом небо чисто, и в зените светит луна, потому что все подернуто желтоватой мглой. Снег, перемешанный с землею, поднятой где-то с полей, идет высоко над крышами домов, хвосты песка растянулись в воздухе, и среди них, будто пунктиры, мелькают черные точки и черточки. Это летят кусты озимой пшеницы. Они падают возле школы в свете окна, мелькают на земле у наших ног, на ступеньках крыльца, на перилах. Матвеич растерянно зачем-то собирает их…
– Пойду! – выкрикивает Логушову кузнец и, с головой запахнувшись в тулуп, длинный, согнутый, скрывается в замети.
Кустики летят. На школьной крыше, словно под ногами бегущих людей, лязгают Железные листы, пыль вертится под застрехой, запорошенные глаза невозможно ни руками, ни воротником загородить от ударов.
Мы возвращаемся в комнату.
– С пятого участка пшеницу несет, – говорит Логушов сторожу.
– С пятого, – подтверждает сторож, – там жа бугры…
Логушов, сняв капелюху, трет белесую, остриженную под машинку голову, сидит у печи, малиновой от огня, веющей горячим воздухом.
Свет лампы падает на составленные с окон консервные банки с цветущими фацелиями. Некоторые банки, наверное особо ржавые, ребята обернули крашеными бумажками. Старый еж, подобрав под себя тряпку, спит в ящике, на котором наклеен ярлык: «3-й класс «А». Сбоку, в стеклянной коробке от автомобильного аккумулятора, без земли растет стебель кукурузы. Белые длинные его корни распущены в воде, должно быть сдобренной солями.
Логушов морщится, вслушиваясь в шорох, посвист, удары, грохоты ветра.
– Цацкаемся с ним! Насеять бы, – говорит он, – весь план леса сразу – уже не то было б!..
Видать, от жара печи и от жара близкой лампы ему душно, он стягивает даже сапоги с портянками.
Сторож методически забрасывает совком в поддувало подсолнечную лузгу. Мгновение лузга лежит темная и вдруг сначала с краев и затем враз вся активно вспыхивает, и отблески бегут по полу, освещают стены и потолок.
Говоря, Логушов всякий раз наклоняется вперед, приближаясь лицом к самой лампе. От прилива крови резче проступают веснушки. Крупные, набрякшие в тепле после морозного ветра губы оттопыриваются. Слух привык к грохоту за стеной. Лишь изредка на мгновение оглушающая тишина – и снова царапанье по стеклу. От печного боровка тянет гарью, внутри озабоченно урчит пламя; чувствуешь, как оно идет к трубе под гладко обмазанными глиной кирпичами.
Физиономия Ивана Евсеевича лоснится, оплывает истомой, он кулаком подпирает щеку, но тело берет свое, и щека непрерывно соскальзывает.
– Считают, – говорит он, – что лес в степях – дело колготное: то, мол, акацию к дубам подсаживай, то подрезай эту акацию, чтоб молоденькие дубки не душила… – Осоловевшие его глаза яснеют, опять становятся широкими и голубыми. – Ну какая здесь колгота? Все посадки идут прямой линией. А в косовицу пустил комбайн – он идет, снимает хлеб и заодно краем хедера верхушки акаций… Так и пошел, па-ашел, сколько глаз видит!..
Логушов мечтательно, точно сквозь стену, смотрит куда-то, чуть приоткрыв рот.
– Значит, все рассчитано, Иван Евсеич?
– Да называйте меня Ваня… – мигает он. – Ну да, рассчитано! Вот схемка у меня.
Он достает из стянутого красной резинкой бумажника засаленный листок и, жмурясь на огонь в лампе, крутит в ней сломанное колесико, пытается прибавить фитиль. Руки Логушова большие, с уже выступившими, как у мужчины, жилами, но еще по-мальчишески пухлые.
…Ветер идет валом. Кажется, что кто-то над крышей высоко в воздухе хлопает огромными брезентами. Ветер напирает на дом. Особенно настойчивый порыв – и на стене шевелится солнечный мичуринский монтаж, куски сухой замазки летят с подоконника.
Несколько раз Матвеич выходит в сени.
– Не стихает? – спрашиваю Матвеича.
– Малый стихает, большой начинается. Считай, нет на пятом озимки…
Логушов молчит, и сторож обращается ко мне:
– Выдул… Летом он еще вреднее, летом высушивает. И весной высушивает…
Он подгребает золу фанеркой, щупает выходящую в смежный класс стену.
– Не греется. Степь не натопишь… – Он смотрит в пол. – Чи дождешься такого, чтоб каждый день душу себе не мотать: уродится, не уродится?.. А вдруг как и дождешься… Иван вот Логушов всем рога ломает! Прицепится – рад не будешь. Злой!
Я оборачиваюсь; Логушов спит, поджав босые ноги под скамейку, навалившись телом на стол. Его лицо уткнулось в брошенные перед собой тяжелые руки, и слышно детское, посапывающее дыхание хозяина степного лесхоза.
Весенним днем
Алексей Петрович Денега – новый председатель райисполкома – четвертый день принимал район.
Сегодня он взял на строительстве плотины катер и поехал по морю. Море только наполнялось. Запертая плотиной река затопляла весеннюю, серую еще степь, балки, дороги, усыпанные соломенной трухой, и над морем стоял сыростный запах пахотной земли и талого снега. Катер шел ровно, за кормой вздымались две крутые борозды, взбрасывали на своих гребнях то проплывающий телеграфный столб с изоляторами и оборванными проводами, то строительную щепу и сорванные с плотины опалубочные доски.
Алексей Петрович, тучный, в скрипящем хромовом пальто, стоял на корме и смотрел на далекий берег. Тридцать лет не был он здесь, где родился и вырос. Ему, как все считали, новому тут человеку, уже четыре дня рассказывали о районе, и он слушал, узнавал на местах колхозов былые Поповки, Ивановки, Христовоздвиженки. По фамилиям и отчествам молодых работников он иногда припоминал их отцов, и ему было тревожно, удивительно слушать вроде бы знакомых, а в сущности, совершенно новых ему людей. Вот и сейчас он с интересом слушает тоненького мальца-матроса, который изредка объясняет языком десятиклассника:
– Территория наша была засушливая. Летних осадков до нуля.
Капитан катера стоит впереди, в рубке, и, сознавая, что везет начальство, ни на секунду не отрывается от штурвала; моторист работает внизу, у машины, и Денега, выехав без провожатых, стоит на палубе с мальцом.
– Подвиньтесь, пожалуйста, – говорит мальчишка Денеге, неловко бросает за борт ведерко на бечеве, выхватывает его и с размаху выливает на палубу, что означает уборку.
– А теперь сюда подвиньтесь, – предлагает матрос, и опять за борт летит ведерко.
Глаза у матроса прямые. Ему, видать, и в голову не приходит, что, может, следовало бы подождать с уборкой, не двигать туда-сюда председателя исполкома.
– Давно плаваешь? – спрашивает Алексей Петрович.
– Две недели, – говорит парнишка.
Из-под расстегнутого возле шеи ватника синеет полоса старой, раздобытой где-то флотской тельняшки.
«Орел!» – все больше располагаясь к мальцу, определяет Алексей Петрович и опять смотрит на море, где была степь, знакомая с детства каждой пядью. Белесые солонцы, истоптанная овечками черствость, пыльная сухость… Теперь под татаканье катера наливающаяся вода.
В стороне – еще не залитый остров.
– Подрулите-ка, – подходя к рубке, говорит капитану Денега.
Впереди торчат над водой верхушки кустов, около верхушек – пара диких уточек. Они следят за приближением катера, ныряют и, выскочив дальше, настороженно вертят головками. На подтопленном тополе – стаи растерянных грачей, прилетевших на гнездовья. Они с хлопаньем снимаются один за другим. Катер идет так близко от берега, что, будто на открытой ладошке, видна улица перенесенного отсюда хутора. Ямы на месте погребов, откуда хозяева вывезли доски и бревна, печурки, стоявшие когда-то в хатах. От кирпичей отстала побеленная глина, видна сажа в обваленных трубах; на загнетке одной печи на золе виднеется обломанная синяя кружка. Окраины бывшего хуторка уже залиты. Оборвана не оттаявшая с зимы дорога, уходит под воду резко отпечатанный узор новых автомобильных покрышек.
– Наш колхоз был, – сообщает парнишка.
– Ну! А где ж твоя хата?
– Под нами, – показывает малец в воду и стоит на ветру, выпячивая открытую горлянку.
– Простынешь, – замечает Алексей Петрович, – застегнись. Видели твою тельняшку… Комсомолец?
– А что. Конечно.
Алексей Петрович кивает. Он тоже был комсомольцем, когда бывал в этом хуторе. У него тогда была уже двухмесячная дочка, умиравшая от истощения, и он искал заработка, доплелся в этот хутор страшной зимой двадцать первого голодного года…
В заледенелых валенках стоит он, Алешка, перед стариком Фильченко, держит шапку обмороженными пальцами.
– Значит, ты сапожник? – спрашивает старик и, поболтав в борще стручком перца, кладет его около солонки. Стручок враз мутнеет от застывающего бараньего жира.
Старик сидит в голове длинного стола перед эмалированной миской с густым огненным борщом. Из жира, возвышаясь над разваренными помидорами и картошкой, торчат куски баранины. Вокруг дедовой миски сидят бабка-жена, бабка – мать деда, бабка – мать жены, двое старших сыновей, старшая дедова дочь и две невестки, каждая с младенцем. Вокруг других мисок, более дальних, сидят остальные дети и домочадцы. Всего обедают двадцать два человека – семья Афанасия Семеныча Фильченко.
Алешка с маленьким братом Андрейкой стоит у двери. Их котомки с инструментом и синей, чуть облупленной кастрюлей, взятой на случай обмена, лежат у порога.
– Значит, ты сапожник? – повторяет свой вопрос дед.
– Сапожник, – отвечает старику Алешка и с тоской смотрит на исчезающий борщ.
– Наверно, дерьмовый сапожник, – говорит дед, обгладывая сочный, видать, горячий мослак.
– Почему же, дедушка?
Минуты три дед ест молча. Десятки глаз смотрят на Алешку и Андрея.
– Потому что дерьмовый. Видать! Подсыпь-ка, мать, еще борщу.
«Эх, подсыпать бы тебе, паразит ползучий!» – думает Алешка и чувствует, как у него глухо сжимается желудок. Он находит в себе силы отвернуться, но братишка, дергая оттаявшим в тепле носом, не опускает глаз с жующих ртов.
Вслед за борщом была съедена молочная лапша, затем узвар из домашней фруктовой сушки. Во время узвара, уже насыщенные борщом и лапшой, все громко отрыгивали. Мужчины грубо, старухи – помягче, молодайки – совсем нежно. Дед, помолившись на образа, спросил:
– Может, вы исть хотите?
– Можно б, дедушка…
– Сапо-ожники! Исть все мастера, а работать… Чи отработаете, чи нет, а дедушка корми… Ладно, ступайте на баз, напойте скотину.
На унавоженном, закостенелом от мороза базу уже работала молодежь – дочки и племянники хозяина. Малого Андрейку, только пригревшегося в хате, охватил озноб.
– Вы, убогие, ступайте в сарай, там теплище, – заулыбался слюнявый, вроде дурачка, хлопец в облезлом малахае, но, увидев проходящую дочку хозяина, вдруг крикнул: – Нечего огинаться!
В сарае было тепло. Уже напоенные лошади стояли длинным рядом вдоль всей стены и звучно жевали овес. Алешка, вроде случайно, подошел к яслям и, набрав жменю овса, сунул в рот. Волчьи Алешкины зубы в минуту перетерли зерна, и он вместе с остюками глотнул благодатную хлебную массу, слышал, как она, теплая и сладкая, радостно лаская, прошла по глотке. Алешка отыскал забившегося в угол брата и зашептал:
– Жри, Андрюшка, овес.
Они набили рты и, когда им навстречу проводили напоенных быков, переставали жевать, скребли лопатами пол. Рядом с гладкими конями стояли полудохлые лошаденки.
– Кормов не хватает? – спросил Алешка у слюнявого хлопца.
– Не-е! Это дядя у просильцев взяли. Люди просили у дяди хлеба взаймы; ноне не уродило, так дядя лошадками долги берут.
С база послышался голос хозяина, и слюнявый шмыгнул вбок.
– Нехорошо, Фроська, – доносился голос старика, – зачем бычат бьешь? Скотинка, она ласку любит. Не по-божески делаешь.
Дед остановился около Алешки:
– Ох, работничек… улита. А исть небось здоровый.
Алешка, боясь, что пнет старика, отвернулся от прислоненных к столбу вил.
– Не по совести работаешь, не по-божески! – сплюнул дед и пошел к выходу.
Алешка с трудом передохнул, глянул на слюнявого хлопца.
– Что он все о божественном?..
– Дядя, они молитвенные, – объяснил хлопец, – они никогда черным словом не ругаются.
– Не ругаются?
– Не.
– И в божью матерь не кроют?.. Ну я ж тебе подгадаю!
Алешка скрипнул зубами, решительно пошел к дому. С порога снял шапку.
– Бабушка, у вас есть в лампаде богова олия?
– На что тебе?
– Псалтыря почитать.
– А ты умеешь?
Алешка не ответил, сам снял лампаду и, налив на руки масла, вытер ладони о голову.
– Где у вас псалтырь, бабушка? Принесите.
Он сел в переднем углу, открыл закапанную воском книгу и чуть в нос, с расстановками, как некогда учили его в церковноприходской школе, принялся читать. Вышедший из клетушки старик остановился у притолоки, медленно стянул с себя треушку.
– Цыть! – махнул он на шумно вошедшую дочь и зашептал: – Скажи, чтоб там на дворе кончали, заходили б…
Молодежь, поглядывая на Алешку, на цыпочках проходила в хату, замирала. Минут через пятнадцать дед кашлянул в руку, концом пальца тронул Алешку за плечо:
– Ты б, богов человек, может, закусил?
Алешка не ответил, дочитал до главы, вложил меж страниц закладку.
– Оно можно, дедушка.
Алешка до огненного жжения перчил борщ; толкая ногой Андрейку, вылавливал мясистые куски баранины, стекающие жаркими каплями.
– Проголодался?.. – ласково спрашивал дед.
Горящая в печи подсолнечная лузга, наверно, на лютый мороз гудела в дымоходе. Около наваленной на полу лузги умывалась трехцветная – признак счастья в доме – кошка. Обе невестки отошли к койкам и, опершись спинами на вороха подушек, кормили грудью детей. У дальней стены, от большего к меньшему, выстроились – Алешка прикинул глазом – четырнадцать самоваров.
«Спросить бы у слюнявого – откуда?..»
Алешка еще черпал борщ, не в состоянии унять голодной дрожи пальцев.
– Эх, богов человек, – вздыхал хозяин, – трудная у тебя жизнь. Папаши небось нету?
– Нету.
– Вот. Значит, горе мыкаешь. Я тебе от сердца присоветую: обзаведись хозяйствишком. Ежели по совести – наживешь копейку.
– Как по совести?
– А взял у человека целковый, пообещал через срок вернуть – по совести верни. И сам требуй от человеков совести. К примеру, даю я соседу чувал зернышка и говорю: «Пользуйся на здоровье, с урожая возверни за мой труд два». Человек отвечает: «Возверну». Спрашиваю его: «По совести, сосед?» Божится: «По совести».
А срок наступил – не отдает. «Отсрочь, – говорит, – у меня дети». – «Мил человек, – говорю ему, – а у меня рази кошата?» Нет, милый, раз уговор был – отдай, а я спрячу. В хозяйстве так: дальше положишь – ближе возьмешь… Свое прячу!..
А часто и свое теряешь. Поди вот, продай нынешний год хату. За нее и мешка муки никто не даст. А я даже, кто мне пять должен, не торгуюсь, забираю ихнюю хату – себе в убыток.
Алешка слушал старика и не спускал глаз с младенцев, заснувших на руках хозяйских невесток. Младенцы причмокивали, Алешка разглядывал их нежные приоткрытые кулачки, распаренные от жара стены, пахнущие сладостным молоком. Алеша думал о своей дочери. Ручонка у нее вечно холодноватая, сухая; если потереть о нее губами и подбородком, едва ощутишь тепло. Это тепло его, его кровинка. Он, отец, лучше прокусит свой язык, но будет молчать и принесет домой хлеба.
По столу, по стенам ходили бойкие прусаки. На стене, должно быть на случай, если заглянут приехавшие городские власти, наклеен плакат. Земной шар, на нем молодая республика и красный рабочий с красным, высоко взнесенным молотом, от которого летит на стороны разорванная цепь. Рабочий плечистый, смелый, а на него, ощерясь, надвигаются империалисты в цилиндрах, поп с крестом, пузатый мироед. Мироед на плакате поднял уже паучьи лапы, вот-вот уцепится сзади за ногу.
…И комсомолец Алешка со всей дружбой сидит с мироедом за одной миской, слушает, что этот гад нашептывает в ухо.
– Брешешь, – почти беззвучно, одними лишь губами выдыхает Алешка в лицо деду и, понимая, что гибнет кусок хлеба для дочки, может, и сама дочка, дрожа, спрашивает: – Революцию душить, гадские пауки? Революцию? Мы вас скоро всех до одного к ногтю! У-у, божественный паразит! – вскакивает он в замершей комнате, ища глазами какое-нибудь железо.
Били Алешку уже не в хате, а на базу. Он видел над своей головой сапоги дедовых сыновей и самого деда Фильченко. Дед отвернулся, крестясь, пошел в дом. Били Алешку долго. Кто-то уже ночью подобрал его на улице возле плачущего Андрейки, обмыл кровь и дал попить.
* * *
Алексей Петрович улыбнулся. Катер по-прежнему ровно шел по загрязненному щепой, неоформленному морю. Матрос тер рукавом медяшки на перилах, и его круглые глаза были полны флотского азарта.
Денега тронул парнишку за локоть:
– Слушай, тебя били когда-нибудь?
Тот удивленно глянул на Алексея Петровича и засмеялся:
– Нет. А за что меня бить?
Денега тоже засмеялся.
– Верно, – согласился он, – может, и не за что. Видишь, я вот о чем… Ты бы за свою землю решился бы, скажем… жизни не пожалеть?
– Ну а как же? – снова удивляясь, ответил малец. – Только не приходилось пока. Работаю ж я недавно. – Подвинув носком мокрого ботинка сложенный на палубе канатик, он объяснил – До этого учился. Мы вдвоем с мамой. Отец убит. Недалеко здесь.
– Где же?
– Во-он на берегу виноградарский совхоз. Они там семь с половиной суток дрались с фашистами… И братуха там же погиб.
Матрос отер о ватник пальцы, багровые на вечернем холодном ветру, как утиные лапы, поглядел на Денегу, добавил:
– Странно рассуждаете. Кто ж не погибнет, если надо?









