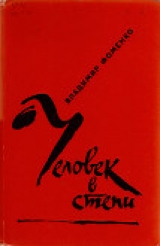
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Папаня
Глухая ледяная ночь. Лучи фар рыскают вдоль неровной, бешено мелькающей навстречу дороги.
– Ильюша, родненький, тише!..
Женщина, почти девочка, мордастенькая, зареванная, стонет в прыгающей кабине грузовика и, отодвинувшись от пожилого, угрюмо занятого своим делом шофера, роняя слезы, хватается ладонями за огромный, остро выпирающий живот. Под руку, мешая сидеть, ее неловко держит муж – парень в накинутой набок кубанке. На его губе примерзла докуренная цигарка; он стоит снаружи на подножке, с трудом удерживается при толчках и, чтоб скрыть свою растерянность и ужас за жену, балагурит:
– Нехай лучше машина рассыпется, а ты, Ксеня, рассыпаться хоть трошки погоди.
Он вглядывается в дорогу и, злобно сжимая скулы при каждой выбоине, просительно наклоняется к жене.
– Ты, Ксеня, крепись. Нельзя же здесь…
– Уже не могу, Ильюша.
Вместе с пылью в кабину врывается колкий, режущий, прокаленный морозом ветер.
– Ксеня! – просунув в кабину голову, говорит Илья. – А вроде не очень жарко? Я стекло подыму, а сам в кузов.
Она испуганно мотает головой, плотней сжимает его руку, и он через кожух жены слышит рукой, как то замирает, то вдруг часто колотится ее сердце. Колеса прыгают по смерзшимся колеям, машина без перерыва трясется.
– Дядя Вася, – бросает Илья. – Сверни, держи по-над дорогой.
Шофер молча переключает скорость. Грузовик рывками переползает через кювет, начинает набирать ход. Бурьяны бегут из темноты, возникают кусты, по бокам прошлогодние бугры, нарытые кротами.
– Точно по асфальту! – веселеет Илья.
Грузовик, как от двойного взрыва, взбрасывает задок, дважды раз за разом резко грохает кузовом.
– Окоп. Черт его! Давай на дорогу, дядя Вася…
Илья хочет натянуть жене на лоб сбившийся к затылку платок, но она не дается. Она потеряла варежку, и Илья слышит: несмотря на мороз, обильной испариной покрыта ее рука. Он сжимает маленькую, беспомощную ладошку, больно тискает ее в своих окоченелых пальцах. «Началось!..» – понимает он.
Женат Илья меньше года. Женился в том же месяце, как избрали его, клубного киномеханика, председателем сельсовета… Хуторяне оценили «нового» за энергию, хозяйский глаз и, может, больше всего за веселый характер. Работал Илья ладно, действительно весело и сам знал, что характер у него золотой.
– Здорово дневали, девчата! – спрыгнув со своей двуколки, оседая на раненую ногу, подходил он к старухам на току.
– Ишь девчат нашел! – смеялись бабки, уважительно оглядывали ласковое, красное от зноя, горбоносое лицо Ильи. Его чуб на верхних завитках выгорел от солнца; крупные, точно у коня, зубы запылены, а крохотные глаза смеются.
Работал Илья день и ночь и, заскакивая изредка домой, не понимал, почему молодая, девятнадцатилетняя жена готовит ужин молча, тоскливо смотрит в пол. «Чего ей надо? – недоумевал Илья. – За бабами не бегаю, нигде не гуляю, даже баян напрочь забросил… Ведь люблю же ее!»
– Ксенюшка, – брал он жену за тонкие плечи, заглядывал ей в лицо. – Чего надулась? Глянь на себя! Прямо квашня в кринке! Обижаешься, что сутки не был? Так уборка же, время же горячее. Дай я тебе, жена, сыграю! Нехай картошка пока сама кипит, – подмигивал он, вынимал из чехла баян.
Когда Ксеня пошла в декрет, Илья купил в раймаге детскую фуражечку-капитанку с якорем и лакированным козырьком. Со смешанным чувством радости и тревоги он обернул фуражку носовым платком, положил в кошелку и дома, почему-то тайком, спрятал на дно сундука. «Сын – моряк. Дела, ей-богу!» – хмыкнул Илья, поглубже прикрыл покупку.
Прошла осень, наступила злая сухая зима. Бюро погоды обещало снегопад, Илья всю неделю пропадал в бригадах, организовал снегозадержание на голых полях, мотался в МТС, в район, в колхозные мастерские, где делали щиты; и самолюбию его льстило, что там, где другой пасовал, он все умел, зубами вырывал и любые материалы, и транспорт.
Когда час назад, счастливый, как зверь голодный, он попал, наконец, домой, Ксеня, привалясь животом к подушке, стояла у кровати. Она спросила:
– Чего ты пришел?.. И без тебя чужие люди управятся.
Соседка по улице, Лиза Маркова, грела на печи в чугуне воду и хоть слышала, что Илья вошел, не обернулась к нему. На табурете лежали чистые тряпки, глаженая простыня, внизу стоял таз, налитый кипятком.
Илья бросился в колхозный гараж. Полуторка, приготовленная к завтрашнему утру для рейса на утильбазу, была загружена железным ломом, и, пока шофер дядя Вася заправлял мотор, Илья, надрываясь, хромая, сбрасывал на землю старые автоблоки и какие-то рамы, сцепленные друг с другом. Дома, несмотря на протесты Марковой, они вдвоем с шофером вытащили Ксеню, усадили в кабину и сейчас пробивались в район…
Опять сворачивают они с тряской дороги на обочье. Впереди выскакивает заяц и, мелькая светлой подпушиной, сбивая сухие метелки бурьянов, с минуту скачет вдоль светлого коридора. Губы Ксени, по-ребячьи зареванные, пухлые, полуоткрыты, голова запрокинута, бьется от толчков.
«Сволочь я. Гад», – думает Илья. Ноги его в щегольских тоненьких сапогах онемели на железной подножке, но он не чувствует этого, поправляет на жене платок.
– Пусти, – всхлипывает Ксеня. Ухватясь за руль, она молит шофера: – На одну минуточку остановите, на одну!..
Шофер растерянно тормозит, но Илья отрывает от него маленькие пальцы жены, приказывает чужим шепотом:
– Жми на всю!
На земле под кузовом что-то свистнуло, стучит, и машина, проскочив с разгона метров десять, останавливается.
– Эх! – выдохнул шофер и, глянув на родильницу, осекся, горько рубанул рукой. – Скат спустил.
Мужчины сошли на землю. На небе ни прогалины, ни звездочки. Бесснежная, зачугуневшая от стужи земля гудит под ногой.
– Уже? – ничего не понимая, облизывает губы Ксеня.
Машина стоит чуть боком, в свете фар проносятся белые мухи снега, которого ждали поля. В полосе света маячит на ветру лесная полоса; видно, как ближние, тонкие, будто прутики, саженцы подрагивают и гнутся под злым, мощным напором.
«Может, тут и человеку рождаться», – подумал Илья. Он впрыгнул в кузов, сбросил сверху запасной тугой скат.
– Дядя Вася, домкратик где?
– Под сиденьем. Давай, Ильюша, жинку подыми…
Илья для чего-то оправил кубанку и, тонкий, сухой рядом с матерым дядей Васей, открыл дверцу, начал обхватывать жену под спину. Она замерла и неожиданно твердо, осмысленно сказала:
– Довольно. Пусти.
Домкрат был нужен, и Илья не пустил, начал тянуть на себя, понимая, что начались роды, что домкрат надо из-под сиденья вытащить, опять запихнуть в кабину воющую, выгибающуюся жену. Он проделал все это, вырвал у шофера ключ, с бешеной быстротой затягивал гайки звенящего на морозе нового ската.
«Рожает! – понимал он. – Загублю ведь и ее, и сына».
– Заводи, дядя Вася, кончаю. – Он вскочил на подножку и, отрывая от шофера потные цепкие пальцы Ксени, крикнул: – Гони!
Когда парующая машина остановилась у больницы, Илья подхватил жену под колени, бегом понес ее вместе с кожухом, стеганкой и платками, не зная, есть ли уже в этом всем ребенок. Окна больницы были темны, на удар ногой в дверь никто не отозвался, и Илья, держа на руках Ксеню, повернулся спиной, задом сбил дверь с крюка и мимо выскочивших сонных нянек пронес ее в пахнущую теплом комнату.
Его вывели в приемную, посадили на табурет. В приемной было тихо, от круглой печи с трафаретом поверху тянуло запахом теплых кирпичей. Тотчас следом вышла неопределенного возраста сестра.
– Поздравляю, молодой папаша!
– Сын?
– Дочка.
Илья опустил голову и, словно потерял что-то, полез за кисетом. Сестра осуждающе и понимая посмотрела на него и ушла, сказав:
– Утрясется.
«Утрясется… – горестно думал Илья. – Что значит утрясется?»
Сына он представлял давно и ясно. А дочка… Что такое дочка? Просто маленькая девчонка, наверно, горбоносая, как я, наверно, с глазами такими же кручеными, как у меня, Ильи Мосинцева.
Сердце Ильи сжалось. «Стой! – подумал он. – Может, возьмешь ее, а она ручонкой – раз! – и ухватит за губу. А Ксеня увидит и скажет: «Так его, хватай папаню».
«Папаню…» Илья покрутил головой и все же, еще не понимая, что произошло и какое – плохое или необыкновенно хорошее, вышел на улицу, крикнул шоферу:
– Дядя Вася, поздравляй. У меня, понимаешь, дочка!
Дети
Огненным, до отказа раскаленным полднем я прибился в тень нежилой хаты, стоящей среди поля. Прислонив велосипед к облупленной саманной стенке, я сбросил со лба полную горсть пота и мешком осел в узенькой полоске тени.
Впереди, в полукилометре, виднелась птицеферма, за ней, возле далеких, ослепляющих солнцем копиц, работал на приколе комбайн, выколачивал скошенную пшеницу. Дышать было нечем. Небо палило землю, а земля, покрытая сникшей люцерной, пылью дорог, ровными рядами подсолнухов, сама источала в воздух свой жар, свою нестерпимую печную сухость.
Невдалеке от хаты, в ложбине, живыми, влажными красками голубел водопойный ставок, упершийся в земляную греблю. Вода, хоть и захламленная кустами скатившегося курая, хоть и пожелтевшая, звала к себе, но жара настолько давила, что я был рад месту, не шевелясь сидел у раскрытой двери.
В пустой хате, как и вокруг, было сонно. На полу валялись иссохшие шляпки подсолнуха, в окошке на уцелевшем стекле сидел зеленоглазый пыльный овод, и только вверху, над соломенной крышей, беспокойно стрекотали воробьи да на полатях вроде слышалось порой шуршание.
Вдруг возле квадратной, вырезанной в потолке ляды кто-то явственно и энергично сморкнулся. Сверху посыпалась заблестевшая на солнце соломенная пыль. Сперва я увидел показавшиеся из открытой ляды босые детские ноги, потом штаны с квадратными латками на коленях, следом голый живот в засохших подтеках арбузного сока (должно быть, рубашка зацепилась), и, наконец, появился весь мальчишка, повисший на руках. Мальчишка качнулся и, крякнув, спрыгнул на пол.
– Эх, – произнес он еще раз и встал возле меня нос к носу, пораженно вскинул глазами. Глаза у него были желтые, как мне показалось, вороватые. На физиономии – полова, пыль и остюги, густо налипшие на потные, точно облитые щеки, лоб и уши: должно быть, уж очень душно было на чердаке. В оттопыренных буграми карманах что-то пищало и шевелилось, наружу выглядывали перья.
– Здорово! – сказал я. – Воробьят в крыше драл? Зачем?
Он почесал одной ногой другую и одновременно всей пятерней за шиворотом, вытряхивая из-под рубахи солому.
– Цыплятам, – он кивнул в сторону фермы. – Для рациона им. Понятно?
Мне и раньше было понятно, что цыплят прикармливают мясом, но с этим «воробьиным» способом сталкиваться не приходилось.
– Сегодня мяса на ферме нема, – объяснил малец, с прискока подтягивая штаны, сползающие под тяжестью шевелящихся живых карманов.
У колхозных ребят понятия о жалости трезвые: дело есть дело. Как это жалеть, например, курицу, если мать послала словить ее для борща? Или, чего доброго, рыдать над цветущими вьюнками, которые выпалываешь на огороде?
– Кто у тебя на ферме – мать? – спросил я.
– Сестра. Матери нету.
– А где отец работает?
– Отца тоже нету, – беззаботно бросил он, потирая плечом исцарапанное в кровь ухо, когда охотился за воробьями. Должно быть, в соломенной крыше, куда он продирался головой с чердака, были жесткие стебли.
– В сорок четвертом отца убили, у меня дома его медаль есть, – хвастливо добавил он уже за порогом, но дальше не пошел, увидев мой велосипед. Замирая от надежды и нисколько не веря в счастье, а просто так, на всякий случай, произнес:
– Дядя, я прокачусь, а?..
– Прокатишься, – сказал я. – Только подожди: отдохну, подкачаю камеру.
Мальчишка ошеломленно вздохнул, тронул свои тугие карманы. С таким грузом кататься невозможно. Он скинул штаны, свернул Их комом и, оставшись в вытертых, сплошь заштопанных трусишках, сел лицом в сторону чуть впереди меня, показывая этим, что абсолютно никого не торопит. Его выгоревшие волосы были совершенно белого цвета, а тонкая шея, зажатая в острых плечах, до того коричневая, что казалась дегтярной.
– Сколько тебе лет?
– Одиннадцать. А что? – подозрительно и сразу недружелюбно глянул он, опасаясь, не повредило б это договору о велосипеде.
– Ничего. Молодец! А зовут как?
– Валентин.
– Значит, с сестрой живешь, Валя?
– Ага. Она в седьмом классе уже. Зимой учится, летом – птичницей. Что-то с комбайном у них? Стал. – Он вгляделся. – Вон и наши пацаны едут оттуда к нам, будут быков поить.
Далеко на дороге виднелись подводы. В голубизне покачивались рогатые бычьи головы, словно стояли на одном и том же месте.
– Ох, и не люблю быков, – объявил Валентин. – То ли дело машина или конь! Я с конякой три раза в день оборачиваюсь на ферме. И вода, и корм, все без задержки! Сегодня б за мясом ехать, да зав не выписал, паразит.
– Как это паразит?
– Пьянствует! Вот и дерешь воробцов для рациона. Хорошо, что хоть коняка пока выпасается.
Действительно, в полусотне метров стояла белая лошадь, а возле нее темный жеребенок. От зноя лошадь не паслась, дремала, свесив большую костлявую голову, даже не обмахиваясь уснувшим хвостом, и в сиянии ослепительного неба, в палящем солнце казалась серебряной.
– Аня, Аня, Аня! – начал звать ее Валентин. – Анечка!..
Лошадь подняла голову, тряхнула ею, должно быть сбрасывая свои сны, и медленно вместе с жеребенком пошла к хозяину, качая в такт шагам острой спиной и реденькой вылезшей гривой.
– Ну что? Видали? – хвастливо скосился Валентин. – Я ж ее купать буду. Знает, паразитка!
Лошадь остановилась за несколько шагов, но Валентин выдерживал характер, не поднимался.
– Анечка, Анечка…
И только когда конская морда с отвисшей белесой, в темных крапинках губой, с огромными, желтыми, сухими на солнце зубами совсем повисла над ним, он вскочил, стиснул под мышкой эту морду и начал охлопывать за ухом. Жеребенок остановился поодаль, оглядываясь на подводы.
– Валька, скупнемся? – кричали с подвод мальчишки.
– Чего там в комбайне у вас? – осведомился Валентин.
– Ремень порвался. В двух местах, не зашьешь. Механик на бедарке побежал за новым.
– Тр-р-р! – загорланили ребята на быков, сразу потянувшихся к воде.
Мальчишек было двое и две девочки: одна совсем маленькая, лет трех, толстая, с помидорно-красными щеками, сомлевшая на подводе от тряски, солнца и горячего ветра.
– Посади ее в холодок, Гринька, – распорядился Валентин, ткнув в плечо кирпатого, спрыгнувшего наземь мальца.
– Сам, что ли, не знаю! – огрызнулся тот и, с досадой обхватив девчушку поперек, будто она не ребенок, а куль, отволок ее под стену, в тень.
– И семечек дай ей, Гринька, пусть играет, – назидательно сказал плечистый цыганковатый хлопец, которого все с уважением называли Алексеем.
Отошедший было Гринька ожесточенно посмотрел на Алексея, но вернулся к ребенку, полез в карман, вытащил горсть семечек.
– Играй, Наташа…
Что Наташа и Гринька сестра и брат, ясно со взгляда. Одинаковые носы, круто вздернутые кверху – кирпатые, открывающие две пары до смешного у сестры и брата одинаковых круглых ноздрей, широко и как бы требовательно глядящих в мир. Лица ватрушками, только у Наташи убежденно-хозяйское, а у Гриньки – озабоченное обязанностями няньки, которую жестко контролирует вся компания.
Особенно была недовольна Гринькой Оля – гладко остриженная под машинку, большерукая тоненькая девочка. Когда Гринька посадил сестру, Оля ближе подсунула ее к стене, а когда насыпал семечки на землю – Оля с подчеркнутым возмущением переложила их на платочек.
Ребята вынимали железные занозы из бычьих ярем – и быки освобожденно, явно радостно крутили тяжелыми головами, сгоняли насевших оводов.
Распряжкой руководил Алексей, черноволосый, черный от загара, весь угольный. Кепка на нем была набок, продранный козырек с торчащей изнутри картонкой небрежно висел над ухом.
– А где Джульбарс? – остановил он вдруг ребят.
– Джульбарс, Джульбарс! – встревоженно стали звать ребята, озирая дорогу, по которой приехали, заглядывая в подводы, вороша в них солому.
– Есть! Вот он, Джульбарс! – победно заорал Валька, вынул из ящика задней подводы спящего щенка, положил у колеса. Кудлатый щенок-сосун продолжал спать, не реагируя на подобострастные, подхалимские возгласы:
– Джульбарс, эх ты ж, дьявол! Вот с-сатана!
Все три пары выпряженных быков бегом потрусили к ставку; одни прямо у берега с нетерпеливой жадностью припали к воде, другие с хода влезли по брюхо, пили там. Мальчишки ринулись следом, сбрасывая на ходу рубахи и штаны. Оля жеманно отвернулась, стала глядеть в степь. Потом шагнула к подводе, хозяйственно взялась за обод, крепко качнула колесо, как это делают мужчины, чтобы по звуку определить, есть ли на оси смазка.
– В порядке инвентарь? – спросил я.
Оля улыбнулась, подошла к толстой Наташе. Ярко выразительные Олины глаза были карие до черноты, очень большие и продолговатые. Чисто украинские… Личико тоже продолговатое, тонкое, и вся она – со своими большими руками, наголо стриженная, в тесном платьишке выше смуглых острых коленок – походила на гибкий длинный прут.
Говорила она тихо, крутила на пальце подол. Она из Днепропетровщины. Они «вакуированные». Дед и две бабушки – батькина и мамина – старые. Мать одна на всех работница, да еще и болела зиму и весну, потому и Олю остригла, чтоб не возиться с косами. Возвращаться домой, на Днепр, пока тяжело: как же ж на такую дорогу поднимешь трех стариков? Это не кошелочка, что подхватил – и айда!..
Оля опускала густые, выгнутые скобами ресницы, говорила рассудительно.
– А на батьку у мамы похоронная спрятана. Он лейтенантом был. Чего тут поделаешь?.. Валька вон тоже ведь без отца. И Алексей без отца. У него теперь дядя Миша.
Оля вздохнула, убежденно заключила:
– И разве ж мать обвинишь? Трудно без мужика женщине!..
Над ставком гремел командирский голос Алексея:
– Гринька! А ну-ка Наташу скупни!
Гринька вылез из воды, стал угрюмо поднимать сестру, но Оля отобрала, сама поднесла к берегу и, не спуская с рук, ловко умыла, посадила на валявшиеся у берега Гринькины штаны, сдернула с Наташи рубашку и принялась стирать.
Мальчишки тоже не гуляли, купали лошадей. Двигая острыми лопатками, поливали водой, скребли ногтями кобылу и жеребенка, и лошади, должно быть издавна привыкнув к такому удовольствию, спокойно жмурились от брызг.
– Давайте и Джульбарса скупнем! Тащи его, Оля!
Скоро все ребята – с Наташей, с мокрым щенком, с выгнанными на берег лошадьми – опять были у хаты, и только быки, как застывшие, оставались в воде, залитые сверху солнцем. Алексей, как старший, недовольно посмотрел в сторону комбайна.
– Черт! – сказал он. – Стоит. Ну, нехай, быкам тоже отдохнуть надо, не железные.
Ребята, вожделенно поглядывая на мой велосипед, стараясь делать это незаметно, напряженно перешептывались с Валентином. Мол, не дрейфь, скажи ему. Чего ж он, если обещал!..
Пришлось встать, взяться за насос. Ребята нагнулись над моей спиной, дыша в затылок, осторожно потрагивая то раму, то спиральную пружину под седлом и жестко одергивая друг друга:
– Не лапай, не купишь!
– Ну, – сказал я Валентину.
Путаясь в спешке пальцами, Валентин схватил руль – сперва за никель, потом за резиновые ребристые ручки, стал босой ногой на педаль и оттолкнулся. Вторую ногу продел внутрь рамы, так как через верх ему было не достать, и так, стоя боком, быстро замотылял по дороге. Сделав круг, запыхавшись, соскочил возле нас, посмотрел на присевшего у хаты печального Алексея, на велосипед, на меня. В глазах было всё: счастье, опасение, что велосипед сейчас отберут, и борьба с самим собой за интересы товарища. Верх взяло товарищество.
– Дядя, – решительно сказал Валентин, – дайте прокатиться Алексею.
Поехал Алексей. Потом оказалось, что умеет кататься Гринька и даже Оля. Велосипед вилял и устремлялся вперед резкими неровными рывками. Вот-вот врежется в угол подводы.
– А хотите, – несясь по кругу, возбужденно кричал Валька, – я задом еще проедусь?
– Нет уж, – твердо сказал я, – точка.
Велосипед был поставлен, мальчишки с азартом обсуждали езду, а серьезная Оля наклонилась к забытой на время езды Наташе, подняла кукурузный початок и ловко повязала на нем платок.
– На куколку!
Стали есть арбуз. Он был обмятый в подводе и почти горячий. Наташа хныкала, ко всем лезла, и все кричали на Гриньку. Гриньке смертельно надоела сестра, но он притопывал перед ней босою ногой и даже вставал на голову – дескать, не реви, дай человеку минуту покоя. Девочку утешил арбуз. Гринька совал ей арбузную мякоть, выковыривая пальцем семечки. Кормили ее и остальные. Однако наибольшим вниманием пользовался у всех Джульбарс. Его науськивали друг на друга, каждый звал к себе, плюнув на щепку, давал ему понюхать и прятал под рубаху, чтоб Джульбарс искал. Сосун дураковато смотрел, сонно отворачивался, и это тоже ставилось ему в плюс:
– Черт хитрый! Нарочно не ищет!
Валентин собрал арбузные корки, высыпал их перед кобылой и начал растопыренными пальцами, точно гребенкой, расчесывать ее влажную, подсыхающую гриву. Старая лошадь сосредоточенно хрупала корками, пенила и роняла зеленый сок, и Валентин жаловался мне на отвернувшегося жеребенка:
– Арбуз не ест, представляете!..
– А дыню ест, и помидор ест, – встревал Гринька, радуясь, что сестра притихла.
Солнце стояло в отвес, разламывалось на тысячи нестерпимых лучей. Палило все небо сразу; каждая его частица, вися над полями, жгла и ослепляла сероватую и скучную, распахнутую до горизонта равнину.
– А у нас на Украине, – мечтательно сказала Оля, – сады!.. В садах вишни, яблоки!
– И ты помнишь?
– Нет. Бабушки рассказывают. Говорят, мыкаем горе на чужбине.
– Твои бабки про чужбину распетюкивают, вроде наш хутор говно.
Оля не нашлась, что сказать, а Валька добавил:
– Желают, заразы, красоты, когда полхутора уничтожено.
Алексей отсунул Джульбарса, объяснил мне:
– Тут пять месяцев немцы стояли. Вот и тут, – показал он на птицеферму, – стояли. Гараж у них был… Слыхали же про Петра Андреича?
– Не приходилось, – сказал я.
Алексей удивленно вскинулся, заговорил, с ходу распаляясь:
– Он, правда, не партизан был, а не хужей партизана. Самому семьдесят лет, без ноги, а лично сам как Чапаев. Ясно?! – горячие, смоляные зрачки Алексея приметно расширялись. – С Петра Андреича хоть кровь по капле сцеди, не сдастся! Понятно? Хоть даже совсем замори его голодом!.. Кушали ж один отрубь на горячей воде… А после и оно кончилось.
Валька, слушавший Алексея, широченно вдруг улыбнулся, точно вспомнил веселое:
– Мать возьмет пустой ящик с-под отрубей, – сказал он, – перевернет кверху дном и тарабанит по дну: может, чего натрусится? Еще и ножиком скребет в щелках.
– Много наскребешь оттудова, – отмахнулся Алексей. – Одни стружки… Потом люди еще сладкий корень отыскали в степи. Роют и заваривают дома, Сперва сладость, а потом ноги пухнут. И все одно не сдавались.
– Были вот какие, – показала Оля, с силой вдавив двумя пальцами свои щеки.
– Верно, – подтвердил Алексей, – чисто покойники. Какая тетка так себе лежит. Какая вместе с дитем, с таким, как Наташка. Как поналупцует, как понаддаст, чтоб не просилось супа…
Тихий, полузагнанный Гринька, который держал на руках сестру, раздул свои и без того широченные ноздри, решительно отрезал:
– Я не просил!
Алексей осторожно, даже нежно отодвинул Гриньку и сказал мне:
– Пошли, одно дело вам покажем. Тут бригада была.
За поворотом ложбины, в которой голубел ставок, ребята остановились.
Под разросшимся бурьяном виднелись фундаменты обгорелых, обрушенных хат. Среди закопченного саманного лома поблескивали осколки оконного стекла, битые блюдца с тонкими розовыми и синими каемками, лежал затоптанный в землю старый лоскут синей юбки. Здесь когда-то обитали люди, рождались их дети. Сейчас на месте былого жилья стояла тишь, и только где-то в травах, а может, в прекрасной вышине заливисто стрекотали степные пичуги.
Из высокой конопли возвышалась полуобрушенная каменная стена сарая, и на ней красным суриком была выведена надпись:
«Смерть хвошистским акупантам».
Надпись была злобно замазана полосой машинного мазута, но мазут выцвел от зноя, от южного ветра, и красные буквы четко выделялись на горячей стене.
– Петро Андреич писал, – сообщил Алексей.
– Здесь и погиб, – пояснила Оля.
– Зато написал! – высказались Валька и Алексей, которые, видно, не раз уже вдвоем обсуждали это.
Валька сорвал колос овсюга, обкусил, сплюнул, кивком показал на поле перед собой:
– Этот клин после освобождения мы первым поднимали.
– И ты поднимал? – спросил я.
Должно быть, Алексею послышалась в моих словах насмешка. Он отрезал:
– Валька с ребятами зерно в сеялку носил. Со станции…
– Ясно, были и хиляки, – заметил Валька, – идет и вдруг упадет.
– Разляжется, – поморщился Алексей, – а мать подскочит – и давай выпрягать с плуга корову, чтоб доить. Сколько его, молока, надоишь после борозды? Через силу полкружки. Ну, и начинается: «Чи я слезьми долью, чтоб дитё напоить?»… А другая про мужика взгадается: «Нас в ту войну восьмеро, мол, без отца осталось, а теперь в эту – моих четыре…»
Оля виновато сказала:
– А я совсем не ходила на станцию за зерном, меня дома оставляли. Болела я.
Она чувствовала себя дезертиром и, не поднимая глаз, срывала мелкие ромашки, связывала в букетик.
Мы повернули назад. Из-за хаты вышла вдруг Валькина кобыла, поглядела и, качая жидкой старческой гривой и большой головой, двинулась навстречу хозяину.
– Параз-зитка! – засиял Валентин. – Найдет хоть за сто километров. Анечка! Ольга, дай ромашки! На что они тебе?
Валька с гордостью оглаживал белесую рябоватую морду лошади, подвязывал к недоуздку букетик ромашек возле заросшего шерстью отвисшего уха. Алексей осведомился:
– Сегодня тоже зерна ей попало? – И пояснил мне: – Поправляем по малости тягло.
Он боком, как петух, стрельнул глазом вверх на нестерпимое солнце и заторопился:
– Хлопцы! Час уже купаем, поехали!
На быков все кричали басом, даже тоненькая Оля. Наверное, быки так лучше понимали. В подводу опять ткнули толстую Наташу и Джульбарса. Валентин вместе со своим живым «рационом» для цыплят взгромоздился на лошадь, и, когда она, как бы гремя старыми костями, вдруг довольно лихо побежала, локти мальца начали взлетать вместе с рубашкой, вздувшейся парусом.








