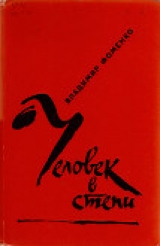
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
У костерка
Хорош отдых в одиночку, еще лучше с напарником, но особо интересно ехать компанией.
Все здесь азартно с самого начала. И дискуссии: куда «правиться», и подбор старожилов, знающих места, и беготня за дробью, порохом, и волнения: пойдет ли из МТС трехтонка?
Но вот все утрясено. Субботнее послерабочее предвечернее время. Товарищи грузятся в кузов машины – осторожно, будто это хрусталь, передают через борт ружья, не глядя, швыряют сумки. Набирается в кузов человек пятнадцать. На всех пятнадцати лицах – озабоченность. Слышатся слова остающихся:
– Ни пера ни пуха.
По примете, как известно, нельзя благодарить, иначе поездка впустую. Полагается ответить: «Иди на фиг». Приметам, конечно, не верят, поэтому «на фиг» не посылают, но на всякий случай не благодарят…
– Сели? – кричит из кабины шофер и, дав сигнал, трогает. Все на ходу начинают закуривать, просыпая на толчках табак. Оставшиеся машут, наперерез машине выскакивают хуторские кобели. Поехали!..
Сегодня еще не начинать. Сегодня добраться бы до «исходных рубежей», а начинать завтра, с рассвета. За дребезжащими бортами мелькают километры расплывчатых предзакатных полей.
На месте уже в глубокой темноте. При свете фар отыскивается полянка. Вокруг вспыхнувшего огня с шумом располагается народ, в одну кучу вываливают харчи: вареную картошку, сало, яблоки, селедку – все вместе. Из общей чарки – обычно алюминиевой крышки, свинченной с фляги, бережно, каждому строго поровну, по кругу, наливается граммов по сто; и тут-то и начинается главное. Побрехачки!..
– Знаете из Крутоярской МТС комбайнера Васюкова, что прошлый год убил на займище волка? – закусывая раздавленным в дороге помидором, начинает какой-нибудь пожилой. – Знаете. Охотник заядлый, мужик свой. Так у него теща… До того ехидная, принципиальная, что гроб. Про охоту не может и слышать. Услышит – вся подберется, сощурится, ноздри свои вот так вот, смотрите, сделает – и давай крыть! Принесет этот Васюков зайца. Час, как убил, а она доказывает: «Заяц тухлый». Или что он на кота похож. Говорит: «Не позволю им пачкать посуду». Человек начинает под выходной день набивать патроны, а она уж тут как есть, уже его жинку, свою дочку, накручивает. И что у всех людей, как у людей, мужья завтра дома, а твой черт-те куда правится, и что он не доведет тебя до добра, и что хату дробью взорвет! Ну, человек страдал-страдал и придумал…
Конец рассказа о том, что именно придумал Васюков, чтобы теща полюбила охоту, покрывается таким хохотом-залпом, что налетевшая из темноты сова, как ударенная, испуганно шарахается в сторону, виражируя над головами.
Ох, и приятно на холодном ночном воздухе, когда веет в лицо и на руки тепло костерка, поговорить в мужской компании!..
Лежит в кружке собравшихся, рассказывает очередной «случай», скажем, Петро Борисович Гридякин – председатель степного колхоза-миллионера «Красная заря». Еще сегодня утром давал он приказы членам правления, звонил но телефону в районный центр и в область, посылал телеграммы, подписывал ответственные бумаги, и на выбритом сухом его лице было деловое спокойствие, даже жесткость.
А сейчас лицо расплывается, глаза мечтательные, как у мальчишки; в них, в освещенных костром зрачках, довольство и одновременно опасение: поверят ли? Не перебьют ли криком: «Э-э-э, Петро Борисович, брешешь! С одного выстрела девять перепелок ты не брал…»
Хоть и есть положение: «Не любо – не слушай» – но уж очень критические в послевойну люди. Их не убедить Петру Борисовичу тем, что проса у него лучшие в районе, что с этих просов «перепелки взлетели в одну линию, как раз, клянусь богом, все под выстрел…». Не поможет!
А какими терминами запасается здесь неопытный, когда заговорят опытные, заслуженные товарищи! Академичны их рассказы об охотничьих делах, согласно которым молодая птица не просто «начинает летать», а «поднимается на крыло», где сосед не «убил двух уток», а «взял пару утчонок», где осенняя жирная дичь, оказывается, «требует» крупной дроби, где охотничья сука называется сука, а хорошо натасканная, то есть обученная, сука называется «вежливой», опытной заяц – «образованным».
Так и говорится:
– Иду, а он выскакивает и паашел зигзагом! Вижу – с высшим образованием… Я его с первого ствола! Он – вбок! А тут второй!..
Сгрудившись, слушает народ, лежа кто на боку, кто на животе, подложив под живот соломы из стога, чтоб не тянуло от земли осенней сыростью. Костер то стреляет и светло вспыхивает, освещая довольные лица, расплывшиеся в улыбке губы, то опять зачадит, и тогда лезет дым в глаза, в нос, заставляет людей отсовываться дальше. А в темноте низко, стремительно проносятся стороной утки. Невольно с напряжением всматриваешься в темень, хотя ничего, конечно, не видишь; летят небось на рисовые поля, на каналы и водоемы.
Черно звездастое небо. От налетающих стай отчетливо посвистывает в высоте воздух; и от этого сжимается в ребяческом ожидании, екает сердце. Завтра… Скорей бы уж оно!
Вниз по Дону
Вода поднимается, хлюпает под кормой неподвижного парохода и снова оседает, качая полосатые арбузные корки, окруженные стаями рыбешек.
На пароходных сходнях грохот. Половина ростовского базара – хуторянки, привозившие раков, малосольную селедку, укроп, – давят друг друга коромыслами, порожними ведрами, с боем берут посадку, хотя через десять минут все здесь будет спокойно и тихо, заходи себе министром. Но уж так нетерпеливы южане!
Если ты уже влез, можешь оглядеться. Рядом несколько мужчин, так же как ты, опоясанных патронташами. Под скамейкой – твоя собака. Она опытная и поджимает лапы, чтоб их не отдавили.
А внизу, на сходнях, мелькает еще собачья морда. Она возвышается над кепками и косынками толпы, какой-то небритый человек прет перед собой эту собаку, оберегая от давки. За его спиной рюкзак, над плечом ружейные стволы в чехле. Свой брат!
– Сюда! – кричим мы, и он, оживляясь, продирается к нашей скамейке. Видно, человек прямо со смены: руки и густо щетинистые скулы – в машинном масле, под стеганкой синеет спецовка.
– Фу-у-ф, – вздыхает он, опуская собаку. – Едва не отстал. Чи будет птичка?
– Должна бы, – говорим мы, всматриваясь в лазоревое, никакой охоты не предвещающее небо, и объясняем – Она ж, проклятая, иногда и по тихой погоде бывает…
Пароход, как площадь перед клубом, шевелится народом. От суетящихся теток пахнет рыбой, рассолом, пыльным базарным солнцем, от воды – лугами. Отираем лбы, знакомимся. Фамилия небритого – Ржаненко, он слесарь фабрики имени Микояна. Остальные – с Сельмаша, с Лензавода, а один – рентгенолог. Ему под шестьдесят, он плотненький, завидно тугой, весь крапчатый от веснушек.
Должно быть, он так насиделся за неделю в своем завешенном шторами, темном кабинете, что сейчас опьянел от сияющего простора.
– Товарищи! – радуется он. – Еще один наш.
Внизу, возле свободных уже сходен, стоит литой, белокурый, похожий на молодого Илью Муромца мужчина со щенком спаниеля у ноги, с ружьем в руке. Он по-охотничьи в гимнастерке, в старенькой кожанке на одно плечо, но его провожающие ослепляют солидными легчайшими костюмами – по-летнему просторными, светлыми.
– Сюда, алё! – машет ему рентгенолог.
Взвывает гудок, но белокурый богатырь шагает по сходням размеренно, ничуть не торопясь. Пар ударяет под колесами о воду, лопасти шлепают, пароход боком выруливает на форватер.
– Иван Дмитри-и-ич! – вопят белокурому с пристани. – Отличной, снайперской вам! – они наперебой показывают жестами стрельбу, делают вид, что целятся.
Иван Дмитрич отвечает провожающим плавным движением приподнятой руки и шагает к нам. В твердом голосе его звучность и спокойствие. Оказывается, он бывал уже пару-тройку раз в низовьях на своем, ведомственном катере. Сегодня там что-то стряслось с цилиндрами, но он, как видно по его широкой белозубой улыбке, даже рад проехаться на общей палубе, запросто покалякать с народом. О своей явно не маленькой должности Иван Дмитрич простодушно «заминает», раскрывает для всей компании коробку «Казбека».
Пароход уже развернулся, пошел, и сразу побежали от колес и до берегов живые буруны. Впереди мчит в воздухе поезд по тому самому мосту, по которому весь Советский Союз ездит в Сочи, кладем трубу, чтоб не зацепиться, проходим и теперь уж, считай, поехали!
Тетки разом все начинают ломать хлеб, расчинять на листе капусты селедку; держа за хвост вяленого железного чебака, лупить им по палубе. «Разве ж перекусишь, оглянешься на том скаженном базаре?.. А тут, по свободе, пожалуйста!» Хоть с правой руки дымят еще шиферные заводы станицы Гниловской, а впереди вот уже она – чистая вода, вот и чайка вспискивает над головой, и вздыхается, будто скинул с шеи бревно.
– Э-эх, – кивает рентгенолог на дальний хутор. – Вот у нас там прошлый год получилась история!..
Все женщины, что обедали вокруг, поворачивают головы. Они привыкли по дороге домой получать культурную зарядку – слушать от проезжих охотников «истории», но рентгенолог, хоть и не игнорируя их, обращается все же к основному ценителю и слушателю – к нам, мужчинам.
– Пошли мы с одним моим пациентом, – заводит он, – по лисице.
– Извиняюсь, – деликатно перебивает его щербатая на передний зуб тетка с ворохом рачьих панцирей и дынных корок в газетке. – Мне бы вот выкинуть…
Она через его голову переносит за борт газетку, швыряет и, желая слушать, игриво прикрывая пальцем щербатый зуб, садится на место. Рассказчик не обижается: пароход – это не гостиница люкс. Жизнь тут как жизнь.
– Так вот, – говорит он. – Пошли мы по лисице и среди зимы, на сухом поле, на бугре, поймали сома! Можете спросить моего пациента, знаете его небось. Директор Ростовского гортопа.
– Это какой? Айвазян? – спрашивает Иван Дмитрии сочным басом.
– Он, – нисколько не смутясь, подтверждает рентгенолог. – И ведь под самым хутором поймали. Во-он у того элеватора. Мы идем…
Но Иван Дмитрич не удовлетворен.
– Все-таки позвольте, – твердо говорит он. – Я Айвазяна хорошо знаю. Он никогда не охотился.
– Как же не охотился?
– Так. Не охотился, и все. Знаю я его зама, его парторга, его самого.
– Фу, ей-богу! – вскипает небритый Ржаненко. – Да человек его к примеру привел.
– Если к примеру, – пожимает Иван Дмитрич плечом, – могли б кого другого взять. А Айвазян в номенклатуре области. Нехорошо…
– Ладно уж, – благодушно отмахивается рентгенолог. – Я не об Айвазяне. Грец с ним! Я о соме. Получилось следующим образом. Только сошли с дороги, слышим – кто-то вроде рычит под снегом…
– Это в каком году случилось? – спрашивает Иван Дмитрич.
– В прошлом.
– В прошлом не было снега.
– Слушайте, – просительно берет его за колено Ржаненко, – нехай докончит человек, а тогда вы. Вам-то что за разница – был снег или не был? Был!
– Правильно, был! – подтверждает рентгенолог, радуясь и ничуть не теряя запала. Его крапчатые, потные в зное губы вкусно чмокают, будто прихлебывают на солнце холодное пиво, в раздувшихся круглых ноздрях вдохновение. – Мы, значит, слышим: рычит в снегу на бугре. Или как бы всплескивается. Мы – к бугру. Тут еще какой-то колхозник санями ехал, слез и тоже с нами. Начинаем окружать. По-пластунски. Только я слышу – у меня под самым животом что-то тихо-тихо ползет и вроде бы уползает…
– Сом?
– А кто же? Троллейбус, что ли? Да вы слушайте дальше!
Но Иван Дмитрич встает и, отойдя в сторону, смотрит на бегущую воду. Видно, ему, этому широкоплечему, белокудрявому человеку, очень хотелось бы послушать. Наверняка лет десять тому назад, в студенческие или в первые свои трудовые годы, он и слушал бы, и смеялся, и сам бы, стараясь как можно лучше, выкладывал бы свое, что есть про запас у каждого охотника. Но сейчас он так же, как Айвазян, с положением. Должность, она обязывает… И хоть и думалось пообщаться сегодня с народом, – это руководящему человеку для работы не лишнее, – но нельзя же, чтоб тебя по плечу хлопали!.. Поэтому, наверно, Иван Дмитрич и встал со скамьи.
Ржаненко с удовольствием садится на его место, улыбаясь, приваливается на чью-то котомку с патронами. Он неторопливо разувается, потом расстегивает навстречу ветерку спецовку, по всей форме начинает субботний отдых. Собака Ржаненко лежит под скамьей. Изредка, когда рядом упадет на палубу какой-нибудь обгрызенный селедочный хвост, она по-жульнически ловко цепляет языком и, снова скрывшись, бесшумно жует на мешке хозяина, «солонцует».
Шелковистый спаниельчик Ивана Дмитрича хочет завести с ней знакомство, тянется носом, однако недовольный глупыми разговорами Иван Дмитрич внушительно дергает сворку назад. Под его руками уже полчаса нет штата, даже нет механика катера, которому можно бы дать указание, а привычка руководить, а богатырская энергия требует от Ивана Дмитрича действий, и он направляет нос спаниельчика в сторону висящего на щите огнетушителя, приказывает:
– Смотри туда.
Щенок не хочет. В сдвинутых бровях Ивана Дмитрича появляется выражение: «У тебя-то уж я дурь вышибу!»– и он снова методическим движением руки поворачивает щенка. Вероятно, Ивану Дмитричу грустно: «Ведь вот и хотел же по-хорошему, а не понимают…» Рентгенолог громит между тем очередного зайца, а какой-то мозглявенький скрипучий дедок, возивший продавать арбузы, пытается доказать, что рыбальство – оно посерьезнее охоты.
– Не скажи! – горячится он. – Доброго сазана подсекнешь, а он как вынырнется мордой – прямо жеребец, аж вроде заржет! Прет на леске, как, понимаешь, на вожжах…
А вокруг в сентябрьском солнце мелькают и мелькают берега, мимо которых плыли когда-то казаки на Азов; а праправнуки их, сегодняшние колхозники нонизовских хуторов Колузаева, Рогожкина, Кагальника, едут сейчас на пароходе. На соседней скамейке чернявая, лет девятнадцати, девчина зажала в мелких белых зубах шпильки, распустила косы, продирает их гребнем, поглядывая из-под них, словно из-под ветвей; и самый молодой наш охотничек – лензаводской фрезеровщик – вроде бы между прочим крутится сбоку, форсирует знакомство. Кто ж ее знает, не сойдет ли чернявая в Елизаветовке? Так и проворонишь, не познакомишься…
Вот ведь уж пристань! Елизаветовские мальчишки, напрягая пупы, гребут нам наперерез, чтобы пройти баркасом в сантиметре от кипящего пароходного колеса, «качнуться на бурунчиках». Какой-то моряк на каюке бросил весла, стал в рост на корме, лихо расставив ноги, ожидая набегающего буруна. Он всматривается в пароходную публику и, увидев знакомых барышень, с размаху швыряет им в знак приветствия рачка. Зеленый рачок хлопает в воздухе хвостом, не долетев до борта, шлепается в воду. Мы пристаем, запросто ткнувшись носом в усыпанный соломой глинистый берег; лопасти с шумом молотят в обратную сторону, покрывают реку пеной; вздрагивает прижатая нашим бортом наплавная пристанешка; плывут чьи-то опрокинутые в воду помидоры, смешиваются с бликами солнца, с ныряющими мальчишками. Никакие трусы не обременяют этих мальчишек. Вокруг живота лишь веревочка пояском, под которую подсунут они штаны, когда вылезут на берег, а пока как есть бегут по ту сторону перил по нашему борту, с визгом сигают вниз.
– Ну и работка здесь со школьным возрастом, – щурится Иван Дмитрич. – Полюбуйтесь, в каком виде красуются!.. Тут кто председатель исполкома? Беляев, что ли?
– Он. Кто ж еще, как не он? – с охотой отвечают женщины. Им нравится, что с ними сидит человек, знающий всех начальников, и сам вон какой представительный, строгий. – Беляев, а как же! – повторяют они.
Пароход идет дальше. Женщины, разомлевшие на послеобеденном, закатном уже солнце, навешивают на губу подсолнечную шелуху, угощают семечками Ивана Дмитрича. Тот отказывается.
– А мы, знаете, лускаем, вкусно ведь, – душевно поясняют женщины. – Особо если семечко кабачное, да еще когда поджаришь…
Щербатая тетка, что выбрасывала через голову рентгенолога газету с мусором, чувствуя себя в хорошей компании, залепила воском свою щербину и, когда смеется, делает это осторожно, кокетливо придерживает языком зуб. К нашей скамье подходит капитан. У него белая фуражка с крабом речного флота и обкуренные усы.
– Меньше хоть сорите, бабы. Горюшко вы мое… – для порядка говорит он женщинам и останавливается, вытягивая через наши головы шею, чтоб послушать.
– Был мой знакомец охотником, – начинает рентгенолог уже какой-то двадцатый случай. – Фельдшеровал он в районной амбулатории и ходил в церковных старостах. Был убежденный, так сказать, идейный верующий, но стрелял, как артист! Вытряхни из мешка двух воробьев, полети они в противоположные стороны – обоих дробью догонит.
– А кто ж ему этих воробьев выпускал? – иронично спрашивает Иван Дмитрич.
– Да никто не выпускал, – начинает раздражаться рентгенолог. – Это в том смысле, что стрелял здорово. Понятно?
Иван Дмитрич хмурится. Он привык, чтоб в его вопросах собеседник искал глубину, стоя ровно и не сморгнув, глядел бы в глаза. И чтоб, конечно, находил ее, глубину. А этот, конопатый, сам, видите ли, спрашивает: понятно ли ему, Ивану Дмитричу?.. Но Иван Дмитрич сдерживается. Он все же твердо решил общаться с массой.
– Прямо-таки снайпер, а не фельдшер! – объясняет рентгенолог. – Возвращается тот фельдшер домой – у него тройка утей на поясе. Вдруг перестал приносить… Как отрезало. Ни штучки… И, главное, не горюет. Для виду побурчит, и точка. Стала его жинка наводить справки у людей, и что вы думаете?..
Встречный белоснежный, с перламутровым отливом красавец теплоход – не чета нашему! – проходит мимо в сторону волго-донских шлюзов. С трех его палуб зычно гремит радио, заглушает на миг историю о чудных делах фельдшера.
– Оказывается, – перекрикивает рентгенолог, – завел он, этот святой, милаху. Выйдет с вечера во всей стрелковой амуниции, с крякушами в кошелочке и, вместо того чтоб в чакане, как сукиному сыну, мокнуть да всю ночь кормить комара, – к ней. Сердечное, так сказать, влечение. Бывает…
– Ясно, бывает! – оживляется щербатая тетка, присвистывая восковым отлепившимся зубом. – Этим кобелям-охотникам, а особо рыбакам, им палец не клади!
– И не клади! – подтверждает рентгенолог. – Дурни они, что ли? Фельдшер-то наш выйдет утром, пообмажет сапоги свежей грязичкой возле корыта, где молодуха поит кабана, и не подкопаешься. А выдали собственные его крякуши. Они же у справного охотника горластые. Орут на зорьках из молодухиного погреба, вроде на море в валовой перелет. И как же интересно фельдшерова супруга мужа разоблачила…
– Тихо ты! – обрывает щербатая подошедшего к нам за спичкой матроса. – Дослушать не дадут.
– Э-э-э, – пинают ее под бока соседки, – опыта занимаешь?
– То-то же и то! – раздраженно сплевывает дедок, что рассказывал, как подсекать сазана. Он тычет пальцем в щербатую: – Она ж, сатана, дочка мне. Муж у нее рыбалка. Усердный, тихонький, прямо забитый, бедолага. Комаря раздавить – и то у него нету. А она, гладкая кобыла, ревнуется. Ни с чего спепеляет человека. Я уж его, зятя своего, придерживаю кой-как, чтоб не сбежал. Вот гляньте, – дергает он из корзины запечатанную красным сургучом полбутылку, – сам бы выпил, а то ему, зятю, везу. И все из-за нее, доченьки сатанячей!..
Капитан и все мы семейно обсуждаем это дело, советуем, рентгенолог тоже советует и сразу же с завидной ловкостью опять перескакивает на свое:
– Фельдшерова жинка взяла, значит, свои рейтузы, разорвала на половины, посворачивала трубочками, запихнула в мужнино ружье – в один ствол, в другой, аккуратненько, чтоб розовых концов не видно, и очередным разом ждет фельдшера…
– Ну, я моему дьяволу тожеть подстрою!.. – обещает щербатая под общее оживление, а рентгенолог, довольный эффектом, представляет в лицах, что произошло дальше:
– Фельдшер ничего не подозревает, приходит. Сапоги в земле, в воде… Покрестился, конечно.
«Стрелял?» – интересуется супруга.
«Стрелял, – отвечает. – С правого, с божьей помощью, как дал по селезню, он кубарем: подраночек. Я его левым! И все одно скрылся».
«А с какого ж ты ружья стрелял? С этого?»
«А с какого ж? Ясно, с этого!»
«Почисть его, родненький, – просит супруга, – люблю, – объясняет, – порядок», – а сама, вроде между делом, берется за качалку, как раз пышки катала. Фельдшер ка-ак ширанул шомполом в ствол, в те предметы дамского туалета!..
Гогот охотников, капитана, теток взлетает ввысь.
– Чего ж тут смешного? – недоуменно оглядывает всех Иван Дмитрии. – Судить бы вашего фельдшера, и все. Называется «моральный облик»… А жена? Не могла обратиться в местком или к завамбулаторией?
– Да бросьте, – сминают Ивана Дмитрича веселые, активные голоса. – Что ж он, этот зав, соли насыпет?.. Жинка и сама управится, раз уж каталка в руках. Как она ему: «Почисть, – говорит, – родненький, порядочек, мол, люблю!» Го-го-го…
Смех катится над Доном, рулевой оборачивается из своей застекленной рубки, народ с нижней палубы завистливо поднимает головы.
Безучастны ко всему вокруг лишь паренек-фрезеровщик и чернявая темнокосая девчина. Она, как в гнезде, сидит в своих порожних, вставленных одна в другую, круглых корзинах, по-донскому «сапетках». Таловые прутья сапеток в присохшей рыбьей чешуе, слюдяная чешуя поблескивает и на крепких коричневых ногах девчины. Плотно зажав коленями юбку, она удивленно и растерянно, будто увидав чудо, смотрит исподлобья на нашего парня, и кто знает – может, она, эта смущенная кагальницкая русалка, и есть та единственная, что встретилась вдруг ему в жизни?.. Он опустил голову, говорит что-то, играя пальцами по блестящей кирзе своих новеньких подсумков.
– А ты, друг, – кричит ему Ржаненко, – тоже, видать, охотник. По другим делам!..
Ветерок, который и так едва позевывал, совсем утих к вечеру, как говорится, «убился». Впереди парохода вода не шелохнется, а с боков бегут от колес водяные плавные бугры через всю реку… Добежали до рыбачьей бригады, качнули первый баркас, второй – и все за ними качаются, как пробки. Одинокая цапля на отмели, ожидая волну, повернула длинноклювую голову. Взлетели бакланы.
Солнце скатилось к горизонту, вгрузло наполовину в багровые камыши. Стадо коров на луговом левом берегу стоит по брюхо в воде и, отбиваясь от комаров и мошек, собирается плыть на ночевку в правобережный хутор. А вон другое стадо плавом идет через реку, видны лишь выставленные над поверхностью рогатые головы. Старик рыбалка сидит среди Дона на баркасе, струнами натянуты лески.
– Геть, ч-черт! – вопит он, когда коровы наплывают на баркас, и сопящие головы сворачивают в сторону, на течение; дергается зацепленная коровьим копытом якорная бечева.
– Нет, – размягчаясь душой от мирной, ласковой картины, отечески говорит нам Иван Дмитрич, – нельзя все-таки, товарищи, так, как вы… Что за побаски про фельдшера, про его эту любовницу… Будто и безобидно, а ведь пропагандирует подрыв семьи. Со взгляда ничего, а на деле, – берет он за пуговицу рентгенолога, – если посмотреть в глубину…
Но рентгенологу смертельно не хочется смотреть в глубину. На его веснушчато-крапчатом лице появляется выражение будто у карася, которого тянут из воды. Рентгенолог освобождает свою пуговицу, говорит, что ему надо купить в пароходном ларьке спички. Находится дело и у Ржаненко, и у других охотников.
Жара спадает, все тетки на палубе начинают мазаться кислым молоком, чтоб размягчить загар, уберечь красоту.
Проходим Азов, теперь уж почти на носу море, и в ожидании скорой охоты начинается наша подготовка.
Ржаненко просматривает свои вещи. Хозяйство у него правильное: папиросы в железной коробке из-под зубного порошка, такая и в воду упадет – не промокнет, без курева не останешься. Лямки мешка широкие, умело обшитые суконкой – плеч не намнут; снизу мешок подбит брезентиком; но в мешке-то не находится вдруг патронов… Должно, закрутился, не положил человек, когда между фабрикой и пароходом заскочил в спешке домой на две минуты.
– Ну что ж, – говорит рентгенолог, – бери, брат, моих. Ничего, – и его рука, крапчатая, как цесаркино яйцо, отсыпает патроны в ржаненковский мешок.
Это надо понимать. Охотник поймет!
– На зорьку, – объясняет рентгенолог, – мне хватит. А потом все равно хотел у бакенщика Андрианыча каику взять, поехать по ракам.
– У какого Андрианыча? – нахмуривается Иван Дмитрич. – За поворотом который? Не пойдет дело… Это я имел в виду взять его кайку.
– Вот и я «в виду», – озадаченно улыбается рентгенолог, а Ржаненко, горячась, начинает объяснять Ивану Дмитричу, что спорить не приходится: кайка за тем, кто заявил первый. Как же тут даже и возражать можно? Не кругло получается… Подтверждает это и капитан, который оказывается тоже охотником, знает артельные порядки.
Иван Дмитрич смотрит на них, и на лице его искреннейшее сожаление к людям, которые не поняли доброго с ними обращения.
– Вот что, – берет он за рукав капитана, – давайте-ка отсюда быстренько к своим служебным обязанностям. Давайте, давайте!.. А ты, милок, – говорит он Ржаненко, – запорожскую сечь тут не устраивай. У нас пока что каждому по труду, по его положению.
– Виноват! – вспыхивает рентгенолог. – Рак и в вашу сетку может заползти, и в мою. Он положений не знает, и кайка в этом деле обоим нам нужна. Так что придется по-солдатски. Потянуть счастье.
Он берет две спички, с одной скусывает головку и протягивает обе. Иван Дмитрич недоуменно оглядывается, но наше кольцо так плотно, решительно, что он тянет. Его спичка оказывается «пустой», и здесь совсем уж кончается «демократизм» Ивана Дмитрича. Его кепка, запросто брошенная с другими на чей-то рюкзак, снова возвращается на голову, и сам он оскорбленно отходит от нас, допустивших неуместное панибратство.
А куда ни глянь – сочные гирловые поймы, наступающие на воду лозняки, камыши, кувшинки. Катер с красным вымпелком на мачте дымит на протоке; клеенчатозеленый чакан на берегах такой высоченный, густой, что воды в протоке не видно, и кажется, что идет катер прямо по лугу.
Сумерки ложатся быстро. На светлом стрежне Дона какая-то бабка в белом платочке, издалека не угадаешь, верно жена бакенщика Андрианыча, громадит на баркасе. На корме, на дощатой подставке, начищенные лампы и незавязанный сверху чувал с травой, что, должно быть, накосил на острове племяш Андрианыча, а бабка по дороге захватила. Она причаливает к бакену, вынимает из фонаря вчерашнюю лампу, засвечивает и ставит новую, отбрасывает веслом нацеплявшиеся на бакен плети водорослей. Вспыхивают лампочки и на нашем пароходе.
За поворотом белеется в темноте пост Андрианыча, и тут Иван Дмитрич подзывает капитана, требует, чтоб он высадил его у поста.
– Можете, – говорит он рентгенологу, – не шагать сюда с пристани. Кайку беру я. А вы в другой раз, возможно, научитесь уважению…
Он поворачивается к нам своею богатырской спиной, привычным движением вынимает какую-то маленькую, но плотную книжицу, в ладони показывает капитану, и тот, виновато глянув на рентгенолога, на нас: ничего, мол, не поделаешь, – останавливает пароход. Матрос спрыгивает в тяжелую лодку-завозню, чтобы взять Ивана Дмитрича, но тот не садится, раздраженно зовет своего спаниеля. Собаки нет.
– Сучка от сучки сбежала.
– Да то она подохла с такого хозяина…
– Сам же спичками канался с человеком, а теперь вот как! – вмешиваются в дело и тетки, орут в темноту берега: – Андрианыч! Кум! Не давай этому заразе кайку!
Людей на палубе начинают облепливать комары, пароход боком ползет на камыш, капитан поворачивается к Ивану Дмитричу:
– Вы ж соображайте, что происходит! Видите, куда сбиваемся?
Иван Дмитрич, не отвечая, бежит от скамьи к скамье. Щенка нет. Под бортом явственно трещит приминаемый камыш.
– Что я вам, наконец? – взвизгивает капитан. – Кукла какая? На мель прямо, повылазило вам? – И кричит помощнику: – Вперед до полного!
Через минуту Ржаненко спрашивает Ивана Дмитрича:
– Это, случаем, не ваша собачка в мой мешок забралась? – Он вытаскивает спаниеля, подходит ближе и советует: – Доедем до места, так вы там не высаживайтесь на берег. Глядите, помнет еще кто нечаянно. Переночуйте на пароходе, а зорькой в Ростов. Оно бы и сейчас поучить следовало, да настроение портить неохота: погода дюже хорошая.
В самом деле – погода!.. Воздух пахнет теплым разломленным огурцом, и два звездных неба – одно вверху, другое под нами, на воде, – смешиваются с огнями близкого Кагальника. Хлюпает за бортом волнишка, должно быть уже солоноватая, – ведь вот оно рядом, море… Где-то на берегу, беспокоя сердце охотника, хрипло крячет селезень – то ли свойский, то ли дикарь, подсевший к ночующим на волне домашним уткам. Палуба подрагивает от хода, и чернявая девчина, голову которой не отличишь уже от головы нашего лензаводского фрезеровщика, напевает, наверно, одному лишь ему:
Ты подуй, подуй,
Ветер ни-и-зо-овой…








