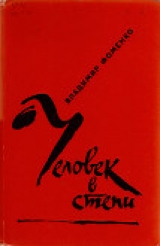
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Сергей Сергеич
Забавное дело – охотничья жилка! Может она много лет, не беспокоя, даже не обнаруживаясь, дремать в человеке и вдруг в благоприятный для нее момент проявиться.
Приехал в командировку «на село» инженер Сергей Сергеич Котище, консультировал в степном объединенном колхозе строительство электростанции и как-то согласился на уговоры двух трактористов, агронома и деда-воловника «сходить по уточке». В жизни не брал Сергей Сергеич ружья в руки, отправился просто за компанию.
Ночью грызет всю компанию августовская, злая как собака, мошка. Утром тоже грызет. Днем печет голову солнце, парит от стоячей перегретой воды, и Сергей Сергеич, растирая пот и мошкару на покрытой волдырями липкой шее, хлопает себя по ушам, по затылку, пытается чесать грязными руками между лопатками. Босые, незакаленные, по-городскому бледные ноги Сергея Сергеича изрезаны камышом и осокой, новые глаженые брюки, которые он вначале аккуратно подкатывал до колен, давно уже по самый пояс заляпаны нефтяно-черной болотной грязью.
…Но искусанный, исцарапанный Сергей Сергеич случайно убил уточку. Даже не уточку, а паршивенькую черную нырушку. И все! И уж он не просто инженер Тищенко, а охотник, то есть человек, заглядывающий теперь в магазин «Динамо», покупающий для своего только что приобретенного ружья нужные и ненужные барклаи, закрутки, выколотки, рекоперы.
Услышав в троллейбусе приглушенный разговор двух военных о стрельбе по казаркам на озере Гудило, он, в отличие от всех остальных пассажиров, уже имеет право повернуться к разговаривающим и законно спросить:
– А что, на Гудиле тянет казарка?
И ему, не зная ни его фамилии, ни кто он, как своему, ответят:
– Малость есть. Только сидеть надо не над водой, а на жнивье. Отрыть себе окопчик там, где они пасутся.
И хоть Тищенко, провоевавший всю войну, рывший всевозможные окопы, ни разу еще не отрывал окопчика под казарок, он, пожав плечом, сочувствующе вздохнет:
– Да вы что!.. Разве без окопчика возьмешь?
* * *
Уже пять суббот Сергей Сергеич совершенно добровольно уезжает из своей теплой квартиры – в ночь, в слякоть, в такую погоду, когда, как правильно говорится, хозяин собаку не выгонит за ворота. Тищенко поспешно берет ружье, заранее увязанный рюкзак с харчами и прочим и, остановись у дверей, робко дотрагивается до плеча жены, виновато говорит:
– На следующее воскресенье, Машенька, ей-богу, останусь дома.
Постепенно в семействе Тищенко расширяется охотничье хозяйство. Появилась банка с притертой стеклянной пробкой для пороха «Сокол», потом длинные сапоги, потом стеганка, и однажды Сергей Сергеич, будто вдруг вспомнив, сказал за обедом:
– А что, если мы, Машенька, заведем собачку?
– Но ведь ее, Сережа, на прогулки водить надо. С четвертого этажа…
– Это ерунда! Я сам буду.
Сергей Сергеич знал, что «сам» выводить собаку не будет, потому что он постоянно в командировках, а жена, видевшая, что он врет, деликатно, хотя и с тоской в глазах, промолчала, и это великодушие угнетало его, интеллигентного человека, по дороге на вечернее совещание. А ведь у него уже все было решено: даже кличка. Джим или Джек не годится. При чем тут иностранный Джек, если он будет жить у Тищенко, ходить на охоту под придонские хутора Бессергеновку, Никитовку, Ивановку!.. Лучше всего – Пропс. Оно, правда, напоминает «мопс», но пропс – крепежный материал для шахт, хорошее производственное слово.
Начались выборы породы будущего Пропса.
– Сеттер – это единственное, о чем всерьез можно говорить! – объяснял авторитетный собаковод, экономист Городецкий, показывая фотографии сеттеров на стойке по перепелу, на областных выставках, на походе у ноги хозяина.
И Тищенко всем загоревшимся сердцем мгновенно и прочно привязывается к сеттеру – преданному, меднорыжему, волнистому.
Много дней Тищенко рассказывал жене, что ей совсем не будет страшно одной – ведь в доме сеттер.
– Сеттер? – удивленно спросил встретившийся в трамвае, тоже очень авторитетный собаковод Кочанов. – Куда вам с этим телком? Заводите спаниеля! Собачка маленькая, портативная; посадил ее в рюкзак за спину – и куда угодно на велосипеде. Поедет кто-нибудь в Москву – попросите привезти щенка самолетом. Повозитесь, зато уж будете с собакой!
– Чепуха, – сказал на другой день Сергею Сергеичу слесарь домоуправления Захаров, известный на всю улицу собачник. – Единственная собака – курцхар. Ваш спаниель – не на что смотреть: кролик! А репяхов наберется – не вычешете. А курцхар гладкошерстный, гладкий.
– Но ведь утку подраните, она нырнет до дна, за камышину на дне зацепится, – выкладывает Сергей Сергеич Захарову добытые вчера сведения. – Эту ж утку-то только спаниель достанет.
– Вы что же, кроме утки ничего стрелять не будете? А курцхар и по утке ходит, и по любой птице – болотной, степной. Он вам даже зайца поднимет. Универсал! Дело хозяйское, но не поговори вот с вами – и влопались бы без курцхара…
– Хочешь курцхара? – презрительно отставил губу Иван Иванович Нечипоренко, представительный пожилой моряк, приятель еще покойного отца Сергея Сергеича. – Так заводи уж дворнягу!.. Будет дом стеречь, гавкать на пороге!.. А в поле ценится красота, культурная стоечка пойнтера.
– Иван Иванович, ведь курцхар работает и в ледяной воде, и даже в снегу.
– А тебе что – по тюленю ходить? Тебе, Сережа, по перепелу, по вальдшнепу нужно; чтоб пойнтерок тебе красиво нашел, изящно обернулся на тебя, чтоб он тебе позу зафиксировал! Это ж интеллигентная собака. Вот зайдем, глянь щенков у моей Кетки… На Кетку глянь – человеческие глаза! Огонь!
Тищенко от Ивана Ивановича вернулся поздно.
– Машенька, пойнтерок!..
Достав из-под пальто, он выложил на пол упитанного чернопегого сосуна. Тот сразу присел и сосредоточенно напружил спину.
– Ничего, я сам, – сказал Сергей Сергеич и побежал на кухню за тряпкой.
– Ты посмотри, Машенька, какой у Пропса щепец! А подвеса совсем нет, видишь?.. Ты понимаешь, Пропса пока выводить не нужно, даже нельзя, – говорил Сергей Сергеич, беспомощно накрывая лужу тряпкой. – Нужно только прогуливать его, ему моцион нужен, я сам водить буду. А приучать к порядкам до шести месяцев ни в коем случае: испортишь. Это ж порода!
Сосун тычется в руки, сопит, на его спине мягкие толстые складки, будто кожа сшита на рост или предназначалась не для него, а для другой, гораздо большей собаки. Половина головы и одно ухо черные, другая половина белая, даже розовая от проступающей сквозь шерстку чистой кожи. Две верхние губы, именуемые у специалистов брилями, солидно свисают книзу, и на каждой пучок в пять-шесть волосинок – усы. Глаза мутные, неосмысленные.
– Огонь! – говорит Сергей Сергеич. – Ему, Машенька, обязательно к каждой еде надо подмешивать костяную муку. Я достану, приготовь только из-под крупы мешочек…
– Ты ж их все под дробь забрал…
– Ну, сошьем. А вот из чего ему придумать подстилку? Если от этой дорожки, что над кроватью, отхватить? Вот так, а? Как раз квадрат получится – прилично, красиво. Резать, Машенька?
– Режь…
За обедом Сергей Сергеич бодро говорит:
– Приучать к разносолам не будем, без нежностей! Собака должна есть все. Налей ему борща, эта тарелка будет Пропса.
Тищенко сует в борщ палец:
– Не горячо, как ты думаешь, Машенька? Попробуй. Ешь, Пропс. Пропс, возьми! Взять!..
Сосун пятится.
– Собака любит строгость, – сообщает Тищенко и, взяв Пропса за голову, решительно сует носом в тарелку.
Щенок вырывается, тряся длинными, мокрыми от борща ушами, брызгая на стены.
– Ничего, – заискивающе говорит жене Тищенко и опять бежит за тряпкой. «Вырастет, – подбадривает он себя по дороге, – будет другом. На охоте ведь без пойнтера – как без рук. Да и дома, может, сдружится с Машенькой…»
Правда, Сергей Сергеич понимал, что если совсем честно смотреть истине в глаза, то радостей для Машеньки в этой дружбе не так много. Но он заглушал в себе голос совести, отчетливо представлял уже выросшего красавца Пропса на стойке по перепелу.
Ночь Сергей Сергеич просидел за спешными бумагами, решив утром поспать лишних полчаса, до половины восьмого. Ровно в четыре сосун начал скулить. Тищенко, глянув на спящую жену, шикнул, делая щенку страшные глаза.
– Нельзя, Пропс!
– Пропс, не надо, – сказала Маша, покорно вставая с кровати.
Но Пропс взлаивал, орал все громче и напряженней. Его хозяин, избегая Машиного взгляда, решительно натянул рубаху, поняв, что спать не придется.
Новый стрелок Сергей Сергеич Тищенко вступил на тернистую охотничью тропу!
С августа до мая
В любом сезоне уйма, как говорится в хуторах, «симпатии», и хотя в режущие морозы, равно и в суховейную жару, приходится трудновато, все равно с нежностью любишь каждый сезон, не поймешь – какой из них дороже.
Летом
В конце августа приехал ты на вечернюю зорю к берегу лимана. Вверху небо, впереди – водная гладь, пахнущая теплой сыростью, тиной, рыбой…
Солнце еще высоко. Неторопливо маскируешь в кустах велосипед, становишься в заросли, шалашом пригибаешь над головой сочные, в два человеческих роста камышины. Все готово. Пальцы сами ощупали шейку ружья, курки, и стоишь, не движешься.
Водяная живность, вспугнутая вначале, уже через несколько минут появляется отовсюду. Из осоки выходит цапля. Четко видишь ее влажный живой глаз. Цапля вытягивает и без того полуметровую шею, замирает и опасливо начинает вышагивать по воде, всякий раз поджимая к туловищу вынутую ногу. В зарослях, возле самого лица, закопошилась вертлявая птичка камышовка. Она глядит так близко, что если б, вытянув губы, дунуть – собьешь. Ты в резиновых сапогах стоишь выше колен в воде. В шаге от твоих сапог всплыла к поверхности стайка прозрачных мальков, сазан что-то склюнул возле чакана, пустил по воде круг.
Скоро начнется… Еще только чуть снизилось бы солнце. Уже начала «мотаться» утка, но все стороной. Одна, другая в голубом небе цепочка, и вдруг прямо из-за твоей спины садится на воду, высоко взбрасывает брызги селезень-свиязь. Первозданный, нетронутый, он плывет, сверкая отчетливыми светлыми зеркалами на крыльях, совершенно рядом смотрит круглым величественным глазом – и ты уже твердо понимаешь: не спустишь курок.
Осенью
Непроезжие, непролазные южные наши проселки. В осколках луж, насквозь промокший, маслянистый, до невозможности цепкий чернозем. Ноябрь; ложка воды – воз грязи.
Ты еще не на охоте, еще только гребешься туда, с потом вытаскиваешь неподъемные, чавкающие сапоги. Навстречу старик – со стороны тех озерков, куда ты правишься. Он в очках, в брезентовой куртке.
– Дедушка, – спрашиваешь его, – казарок не видал на озерках?
Он останавливается.
– Казарок? – переспрашивает он. – Там, гражданин, сколько живу, от рожденья столько не было. Сила! Вроде кто их с мешка трусит: летят и летят, с самой ночи орут, до утра не заснешь. И летят, черти, низко. Шапку с головы сбивают.
– Сбивают? – переспрашиваешь деда, чувствуя захлестывающее волнение…
– Сбивают, – кивает он. – Патронов-то много начинил?
– Тридцать четыре…
– Да ты что?! Да там две сотни враз выпалишь. Казарки – як навозу!
И уже не можешь стоять. Даешь закурить старику, и отдал бы целиком пачку за прекрасные его слова, и все кажется в этом забрызганном старике милым, удивительно приятным, даже его куртка и нисколько не примечательные очки.
Зимой
Январь!.. Жалуются колхозные сторожа, что повадился заяц в сады, обгладывает, проклятый, яблони!
И вот ты за хутором. Мороз лютый. В стороне от тракторной бригады, от птицефермы рисуется на снегу мелкий лисий нарыск и пропадает на укатанной грузовиками дороге. В стеганке, в стеганых штанах движешься на ветерок. Жалит этот ветерок, и чтоб согреться, гулко, как конь, бьешь накатанную льдистую дорогу, и входит в тебя вся открытая до горизонта, чистая и вверху и внизу равнина. Здорово так идти!
На гладком снегу – следы зайца. Два широких и длинных от заросших понизу плотным мехом задних ног, и перед ними точно крапки на снегу – от передних.
Дурак-дурак, а хитрый! Такое множество следов, будто топталось ночью целое стадо, а ведь один накрутил, чтоб сбить с толку. Залег сейчас где-нибудь на зяби в борозде, слился шкуркой с неровно заснеженной пахотой, повернулся чутким носом на ветер… И вот представляешь уже, как наткнешься, как поднимешь его, – и еще шире ступаешь, отмахивая на ходу рукой, звучно визжа сапогами по жесткому насту.
Весною
Заночуй в поле на далекой отшибке, где не громыхают трактора, где степные перекаты чередуются с обрывистыми балками в колючих терновниках и всяких репяхах, непролазных, плотно-сумеречных даже в солнце. Это излюбленные места куропаток.
Там и заночуй. Нагреби из прошлогодних бурьянов логово, натрамбуй потолще, так как почва с зимы еще не прогретая, ледяная; укройся шинелькой или теплым кожухом, только не проспи зорю. Близко к рассвету смутно проступают терны и чернеющие на тернах низкие сорочьи гнезда, совсем замирает ветер, и каждая ветка, тяжелая то ли от росы, то ли от ночного дождика, стоит не шевелясь. Тогда, задержав дыхание, ты услышишь перекличку самцов-куропачей. Удивительна эта перекличка самцов, отчетливо слышная меж степью и звездами. Она похожа скорей всего на кукареканье деревенских молодых петушков, неумелых, нелепых, заоравших вдруг впервые в жизни.
Замолкнет в балке выкрик, и снова где-то совсем рядом кричит уже другой, переполненный отвагой и любовью куропач; не спит, ревниво всматривается в мокрые рассветные терновники, где все дышит боем. Боя еще нет, но он вот-вот, в любой миг вспыхнет за прекрасную невесту!
* * *
Явись сюда через месяц-полтора, Отойди чуть дальше от балок, ляг в лесной полосе у дороги. Обязательно перед закатом… Машины к вечеру бегают реже, и раскаленная за день, толченая дорожная пыль мягко оседает на пухлых колеях. Тут и выходят куропатки на открытую изъезженную дорогу, на солнышко, чтоб копаться в теплой пылюке.
Не определишь: откуда вдруг возникло перед кустами, вплотную возле тебя это семейство? Она – невзрачненькая, серенькая, а он – с густой, буйно-яркой, почти красной коричневостью. Весь тугой, литой, от силы и гордости раздутый, наверняка тот самый, что средь мокрого тумана орал здесь в балке на рассвете.
А за ним и за нею в ласковой пыли бегут многочисленные (штук двадцать и больше) шустрые, величиной с маленькую картофелину цыплята – неизбежный результат любви.
Автомобильный стрелок
На подъезде к Ростову поздней ночью кончился у нас бензин. Сзади приближались фары, и мы с товарищем, выскочив из машины, став поперек шоссе, расставили руки. Автомобиль «газик-67» обминул нас, мелькнуло крупное, прикрытое перчаткой лицо сидящего с шофером хозяина, мелькнула в открытом кузове под приподнявшимся брезентом груда окровавленных серых шкурок, и «газик», крутнув вбок, задевая шинель товарища, рванулся вперед и ушел.
Хозяин был автомобильным стрелком, какие развелись в последнее время. Много выпускает государство автомобилей, и среди владельцев «персональных машин» появились далекие от спорта, близкие к бандитизму стрелки. Они стреляют ночью и, как правило, до открытия охоты, когда зверь непуганый, ручной. Шоферу выписывается путевка в сельский район, и большой хозяин едет браконьерствовать за город. Сидя толстым начальственным задом на подушке, покуривая, этот «спортсмен» оглядывает освещенную фарами полосу ночного озимого поля и, когда в полосе появляется ослепленный зверек, хозяин вынимает из губ папиросу, не приподнимаясь с подушки, целится. Выстрелив, не вылезает из кабинки. За него выскакивает шофер, поднимает зайца, убитого в десяти шагах от радиатора. Так набивается полмашины.
Супруга такого мясника, вместе с мужем угощая на другой день зайчатиной восхищенных гостей, щебечет:
– Мой Ваня, скажу без ложной скромности, чудесно стреляет. Ему ведь, при его работе, необходимо хоть изредка развлекаться.
В ту ночь на шоссе под Ростовом мы запомнили крупное, гладкое лицо автомобильного стрелка и убеждены: все же отыщем его!
Волчиха
Любой охотник, собираясь в степь, застегивает пояс с патронами. Патроны, плотно засунутые в кожаные гнезда, выложены длинной шеренгой. Два крайних, особенных патрона снаряжены усиленной порцией пороха и катаной картечью. Это для волков.
Но спроси товарища – приходится ему пользоваться этими двумя патронами? Нет, не приходится. Редкий случай – где-нибудь увидеть волка, уж не говоря – убить. А разговоров много: и тут появились, и там… Бывает, что точно видели и даже обложили возле брошенных с войны окопов. Съезжается множество людей, машин, сколько переведут бензина, времени, сколько намерзнутся – и впустую.
Происходит это потому, что волк – особенный зверь. Живет он бок о бок с человеком и, как ни один хищник, знает человека, умеет следить за ним… У волка приемы профессионального убийцы – не трогать соседей, резать только в далеких от своего логова селениях. Ходит он, стараясь не оставлять на снегу отпечатков, выбирая накатанные дороги. Издали отличает женщину от мужчины и мужчину с ружьем от безоружного; и там, где совсем не ожидаешь, где и автомашины проходят, и стучит по зяби трактор, вдруг нападет.
Ехали мы равниной конного завода. Обогнав нас, промчался «виллис» начальника завода, следом грузовичок из ветеринарного отдела, потом еще два – все в сторону приманычской бригады.
Оказалось, что ночью, под утро, косяк молодняка порвали волки. По отпечаткам лап на низком илистом берегу Маныча выяснилось: разбойничали волчиха и крупный, с овчарку, волчонок, которого мать, ворвавшись в косяк, обучала приемам. У одних жеребят кровенились отметины на ногах и лопатках – следы неумелых покусов волчонка, у других, у большинства, – глубокие, будто вывернутые изнутри, раны на груди и горле – работа волчихи.
Помню беду в совхозе «Искра». Видать, подкараулив, когда чабан отлучился, волки разгребли крышу овчарни; отара бросилась в другой конец помещения, вышибла припертые чурбаком двери. Крутила метель, следы ошалелых овечек затерялись сразу же, и только утром рабочие нашли несколько забившихся в балку, непонятно как уцелевших мериносов. От балки до совхоза на всем пути виднелись заснеженные бугры – тушки погубленных овец. Волки гнали мериносов – резали и бросали, рвали все новых, может, только двух-трех унесли с собой. Сколько было волков? Возможно, стая, а возможно – всего лишь один. Вчера запорол он корову, завтра зарежет свиноматку или хряка, заодно перекалечив половину свинарника…
Оплачивает государство шкуру застреленного волка, вдобавок щедро премирует охотника. Сверх того колхоз от себя выделяет охотнику овечку, а если убита щенная сука, то даже телку; и каждый охотник, особенно сельский, мечтает «взять» волка. Но ох, как оно трудно! Это ж не заяц и даже не лисица. Сколько лисица ни опаслива, а вот будь ты в санях – подпустит на выстрел. У волка таких слабинок нет. Ни одной! Он живет, ежечасно вредит хозяйству, несмотря на все облавы, засады, травлю собаками, обкладывание смоченными в керосине флажками.
Существует борьба с волками далее с самолета. Об этом и расскажу.
* * *
Ты на аэродроме. Еще месяц назад тобою сданы испытания: стрельба с воздуха по ящикам на земле. Но вылет на истребление все оттягивался до этого дня. Сперва нужны были сведения о волках. Достоверные, с актами. Потом среди нашей южной зимы – то дождливо-слякотной, то сухой, но бесснежной – ждали прогнозов на устойчивый снег (на белом легче взять волка). Потом нужно было, чтоб прогнозы действительно оправдались.
Наконец – полный порядок, даже выписана путевка пилоту, даже получена свежая метеосводка: никаких обледенений в воздухе, погода летная.
С двухместного самолета «У-2» снимают колеса, ставят лыжи. Это без тебя. Ты в комнате летного состава «занимаешься одеванием». Одевание, когда надо лететь в лютый мороз в открытой кабине, – не простое дело. Бумажное, потом теплое белье, нитяные носки, сверху них – шерстяные, в которые вбираешь собственные свои, домашние брюки, и уже в таком виде погружаешься в брюки аэродромные. Эти аэродромные снаружи новехонького синего сукна, внутри цигейковые. Влезаешь в них до самых подмышек, застегиваешь на плечах помочи. Следующая операция – унты. С пряжками и отворотами, они стоят перед тобой, зияя двумя меховыми норами. Суешь в них ноги, встаешь, тяжело топаешь по полу.
Затем следует свитер, мягонькая замшево-меховая телогрейка, и сверх всего плотный, тоже меховой, летный бушлат. В карманах бушлата очки и особые перчатки – крупные, мягкие, теплые, которые надеваешь уже в самолете. Но и сейчас оделся, кажется, достаточно: стоишь, растопырив руки, и отвечаешь на остроты летчиков. Летчики здесь же собираются для полета в Москву, Тбилиси, Минводы и, подмигивая, советуют:
– Волков-то не всех стреляй, пожалей парочку-другую.
– Не просите, – отмахиваешься ты, натягиваешь вязаный подшлемник, на подшлемник – кожаный шлем и выходишь на улицу.
Утро солнечное, резко ветреное, мороз к двадцати. Шагать к самолету надо едва-едва, чтоб не вспотеть.
Наша машина, стоящая в ряду других на приколе, ревет и содрогается. Пилот прогревает мотор – сбрасывает и прибавляет обороты. Отхожу в сторону закурить, тянусь за папироской к огромному, как сумка, карману, расположенному на колене, но грохот враз обрывается: прогретый мотор остановлен, и пилот кричит, кивая на место позади себя:
– Можно!
Становлюсь на шаткое, дутое, звучное под ногами крыло и лезу. Ноги в неуклюжих унтах с трудом, одну за другой, переношу через борт руками. Сел. Кабина – узенький овальный ящик, кругом открытый на уровне плеч. Впереди – пилот. Впереди пилота – винт. Какой-то паренек внизу на земле берется крюком за лопасть винта и, приготовившись дергать, кричит:
– Контакт!
– Есть контакт. От винта! – бросает летчик.
Паренек отскакивает, и лопасть уже не видна – только прозрачный напряженный круг. Перекличка летчика с пареньком – последние слова, которые ты слышал. Больше до самой посадки ничего не услышишь из-за моторного гула.
Самолет начинает выруливать на стартовую дорожку. Паренек, держась за крыло, бежит сбоку, жмурясь от бьющей из-под винта снежной замети; и легкие, неверные, натянутые на каркас крылья качаются от порывов ветра.
Стартовая дорожка, взлет – и уже под нами шоссе, заводские трубы, домишки. По улице идет трамвай, и не верится, что через час-полтора могут быть волки…
Снег больно слепит на морозном солнце, сияет даже самый воздух – синий, излишне резкий. Достаю из кармана очки, поверх шлема натягиваю на затылок резину, опускаю на глаза дымчатые стекла. Все в летном снаряжении приспособлено, чтоб экономить тепло: железная оправа стекол не соприкасается с кожей лица, обшита по краям замшей. Кабину защищает слюдяной желтоватый козырек, поставленный углом вперед, и ветер расходится от него на две половины, каждая идет по-над бортом. Сунь руку за борт – как удар палкой удар ветра.
На руках перчатки с крагами поверх рукавов бушлата, чтоб не поддуло. Но уж совсем не жарко. Сквозь какие щелки пробирается этот холод? На земле ты был неповоротливым, громоздким, а сейчас ничто уж не жмет, и ты съежился, сберегаешь тепло, с пацанячьим интересом смотришь вниз.
Когда идешь пешком, все внизу кажется иным. Лесопосадки – это деревья, вытянутые в нескончаемый ряд, и неизвестно, где они поворачивают. А с воздуха – это небольшие квадратики, расчертившие степь… К шахте подводят железнодорожную ветку; вот начинается насыпь, а вот с высоты уже и кончается, занесенная сухим, блестящим на стуже снегом.
Хорошо в очках: глазам, векам теплее, и сквозь дымчатое стекло не мучит ни снег, ни прямой луч солнца. А видно все. Галка, вспугнутая самолетом, снялась с телеграфного провода, полетела, и под нею наискосок ее же четкая тень скользит по равнине.
Мы уже больше часа в воздухе, уже находимся там, где, по сведениям, волки. Но волков не видно. Снежный наст, как слюда, отсвечивает на откосах бугровины. Грузовик с углем, пароконные розвальни (кажется, застывшие на дороге) проносятся в стороне под нами – и все. Степь пуста. Небо необъятное, ледяное. Сквозь облако, освещая его, проходит холодное солнце, скользит зимним, негреющим лучом по вздрагивающей плоскости крыла.
Ставлю ружье между коленями, ближе кладу патронташ, определяю место возле ноги, куда в последнюю секунду, когда понадобится стрелять, брошу перчатки. Оглядываю каждую поляну, лужок – и пусто. Сведения, правда, как говорят, были точные: только за последнюю неделю в четырех местах видели волков. Но это ничего не значит. Бывает, что начинает поступать сигнал за сигналом, а выясняется – волков на весь огромный район семь штук. Ходят двумя шайками: в одной три, в другой четыре – и терроризируют все колхозы. Может, и тут одна малая шайка и откочевала за реку или в камыши, мимо которых мы пролетели. А если и здесь, то не так просто заметить. Ляжет волк среди поля на какое-нибудь темное пятно, сольется с ним своей серой шкурой – и не заметишь. Ни за что не поднимется, пока не увидят его с воздуха и не пойдут прямо на него. Или заскочит в овpaг, станет и прижмется боком именно к затененному откосу.
Каждая минута полета стоит больших денег, эти минуты идут и идут, а на снегу даже нарыска нет. Кажется, что летчик злится. Его затылок, недвижно торчащий впереди, полон недоверия.
…Волк появляется на островке сухостойного бурьяна. Он в рост стоит среди высоких стеблей и смотрит на самолет…
Мы проносимся, чтоб зайти слева, совсем спускаемся, и он выскакивает из бурьянов, прыжками идет через длинный перекат. Отбрасываю боковину борта и, уже не до плеч, а по пояс открытый, кидаю под ноги перчатки, стволами вперед переношу за борт ружье, торопясь вздергиваю на лоб дымчатые стекла. Хлынул резкий свет, словно заново ворвались в глаза каждая вмерзшая в белый наст бурьянина и волк, уходящий широкими прыжками. Самолет уже почти висит над ним, летчик выключает мотор, делается тихо, только воздух свистит, обжигая голые на металле пальцы.
Стрелять вперед, поверх крыла, нельзя: картечинами может перебить оттяжку. Бить надо, когда обгонишь зверя и он на миг покажется внизу, в углу между крылом и задней частью самолета.
Нагоняем. Набегающее крыло уже заслонило от меня серый бок, и сразу же вот он, совсем под нами, скачущий с наморщенной над клыками губой, с поднявшейся на загорбке шерстью. Стреляю. Картечью взброшен под скачущими лапами наст, прыгает загорбок, и все промелькнуло. Куда там и подумать о втором выстреле. Оборачиваюсь: далеко позади волк бежит по-прежнему. Промах. Самолет идет еще прямо. Не простое дело – развернуться на новый заход.
Стараясь не суетиться, перезаряжаю ружье, надеваю перчатки, бью руку об руку. Они занемели. Не пойму – слушаются ли? Бывало, что на самолете за несколько секунд стрелки отмораживали пальцы. Изо всех сил бью руку об руку. Главное, чтоб сейчас, через полминуты, опять не промахнуться. Ведь волк, как говорят, в последний миг может выкинуть что угодно: под прямым углом свернуть к полю или разом присесть. Да и стрельба с самолета особенная: нельзя, как это обычно, выносить стволы вперед, упреждая бегущего зверя, потому что быстрота самолета больше, чем его быстрота. Нужно, вопреки охотничьей привычке, целить в пустой снег позади зверя. То есть все тут наоборот…
Мы уже развернулись, опять пошли вдогон. Пытаюсь умерить толчки сердца. Летчик, словно укоряя меня в промахе, прекрасно ведет машину, подает мне цель с левого бока. Видать, с военным опытом человек, с выдержкой. Снова выключен мотор, снова, хоть следишь только за волком, а каким-то вторым зрением видишь лопасти замедленного винта, и вот метнувшаяся под крылом серая широкая спина – и опять промах!..
Самолет набирает высоту, голова пилота поворачивается ко мне. Она на расстоянии вытянутой руки, но разве разобрать в реве мотора хоть один звук! Понимаю, что пилот обзывает, наверно, меня всякими словами. А может, он просто делится впечатлениями… Разбери-ка, что обозначают кивки кожаной головы с выпуклыми темными стеклами вместо лица. В смущении я тоже зачем-то киваю этой голове.
Но вдруг самолет разворачивается, идет в противоположную сторону. В чем дело?.. Верчусь в кабине, смотрю.
С высоты виден уже не отдельный кусок поля, а весь степной перекат – огромная оснеженная выпуклость и темная точка – волк, устремившийся к краю, к балке.
Самолет начал резко пикировать навстречу. Тут я понял: пилот хочет отвернуть зверя от балки, об этом и кивал, наверно. Мы несемся уже так низко, что былинки, торчащие из снега, стелются в потоке воздуха.
Волк чуть сворачивает, но упрямо, почти нам в лоб, скачет к балке, упорно идет на намеченную цель. Попробуй возьми такого с одной чабанской герлыгой, когда он уходит от передушенной отары!.. Налетаем. Волк, раззявя вдруг пасть, взбрасывается на дыбы навстречу самолету. Пилот ли сплоховал, или уж очень резко прыгнул зверь, но мы пронеслись не сбоку, а прямо над ним – стрелять было немыслимо.
Опять заход, но такой крутой, что правое крыло встало вверху над головами, а левое отвесно пошло куда-то вниз: видать, летчик разозлился. Волк впереди идет ровным скоком, но в последний миг вдруг резко, из-под самого выстрела, бросается под самолет. Непостижимо, неужели учел уже опыт?..
Разворачиваемся в пятый раз… В пятый раз пилот, снова взяв себя в руки, прекрасно, над самой балкой, подает слева. Бью, проносимся мимо, оборачиваюсь. Волчья спина неподвижно темнеет из снега.
Идем на посадку, садимся и подруливаем ближе.
– Взяли наконец! – кричу пилоту.
– Было не упустили, – говорит он, поднимает на голову очки. – Сколько сожгли бензину! Но мы ему все же Сталинград устроили!
Разминая ноги, шагаем к темной крупной спине. Не без опаски трогаю стволами ружья. Снег впереди морды изрыт челюстями, видно, волк кусал снег. Голова тяжелая, прищур глаза неплотный, в прищуре ярко-желтый, не угасший еще глаз.
– Откусался, – говорит летчик и осторожно, носком унты поднимает усатую волчью губу. Клыки под губой желтые, сточенные.
– Много на веку порезал…
Поодаль отрыгнутые куски мяса с овечьей шерстью.
– Вчера надо б его стрелять, и жила бы овечка, – по-крестьянски вздыхает летчик. – Ну, потащили?
Мы берем – один за одну лапу, другой за другую. Невольно пробую на палец забитый снегом коготь. Выпростанный из шерсти, он оказывается длинным, жестким, как согнутый гвоздь.
– Это ж волчиха, – показывает летчик-крестьянин на соски. – И щенная ведь, пакость… Видите? Тут и ее хозяин есть! Найти б его! А?
Торопливо подволакиваем тушу, переваливаем через борт в мою кабину.
– Давай, садись давай! – переходя на «ты», кричит летчик, шагая по гулкому, как мембрана, крылу к своему сиденью. – Мы его сейчас! Лететь вдоль балки, низом надо. Чтоб над самой балкой!..








