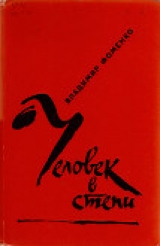
Текст книги "Человек в степи"
Автор книги: Владимир Фоменко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц)
Вдовья доля
Дело происходило в июле, поэтому разговор шел, конечно, о хлебе. Председатель колхоза докладывал, а секретарь райкома Даниловский слушал. Горячее уже с утра солнце ударяло в окна колхозного правления, на столе лежали пробные усатые колосья.
Слушая сводку, Даниловский всею пятерней тер выбритую голову и красные, припухлые, давно бессонные веки.
– Мало сдаете государству.
В действительности хлебосдача была хорошей, но председатель не возражал.
– А на трудодни помногу везут домой? – спросил Даниловский.
– Как кто. Такие, как Каныгина, помногу. У нее за тыщу трудодней.
– Ну? Это свинарка?
– Старшая свинарка, жена конюха Григория. Теперь вдова.
Уже на выезде из хутора, казалось, дремавший Даниловский толкнул шофера:
– Стой, Тимофей! Повернем к Каныгиной.
Тоненькая девочка с полными ведрами на коромысле подошла к нашему газику.
– Тетя Каныгина? А вон за углом. Ей колхоз хату ставит.
За послевоенные месяцы вошло в обычай строить всей артелью дома для семей погибших воинов. Колхоз и владелица будущего дома не разграничивают между собой обязанностей по заготовке материалов, каждый добывает, что может. Народ тоже не направляется конторой, а идет помогать «по человечеству». Единственно, кого официально, по наряду, посылает правление, – это профессионального плотника и профессионального печника. Они вместе с хозяйкой и ближней ее родней участвуют в планировке хаты, являются как бы архитекторами. Нужное тягло – быков, лошадей – занаряживает колхоз.
Вот к такому строительству и подъехал наш газик. Здесь было людно, шумно, как на привокзальном базарчике.
– Здравствуйте! – покрывая шум, пробасил Даниловский. – Как дела?
– Здравствуйте, Ляксандр Пахомыч! Идут!
– Чего б не идти? – отозвался древний плотник, с рулеткой сидящий верхом на раме – основании будущего жилища, – леску добавили б, Ляксандр Пахомыч!.. Да хоть постойтя, не пылитя, – замахал он на женщин, разбирающих трухлявую хатенку, около которой под открытым небом стоял вытащенный изнутри горшок с клеенчатолистым комнатным нежным фикусом, попавшим вдруг на волю, на солнце.
Рядом с фикусом малец гонял пару лошадей по вырытому в земле и наполненному водой кругу. Лошади проваливались по колено, с чмоканьем перемешивали землю; стоящий сбоку дедок равномерно, точно сея, бросал им под ноги солому. Упав, солома лежала чистая, блещущая на солнце, и конские копыта смачно втаптывали ее в жижу. Женщины в высоко подоткнутых юбках, с залитыми грязью икрами ног вынимали из ямы месиво, наполняли им четырехугольные формы и вываливали на солнце здоровенные жирные кирпичи, по-степному «саман», из которого вся Целина строит жилища.
От ямы поднялась крупная женщина и, глянув на свои по локоть заляпанные руки, со взмаху тряхнула ими, отчего на землю, шлепнув, брызнули жидкие черные ошметки. Это была Каныгина. Неловко, плечом убирая со щеки упавшую прядь, она вышла навстречу.
– Извиняйте, Ляксандр Пахомыч, тут грязища такая…
Каныгина – красивая, тяжеловатая, с живыми большими глазами, удивительно широко расставленными.
– Я сейчас! – она, словно порожнюю, подхватила полную цибарку с водой, вымыла руки, снова сполоснула со скрипом от пальцев до локтей, крепко обтерла подолом. – Все! – И, выдернув из груды вещей стулья, поставила перед нами, обмахнула тем же подолом. – Пожалуйста!
Всюду под ногами возились дети. Двое малых сидели на затоптанной строителями грядке, их голые животы и ноги были измазаны жидким саманом, края самана обветрились на солнце, и ребята сосредоточенно сколупывали застывшую окаменелую чешую.
– Ваши партизаны? – ухмыляется Даниловский.
– Нет. Эти, малые, – соседские, а вот эти и эти, ученики, – мои. – Каныгина ладонью по головам отсчитывала своих. – Есть еще барышня, сейчас за меня на свинарне дежурит.
– Ну и как там, в свинарне?
– Нормально, Ляксандр Пахомыч.
– А ты, голуба, – вмешивается рослая, слушающая разговор старуха, – не ломайся, а поясни. Ей, товарищ секретарь, слава богу, тринадцать лет выносят благодарности. Выносят будь здоров, могу на людях хвастаться!
– Эйшь бабка! Вроде ей выносят… – хмыкает в сторону шофер Тимофей.
Старуха оборачивается:
– Я воспитывала. Моя дочка! Желаете, и поросят, товарищ шофер, мы получаем! На каждую матку установлено вырастить в круг семь штук, а что свыше – с каждого пятка по поросеночку нам… У нас, у духоборов, раньше свинья была укорена – запрещена, потому что хочь у нее, равно как и у чистой овечки, копыто раздвоенное, а пищу она не отрыгивает… А теперь господь, прощает – кушаем.
– Вы бы, мама, – краснея, перебивает Каныгина, – стерли б со стола. Грязища, присесть неудобно.
Даниловский с удовольствием смеется:
– Что там! Мы производство глянуть.
– Тогда пожалуйте в свинарню, там и отдохнуть можно.
Это своеобразное гостеприимство стало понятным, когда сразу же за низким вишняком глянуло растворенными окнами строение с бегущей к нему посыпанной песком тропкой.
Может, благодаря растущим под стеною ярко-желтым на солнце гвоздикам, может, из-за обливных кринок, надетых для просушки на колья плетня, ферма имеет веселый домашний вид. У входа полная тетка, Марья Ивановна, начищала медный таз вдвоем с гибкой девочкой – худенькой, тоненькой, глазастой. Это и была барышня Каныгина. Дежурная.
Она осталась чистить таз, а Марья Ивановна пошла за нами в тамбур, похожий на сенцы жилого дома, с выскобленными по-субботнему полами. Сени вели в свиную кухню, где стояла беленая печь с блестящими баками поверху; на растворенном окне, за марлевой присиненной занавеской, зеленелось лимонное деревцо. Ничто не напоминало свинарника. И даже когда открылась дверь к самим свиньям, нас не оглушило многоголосыми визгами, свиньи не бросились вперед, швыряя рылами грязные корыта. Нет! Они, точно мешки с мукой, лежали по обе стороны прохода. С розовыми сосками на грузных животах, выхоленные, отгороженные одна от другой, матки дремали, равнодушно помигивая белесыми ресничками, и порой, должно быть от тяжести, стонали.
Мы двигались по проходу. Резвые подсвинки, собранные штук по двадцать, расталкивали друг дружку, с любопытством бежали к загородке, а какой-нибудь, отойдя в сторону, расставив копытца, вдумчиво цедил на пол.
И снова вольеры грузных маток – ленивых, едва шевелящих влажными пятаками.
– Больше всего свинья любит чистоту, – сообщает Марья Ивановна.
Каныгина шла впереди, перегибаясь через загородки, звучно охлопывая свиней. Если минуту назад, на постройке, она держалась в общей толпе, то здесь была командующей, благосклонно соглашалась с Марьей Ивановной.
– Верно. Мы их баним каждый понедельник. И зимой баним в теплой воде, потом вытопим комнату и в ней сушим. Вот эта вот, Лилия, удивительная чистуха!
– Факт! – подтверждает Марья Ивановна. – Лилия, где напачкает, никогда не ляжет.
Звероподобная, клыкастая Лилия водит широким, будто лопушина, ухом, разнеженно подает голос, слыша свое имя. Видно, ей и хочется приподняться, и лень колыхнуть своей тушей.
– Молодец, Лилия! Ох, и бойких поросят приносит! – нагибается Каныгина, и из-под ее косынки выпружинивает черный тугой завиток, освобождение разворачивается. – Состригаешь ножницами клыки новорожденным, чтоб мать не кусали, вырываются – не сдержишь. Живчики! Лилия уж зато уважает их, ни единого не заглотит!..
Матки слушают, вытягивают рыла к Каныгиной.
– Это Ведьма. Продавали ее за четыре километра, в колхоз Кирова, потом не сошлись в цене и привезли обратно, а она там приметила огород. Так с тех пор, особенно на вечернем моционе, ходит и даже не глянет в ту сторону, создает впечатление, что позабыла, а чуть отвернись – Ведьмы нет. Хоть не ищи, посылай подводу в колхоз Кирова… А вот та с заграничным названием – Химера… Гляньте, ведь поросая на исходе, а сигает через любую загородку к соседям, чтоб ихнего корма поесть, а свой сэкономить на после. И умная: скрипни дверьми – обратно сигает.
С тройным, заплывшим подбородком дебелая Химера, простодушно вздыхая, лежит, протянувшись из конца в конец вольеры, вывернув покрытое нежными сосками грузное брюхо. Даже хвост не скручен штопором, а расслаблен и недвижен.
– Что-то не похоже на такую бойкость!
– Опять потому, что умная! Знает, как держаться на людях.
Пока мы оглядывали свиней, сюда для консультации с хозяйкой дважды приходил печник – бледный молодой человек с пустым рукавом защитной гимнастерки. Видно, на возведении дома он был главным. За ним заходили женщины, мешали ему разговаривать; особенно мешала старуха с ребенком на руках, воющим, словно приклеенным к ее плечу. Старуха обрушивалась на всех, доказывала, что пригребок надо «плановать» возле самых сеней, а не относить черт-те куда…
Возвращаясь, мы опять шли через кухню. Многоведерный бак с заваренными отрубями, паруя, стоял как раз на проходе. Каныгина, ухватясь за ручки, рывком перенесла бак. Даниловский крякнул:
– Разве ж можно?
– Можно, – улыбнулась Марья Ивановна, – у нее кость широкая.
Кость у Каныгиной действительно широкая. Вообще все в ней ладно: и большой энергичный рот, и крутые скулы, круглые, налитые, будто у калмычки. Она с кокетством вздернула плечами:
– Было б чего двигать!
Не скрывая восхищения, Тимофей оглянул женщину:
– Вам бы, хозяюшка, славного мужика. Такого, чтоб по вас! А то какая ж радость – одна…
Каныгина кинула широко посаженными глазами и как-то осунулась, без надобности оправила кофту.
– Одна? Нас много таких. Хватает после войны таких!
Она не опустила, а даже приподняла голову, но стало видно, что она совсем уж не молода, с сеткой жатых морщин под глазами и у большого рта, с разбитыми, плющеными ногтями на руках. Вот она – баба без солдата.
– Эх, сложилось! – досадливо поглядев на Тимофея, крякнул Даниловский, и тут еще одно превращение свершилось на моих глазах. Я вижу, что и Даниловский стар, что это битый жизнью, молотый-перемолотый человек.
– Мужа-то, хозяюшка, не воротишь, – по-бабьи горестно вздохнул Даниловский. – Но ведь люди вокруг…
– Люди… А что ж, черти? Ясно, люди! – углом косынки она промокнула нос. – Всё!.. Идемте, остальное хозяйство покажу.
Она опять шагнула.
– Фу-ты! Постойте! Что мы вас – оскорбили?
– Не оскорбили. Просто ткнули, что одна, а мне это слово…
– У всех у нас дома лежит похоронная, – сказал Даниловский.
– У вас на кого?
– На сына.
– Лежит?
– Лежит.
– Я свою в эвакуации получила. Муж все писал… – Опершись о дверную притолоку, Каныгина скрутила конец косынки. – Писал, что жди… Раз в субботу письмо от него пришло, а в понедельник бумажка из полка. В бумажке все обрисовано: и что… смертью героя… и какого числа, и где схоронен. Ой, думала, руки наложу. Что я одна? Куда ни кинь – одна… У людей знаете как? Когда по-хорошему, а когда недослушают, оборвут совсем зазря – ведь чужие. Родной – он и за ошибку похвалит… Ночи передумала: все была нужна, нужна кому-то, а теперь всё. Как палец одна. Воды попить, кружку взять – нету силы. А из эвакуации домой потащилась с детьми. Где поездом, а где так. Думаю – хоть сдохнуть на своем дворе.
Явилась – меня в контору: «Где ты, – говорят, – столько вожжалась? Мы уж неделю работаем. Без тебя свинарник развален. Хлеба, – говорят, – нету, выписывай на ребятишек и на себя магары десять кило и давай помогай!»
Являюсь в свинарник – каждая сломанная доска на меня глядит. И люди являются все худющие и говорят: «Начинай, Каныгина, а то в хуторе не идет без свиней».
В тот секунд я ни о чем не думала – без одежонки пошла по морозу и пошла – и лопатой и ломом. И руки не зябли. Ночью впервые за сколько времени уснула. Утром подхватилась – и опять, потому – вроде нужная хутору и хутор мне нужный… Да что я! Тю, дура! – Каныгина всхлипнула, стерла пальцы о юбку. – Мне – после, а двум красноармейкам, у которых тоже мужьев убили, еще прошлый год отстроили хаты. Теперь начали мне. Леса-кругляка нет, опалубки нет, а мне говорят: «Не боись, добудем. Возведем дворец». Бабе что? С ней пошути – она гору сколыхнет! А вы опять: бедолага, мол…
Она подняла брошенную ветку люцерны, швырнула в вольеру.
– А в деревне жалость не обидная, мы тут одинаково меченные. Вы гляньте, Ляксандра Пахомыч, кто мне хату строит. Ванюшка безрукий – кормилец на семью, дед Ляксей Иваныч, дед Кузьма Иваныч. Васёна, что с детьми на руке. У нее пятеро ртов. У Ксеньи Безугловой шестеро… А в самом колхозе рази слава богу? И воловни не покрыты, и кошары. А ведь как от мяса оторвали, дали мне двух плотников!..
Все вышли из кухни, а я задержался с принесшей начищенный таз младшей Каныгиной.
Звали ее Любкой, училась она в пятом классе. Она перекатывала пальцем босой ноги камешек, не поднимала глаз. На все мои расспросы о матери она только и сказала (должно быть, словами кого-то из соседей), что мать «несмотря что гордая, но душевная».
В общем, беседа не состоялась, и я отправился к остальным. Они были уже на улице. Возле Каныгиной стояли безрукий печник и старуха Васёна, та, что с ребенком. Ноющий ребенок по-прежнему был словно приклеен к ее согнутой руке, а другой, свободной рукой Васёна размахивала перед Каныгиной, опять говорила о «пригребке», волнуясь, что построят его не у самых сеней.
Сухие дожди
Об огороднике Сасове я услыхал при таких обстоятельствах. Мы завтракали в садочке старухи колхозницы, устроясь вокруг крытого скатеркой табурета. Сразу за двором начиналась белая от солнца степь, пересеченная от горизонта к горизонту прямым грейдером. Груженные пшеницей машины проносились по грейдеру в сторону Целины, поднимая завесу пыли. Пыль не успевала осесть в горячем воздухе, как издали уже рос гул следующих машин, опять клубились хвосты и, схваченные ветром, летели, оседая на сухую землю, на листву низкорослых акаций.
Клочок приютившей нас тени был пылен, рябил круглыми солнечными пятнами и не давал прохлады. Все было накалено; казалось, что даже деревянная завалинка, если к ней прикоснуться, обожжет пальцы.
В такую пору огурцы бывают полынно-горькими, скрюченными. Но хозяйка положила перед нами пяток крупных гладких огурцов. Зеленые, они будто улыбались с чистой тарелки.
– Кушайте, мне в подарок принесли. Сасовские!
– Какие – «сасовские»?
– Это под Целиной такой мужик есть. У него овощ в любую жару растет без полива. Без одной капли.
Мы ели сладкие огурцы, и я ничего не смог узнать, кроме того, что «у Сасова легкая рука»…
Познакомиться с Сасовым мне удалось через неделю, и за эту неделю я опять слышал о нем и на железнодорожной станции, где грузились его арбузы, и в райкоме комсомола.
* * *
Тотчас за усадьбой Целинского зерносовхоза расположена бригада Азария Яковлевича Сасова. Еще издали на крыше полевого вагончика видны черные, белые, желтые квадраты. Это сушатся бахчевые и овощные семена. Подходишь ближе и видишь семена повсюду: на брезентах, фанерках, разостланных мешках, противнях. Меж ними шагает малец с палкой, шумит на подлетающих скворцов:
– И-их, заразы!
Наглые скворцы плотно вспархивают на забор. Этот пестрый забор сплетен из прутьев разного колера: и красных с ярко-вишневой блесткой корой, и темных, и – для общего контраста – белых, ошкуренных.
У забора, под соломенным навесом старухи плетут корзины для овощей. Жара изнуряюща, старухи сидят разморенно, но их проворные старческие сухие коричневые руки ловко творят разнокалиберные корзины: мелкие, глубокие, с ручками, с ушками. Корзины, так же как забор, наука Азария Яковлевича Сасова. Его же – и самодельная, чудная картофелесажалка, похожая на катапульту.
Пока мы рассматриваем эту технику, сгондобленную на сасовском горне, окованную сасовской кувалдой, двор наполняется девчатами-огородницами, пришедшими на полдник. Лиц их не определишь – они до глаз, до узких щелочек окутаны платками, так как на открытых огородах, на степном ветру нет ни пятнышка тени, одно солнце, и девчата, хоть и обливаются потом, а хранят на лице белизну кожи… Сейчас под высоким соломенным навесом, на сквознячке, они освобождение разматываются, садятся за стол, каждая с принесенным со степи арбузом, и мы ждем, когда будут разрезаны полосатые крутобокие «ажиновцы», которыми славится совхоз.
Весело смотреть на арбуз, когда он всего лишь от прикосновения ножа с треском раскалывается на две алые половины, враз подтекает соком. Но первый же арбуз оказался неприглядным, белым, как разрезанная луковица. Это тоже изобретение Сасова: каждая сборщица сама для себя выбирай свой арбуз. Выбравшая не оценила сасовского остроумия, так по-солдатски загнула, а вокруг лопнул такой грохот, что скворцы взлетели ввысь.
Мы стоим в бригаде с Яковом Ильичом Гимпельсоном, парторгом совхоза.
– Понимаешь, – говорит Гимпельсон, – Сасов – производственный рабочий. Пролетарий. Ничего агрономического не кончал. Сюда попал как двадцатипятитысячник. Развел на буграх огороды и уверяет, что в этом деле можно обходиться без дождя. Представляешь?
– А результаты?
– Пожалуйста, вот тебе, ради бога, результаты.
Гимпельсон раскрывает блокнот, на страницах фамилии людей, под которыми мелкие, как пшено, буковки. Ниже фамилии Сасова – цифры.
– Смотри, пожалуйста: «Сасов Азарий Яковлевич. Адрес: Целина, 5-я линия, 119…» Это неинтересно… Вот: «Снимает с гектара до 300 центнеров арбузов; помидоров с гектара– 200 центнеров; огурцов—180; свеклы – 530.
Себестоимость его продукции впятеро дешевле, чем на поливных огородах нашего же совхоза. Арбузы обходятся в 2,5 копейки за килограмм, огурцы – 5 копеек, свекла сахарная – 0,3 копейки.
Организация: у Сасова каждый человек обрабатывает три гектара, то есть рабочей силы у него в четыре с половиной раза меньше, чем на поливных огородах. Болеет туберкулезом легких. Работает над проблемой развития бесполивного огородничества в условиях засушливого Целинского района…» Теперь представляешь?
* * *
Самого Сасова мы застали на табачном поле. Это был белесый человек с живым, очень красивым лицом. Он сидел на корточках, окапывал щепкой табачный поблеклый куст. Посмотрев на нас, выдернул куст, протянул нам:
– Гляньте, что делают.
– Кто?
– Рыжие муравейники.
Корень, точно оспой, был побит ямками. Из ямок выползали крошечные желтые насекомые.
– Вы не знаете, товарищи, чем их гнать?
– К сожалению…
– Черт! И я не знаю. Они вот впервые возникли.
Теперь, когда Сасов поднялся в рост, стало видать, насколько он худ, с какой впалой грудью, что было заметно даже несмотря на отутюженный пиджак. Знакомясь, он цепко, будто клешней, сдавил руку и привычно повел по своим грядкам.
Час назад, по пути в бригаду, мы с Гимпельсоном проходили чужими огородами. Там овощные листья, истомленные раскаленной землей и раскаленным небом, были сникшими, будто крылья подбитых птиц. Здесь же, растопырившись, они торчали вверх, натянутые, как на каркасе, зеленые.
– Отчего это? – спрашиваю Сасова.
– От сухой поливки! – бросает он. – Смысл-то не в том, чтоб вливать летом в грядки новую воду, а в том, чтобы удержать сырость, взятую землей в зимнее время. Ведь за осень-то и зиму в почву такая уйма воды попадает, что ее при верном расходе на все лето хватит, особо если с октября вскопать огороды, чтоб уберечь осенние дожди, чтоб в снеготаянье да в весенние грозы ручьи поверху не стекали, а всосались бы в землю, как в губку, до капли ушли бы в нижний слой.
Говоря, Сасов покашливает. Не резко, но часто, нудно. Это вызывает в нем досаду, и, откашлявшись, он торопится досказать упущенное.
– Чтоб до капли ушли, – повторяет он, – тогда, видите ли, все лето бери воды сколько хочешь! Конечно, не прозевай, а то утечет. Ведь почва-то чуть слежится – враз образует капилляры.
Он сгибает острые колени, приседает на корточки и длинным ногтем царапает на троне ровные полоски.
– Вот смотрите, это – капилляры. Видите, все идут от нижних, сырых слоев вверх. По ним, как керосин по фитилю, поднимается влага и вот тут, на поверхности, испаряется. Так и надо ж, – Сасов ладонью смахивает полоски, – разрушать капилляры культивацией, то есть взрыхлять поверхность. Взрыхлишь – значит, отсечешь пути ухода и оставишь влагу в глубине! – с четкостью говорит Сасов, явно привыкнув излагать свою идею сотни уже раз, втолковывать ее каждому и всякому: дескать, вдруг какой-то очень умный, очень влиятельный человек взглянет да и вспыхнет задачей «бесполивности», прикажет всем колхозам принять новый метод.
– Взрыхлишь – значит, оставишь влагу в глубине, – повторяет Сасов, вперяет взгляды в меня и в Гимпельсона. – А нужно позвать эту влагу наверх, скажем, перед высадкой летней рассады, значит, впряги лошадь в каток и прогони по грядкам. Почва от катка уплотнится, образует в себе капилляры, а уж они сами знают свое дело: влагу поднимать.
Он сосредоточен, взвинчен.
– Пусть все лето, – говорит он, – не сорвется и капли дождя. Не следи в небе за каждой тучкой – она поманила и ушла, а занимайся, видите ли, своим делом, – Азарий Яковлевич с досадой подавляет кашель. – Своим, – говорит он, – делом.
Мы втроем сидим друг против друга на корточках. Для Азария Яковлевича, постоянно работающего с растениями, это самое привычное положение, а мы, с затекшими ногами, охваченные его возбужденной речью, следя за ней, невольно повторяем его движения. Меня все сильнее привлекает его азартность, все больше манит его возбужденное болезненное лицо, не загорающее на солнце.
Горячий, иссушенный ветер шелестит в стеблях, переворачивает огуречные плети и, пролетая, вихрится над дорогой.
– Возьмите огурец, – предлагает Сасов. – Огурец любит влагу, мы и держим для него сырость на полчетверти… Копните!
Мы с Гимпельсоном роем огуречную грядку. В самом деле, сырость лежит на полчетверти от верху.
– Тыквам даем меньше воды, а помидору больше, чем огурцу, – говорит Азарий Яковлевич вроде о чем-то обычном.
Земля понабилась мне под ногти, но я копаю грядки, убеждаюсь, что он не врет.
– Для капусты, – пояснял он, – сырость следует держать под самым листом. Глядите!
Странный, непривычный вид имеет капуста в степи. Не торчит она, как обычно, из глубоких, до верху залитых водой лунок, не пахнет вокруг грядок тенистой свежестью близкой реки. Ветер шуршит между кочанами, пересыпает порошины земли. Не верится, что «под самым листом» держится влага. Я лезу рукой. Сквозь тонкую пыльную корку пальцы входят в теплую сырость.
– Во-во! – подтверждает Сасов с радостью, видя мое изумление. – Ведь как поступают люди? Выпадет дождь, они веселятся, что вот-де, мол, дождик, и ничего не делают. А от того дождика грядки уплотняются, враз создают капилляры, и не только та вода, что упала дождем, уходит без пользы, но уходит и зимняя, из глубины. А пусти культиватор и протяпай – и сохранишь обе влаги – и зимнюю и новую, дождевую. Я об этом как раз пишу. Вот он, конспектик.
Азарий Яковлевич роется в глубоких карманах пиджака и брюк, вынимает, кладет на грядку платок, кисет с табаком, большую зажигалку, складной метр, полубутылку молока с плотной, закутанной тряпицей пробкой.
– Жена наливает. Отличная вещь – молоко, – говорит он, сует бутылку обратно, – Конспект, выходит, я дома оставил. Надо на многое толкать людей. Разве они осведомлены, скажем, в сорняках? Сообщите людям, что сорняк надо выращивать, – они испугаются. Но сорняк-то действительно надо выращивать. Говорят, в ноябре ждется конференция. Растениеводческая. Там я скажу: «Выращивайте сорняки! Нехай с весны поднимаются. Действуйте, как хороший пулеметчик: тот не бьет по отдельному врагу, а подпустит всех – и врежет! Так и здесь: дайте всем прорасти и перед посевом двиньте пропашником – сразу и сорняку точка, и культуру посеете в сырой слой!
Он распрямляется; его брюки оттопырены пузырями, вытянуты над острыми коленями, оттянутые, видать, от вечных непрерывных приседаний.
– И о прополке скажу! – восклицает Сасов. – Простая вещь, скажу, прополка, а не так вы полете! Переворачиваете тяпкой гряды и этим сушите землю. А надо вынимать тяпку тем же следом, каким она вошла, чтоб подрезанный слой оставлять на месте. Тогда что получится? И сорняк срезали, и не пересушили.
Когда закуриваем, Сасов каждый раз достает странного вида зажигалку. Она с поддувалом, трубой и свободно горит на ветру.
– Откуда у вас такое?
– Придумал. Чтоб не гасло.
Мы идем по бахче, перешагивая через огудины. Длинные ноги Сасова отбрасывают тень, и она, точно циркуль, мелькает на залитой солнцем земле. Неожиданно он приседает и, щелкнув ногтем по арбузу, досадливо морщится:
– Безобразие! Спелый!..
Он вытягивает шею к женщинам, белеющим в конце бахчи.
– Агафо-о-о-но-ва!
На зов приходит толстоногая, плечистая, могучая баба.
– Ты свою корову, Марья Ивановна, каждый день доишь?
– Дою…
– Доишь, ибо не дои – вымя усохнет. А плоды нехай перезревают – казенные.
Агафонова молчит.
– Тыщу раз говорено: не беда, что сам арбуз перестаивает. Страшно, что губит цветень. Ну глянь же, Агафонова, на цветки. Ну своими ж глазами глянь.
Сасов отпускает Агафонову, и белый ее платок маячит в синем воздухе.
* * *
Хороша бахча в знойный, безоблачный день! Словно зеленые валуны, лежат арбузы, вгрузая боками в пушистую землю. Часами никто не покажется на дороге, лишь изредка, неотличимо от ветра, свистнет суслик, еще не залегший на спячку, встанет столбиком, поведет гладкой, точно облизанной головкой. Сторож приблизится и, чертыхнувшись, начнет забивать костылем в нору сухие комья. Забьет и сядет у балагана, и снова недвижна бахча. Сонное марево плывет по горизонту, безмолвны и небо, и разомлевшие огороды, разве что со стороны железнодорожной станции донесется выкрик паровоза, стук буферов и белое облачко дыма растает над дальними посадками…
В такой день волнующе отрадно присесть перед арбузной плетью. Начало жизни – желтая цветень, невзрачные венчики призакрылись от яростного солнца, чуть подрагивают на ветру. Сбоку, величиной в сливу, покрытая пухом завязь, здесь же, точно яблоки, полосатые арбузята и рядом полупудовые арбузы, тронутые нынешней ночью приходящим зайцем.
Перед близкой осенью торопится рожать земля, гонит из себя плоды. Длинные ворсины на стеблях и плодоножках, сизая матовость на самих арбузах – все необмято, первозданно, ни к чему не притрагивалась рука человека.
…В такой день стоим мы с парторгом и Сасовым на пухлой горячей земле. Прямо к бахчам примыкают огороды. Издали они поражают по-новому: не огороды – доска чертежника! Геометрически ровные, абсолютно прямые идут ряды. Вроде бы кто-то приложил линейку и зеленой тушью навел полосы на черное поле.
– Это для красоты, Азарий Яковлевич?
Он воспринимает шутку всерьез:
– Нет, дело не в красоте, а в прямизне. Рядки, видите, ровные. Заглубляешь лемехи, какие тебе желательно для твоей персональной овощи, и гони напрямик лошадку, культивируй.
Он кивает на дальние баклажаны, помидоры, на ближнюю к нам тугую, волноватую, снова и снова поражающую в степи капусту.
– Если смотреть без увиливаний, то все мои затеи – ерунда, – неожиданно сообщает Сасов. – В огородах ряды широкие, – восклицает он, – вот и культивируешь, кормишь сухим поливом. Но ведь в хлебах-то, в пшеничной-то гуще культиватор не пустишь. Сколько мозги ни надрываю, не движутся с пшеницей дела.
К нам приближаются подводы, идут к Сасову за овощами. Впереди семенит большеголовая мышастая лошаденка с острым, выгнутым хребтом. Бородатый возчик непрерывно дергает вожжи и, поравнявшись с нами, чего-то озлясь, крепко ударяет по выгнутой спине лошаденки. Она шарахается в сторону, и округлая белая тыква разлетается под колесом. Сасов крякает. Мне показалось, что ему жаль тыкву.
– Что ж ты делаешь? – морщит он худое лицо. – Зачем скотину бьешь? Бородатый, как козел, а ума не нажил!
Щеки Сасова покрываются румянцем. Так как подводы проехали, он кричит уже на нас:
– Бьет! Рад, что здоровый. Будто животное не имеет характера. Имеет, как и растение! Потому его, бородатого здоровилу, паршивая кобыленка не слушает, а вот на десятой ферме за правильное отношение Шевелеву – женщину, как стручок, маленькую – племенные бугаи-зверюги понимают со взгляда.
Сасов показывает на горизонт, где невидная отсюда – должно быть, за той вон кромкой – работает какая-то Шевелева.
Я шел от Азария Яковлевича через линию железной, уже вечерней, темной, дороги, перекатывал с руки на руку тяжеленный арбуз, полированный, скользкий в ладонях, горячий еще с полдня, с той бахчи, где присвистывал ветер, загибал и загибал огудины.








