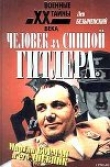Текст книги "Происхождение и юные годы Адольфа Гитлера"
Автор книги: Владимир Брюханов
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 45 (всего у книги 51 страниц)
Такие влечения позднейших времен, однако, почти наверняка уже не сопровождались практически никакой физической гомосексуальной близостью между Гитлером и его «возлюбленными» разных сортов: далее пожатия рук дело не шло – других свидетельств об этом нет!
И это также очень легко понять: если Гитлер и был пассивным педерастом до Первой Мировой войны, то во время войны он должен был решительно отказаться от этого: за четыре года тоскливой окопной жизни он гарантированно превратился бы в «солдатскую девку», если бы его окопные товарищи распознали такую возможность пользоваться его телом. А это было бы такой утратой любого социального статуса, что гарантированно уничтожило бы всякую возможность активного воздействия Гитлера на окружающих в любой массовой среде при малейшем подозрении о таковой его роли.
Да он и по-настоящему утратил бы в результате все остатки своей и без того не слишком высокой психологической потенции самостоятельного и уверенного в себе мужчины, никогда не смог бы стать политическим лидером массовой партии, а затем – целой нации!
Так что все сексуальные опыты Гитлера в этом отношении были обязаны завершиться сразу в августе 1914 года!
Это, однако, не исключает того, что до 1914 года основные особенности поведения и биографии Гитлера определялись его гомосексуальной сущностью и соответствующим образом жизни.
Более определенно выяснить, в какой же форме происходила половая жизнь Гитлера тех лет (и происходила ли вообще) не представляется возможным.
С одной стороны: «В современной исторической литературе нет никаких фактических подтверждений существования у Гитлера возлюбленной во время его проживания в Линце, Вене, Мюнхене».[1081]1081
Примечание К.А. Залесского // И. Фест. Путь наверх, с. 68.
[Закрыть]
С другой стороны, хорошо известны страстные выпады Гитлера в «Майн Кампф» по адресу евреев, соблазняющих немецких девушек: «Черноволосый молодой еврей часами поджидает с сатанинской радостью на своем лице ничего не подозревающую девушку, которую он осквернит своей кровью и похитит ее у народа».[1082]1082
И. Фест. Путь наверх, с. 69.
[Закрыть]
Такого рода заявления принято считать проявлением зависти: «Сам дух обнаженной непристойности, неизменно идущий с тех страниц его книги «Майн Кампф», когда он пытается облечь в слова свое отвращение [к евреям], не является, разумеется, каким-то случайным внешним признаком или лишь воспоминанием о тоне и стиле /…/ бульварных брошюрок, /…/ – в значительно большей мере тут выражается специфическая природа его неосознанной зависти».[1083]1083
Там же, с. 68.
[Закрыть]
Это – «широко распространенная теория Ольдена, Буллока и Ширера, что Гитлер стал антисемитом вследствие приписываемой ему зависти, возникшей на сексуальной почве».[1084]1084
В. Мазер. Указ. сочин., с. 242–243.
[Закрыть]
Но чему же завидовать, если самого Гитлера в те годы женщины попросту не интересовали?
Однако, если никакой девочки на самом деле вовсе и не было, то, может быть, имелся мальчик?
Не следует ли предположить, что это сам Гитлер виделся себе самому той самой ничего не подозревающей девушкой, которую и соблазнил черноволосый молодой еврей с сатанинской радостью на лице?
Если так, то осуществиться это должно было еще до того, как происходила описанная Кубицеком встреча с «фабрикантом из Феклабрука»!..
Кто знает, когда это конкретно могло произойти: может быть, еще в первый (в мае-июне 1906) или во второй (в августе-октябре 1907) приезды Гитлера в Вену?..
Сам Гитлер, заметим, проявлял позднее значительные усилия к тому, чтобы вопрос об его сексуальной жизни данного периода не обрел ясности. В частности информация, о которой мы упоминали, – сообщение Гитлера Ханфштанглю (сделанное не ранее 1922 года) о том, что Гитлер якобы примерно с 1908 года болел сифилисом – служит той же цели: понятно, что человек, больной сифилисом, обязан вести сдержанную и осторожную половую жизнь или вообще сторониться ее – именно такого впечатления о себе и добивался Гитлер.
Разумеется, сексуальной сферой не ограничивались возможности Гитлера, ищущего себе защиту от преследования властей, вызванного его уклонением от воинской службы. Деньги у него пока еще имелись, и он мог попытаться решить свои проблемы, откупившись от властей взяткой – об этом мы уже упоминали.
Это было бы самым надежным способом решения всех проблем – в особенности в России.
Но Гитлер-то жил не в России!
Зато любому человеку, не имевшего в Вене никаких серьезных связей в сферах, заметно противостоящих закону и одновременно имеющих с ним соприкосновения, проще всего было бы обзавестись ими, обратившись к евреям: это наверняка и обеспечило бы каналом, по которому можно было бы рискнуть отдавать взятку, не опасаясь разоблачения в этот опасный момент.
Масса евреев, в виду общего демографического кризиса в Восточной Европе и потока эмиграции из России после погромов 1905–1907 годов, заселяла тогдашнюю Вену. Евреи в принципе направлялись в Америку (некоторые – уже и в Палестину), но были непрочь задержаться надолго или ненадолго в столице империи, поддерживавшей гораздо более либеральную политику по отношению к евреям, нежели тогдашняя царская Россия с ее ограничениями в правах, чертой оседлости и, повторяем, массовыми погромами.
Весь этот еврейский легальный, полулегальный и нелегальный поток искал покровительства у австрийских властей, и мог оказывать услуги в том же всем посторонним – не бесплатно, разумеется.
Конечно, у Гитлера, основательно поистратившегося с весны 1908 года, уже в принципе не могло быть таких больших денег, чтобы легко подкупать полковников и генералов или полковничьих и генеральских жен или любовниц. Но такие значительные средства в общем-то и не требовались для достижения поставленных целей. И в царской России, и в Советском Союзе бытовала пословица: от армии освобождает не воинский начальник (в Советском Союзе говорилось – военком), а писарь!
Действительно, чтобы заручиться благосклонностью бюрократической системы, вовсе не обязательно привлекать к себе благоволение ее верхних этажей. В любой иерархической системе мелкие клерки обладают почти неограниченной властью, будучи способны обеспечивать минимальные отклонения от буквального исполнения инструкций и законов, и доводя, тем не менее, при этом дело до радикальнейших результатов для заинтересованных сторон.
Мы уже достаточно подробно рассматривали подобную коллизию, когда изучали особенности карьеры еще Алоиза Шикльгрубера. Несомненно, что Адольф Гитлер, заботливо воспитанный собственным отцом, должен был изначально неплохо ориентироваться в подобных возможностях, по крайней мере – теоретически. И когда он очутился во вполне понятной затруднительной ситуации 1908–1909 годов, то должен был самостоятельно опробовать такие варианты – следы и последствия таких попыток нетрудно объективно обнаружить.
Сам Гитлер в «Майн Кампф» уверяет притом, что изначально относился к евреям по меньшей мере нейтрально: «Теперь мне трудно, если не невозможно, сказать точно, когда же именно я в первый раз услышал слово «еврей». Я совершенно не помню, чтобы в доме моих родителей, по крайней мере при жизни отца, я хоть раз слышал это слово. Мой старик, я думаю, в самом подчеркивании слова «еврей» увидел бы признак культурной отсталости. /…/
Только в возрасте от 14 до 15 лет я стал частенько наталкиваться на слово «еврей» – отчасти в политических беседах. /…/
В Линце евреев жило совсем мало. /…/
О том, что существует уже какая-то планомерная организованная борьба против еврейства, я не имел представления.
В таком умонастроении приехал я в Вену».[1085]1085
А. Гитлер. Указ. сочин., с. 33.
[Закрыть]
Кубицек противоречит Гитлеру, указывая на антисемизм его отца;[1086]1086
В. Мазер. Указ. сочин., с. 225–226.
[Закрыть] но это неубедительно – Кубицек не был знаком с этой семьей при жизни отца Гитлера. Однако слово «еврей» Гитлер должен был слышать в школе – на уроках религии и истории, что и подтверждается нижеследующим:
«Тон, в котором венская антисемитская пресса обличала евреев, казался мне недостойным культурных традиций великого народа. Надо мною тяготели воспоминания об известных событиях средневековой истории, и я вовсе не хотел быть свидетелем повторения таких эпизодов. /…/ действительно большая пресса отвечала антисемитам на их нападки в тоне бесконечно более достойном, а иногда и не отвечала вовсе – что тогда казалось мне еще более подходящим».[1087]1087
А. Гитлер. Указ. сочин., с. 34.
[Закрыть]
Но еще через несколько лет Гитлер пребывал в совсем иных настроениях:
«Постепенно я начал их ненавидеть.
Я научился уже понимать язык еврейского народа /…/. Еврей говорит для того, чтобы скрывать свои мысли или, по меньшей мере, для того, чтобы их завуалировать. Его подлинную цель надо искать не в том, что у него сказано или написано, а в том, что тщательно запрятано между строк.
Для меня наступила пора наибольшего внутреннего переворота, какой мне когда-либо пришлось пережить. Из расслабленного «гражданина мира» я стал фанатиком антисемитизма».[1088]1088
Там же, с. 40.
[Закрыть]
Что же послужило этому перевороту? Кроме общих слов, у Гитлера нет никаких объяснений.
И как, позвольте понимать, можно ненавидеть то, что ни сказано, ни написано, ни даже прочитано между строк?
Заметим, однако, что маленькие клерки всесильны лишь тогда, когда занимаются собственными делами, вроде бы не находящимися под контролем начальства: в противных случаях маленькие клерки так и остаются маленькими клерками, которые вынуждены беспрекословно исполнять волю высших руководителей!
А как же обстояло дело в этом смысле в ситуации Гитлера в 1908–1909 годах?
Мы упорно повторяем, что никаких дальнейших трудностей (тех самых, что и вошли в реально осуществившуюся историю) у Гитлера и не должно было бы возникнуть, если бы он не распустил свой язык в шпитальском трактире. Сам Гитлер мог еще какое-то время надеяться на то, что такие трудности так и не возникли. Но, похоже, получилось совсем по-другому.
В Шпитале хорошо знали и помнили Пёльцлей: дедушку и бабушку Адольфа Гитлера, а также и сестру последней Вальбургу Роммедер – все они прожили там долгие жизни, а похоронили их не так уж давно. Должны были помнить там и отца Гитлера – Алоиза. Молодая же мать Гитлера совсем недавно появлялась в родных краях – и была тогда еще достаточно здоровой и цветущей женщиной. Теперь никого из них не было в живых, а приезд в Шпиталь их общего наследника Адольфа Гитлера вполне мог стимулировать толки о странном ходе событий во всем этом семействе.
Пьяные же откровения Гитлера могли произвести впечатление разорвавшейся бомбы: все толки, неясные подозрения и сомнения объединились в результате его признания в едином сюжете, а упорная попытка Адольфа продемонстрировать собравшимся в трактире то, что он добрался и до запрятанных семейных сокровищ, которые некогда существовали абсолютно у всех в данной местности (!), придала особый колорит и убедительность всем мыслям и чувствам, какие возбудились подобным поворотом событий у всех шпитальцев.
Первоначальная реакция слушателей Гитлера утонула во вполне естественном для них пьяном добродушии – большинство немцев и австрийцев не звереет от выпивки. Поэтому-то Гитлеру и позволили унести ноги сначала из трактира, потом и из Шпиталя вообще. Но в течение следующих дней бедная на новости и события деревенская жизнь побудила свидетелей переосмыслить и переобсудить все происшедшее – и не было бы ничего удивительного в том, что чьи-то сердца загорелись бы жаждой справедливости и возмездия.
Достаточно было бы хотя бы одному из этих деревенских правдоискателей проявить непреклонную настойчивость – и местным полицейским властям пришлось бы принять формальное заявление и официально открыть дело об убийстве и ограблении значительного числа почтенных местных жителей, членов католической общины; далее вступали в ход общие законы движения бюрократической полицейской машины – начатое дело было обречено катиться до какого-либо стандартного завершающего акта.
С самого начала такое расследование не должно было сулить ничего привлекательного местным полицейским властям. Вот если бы Гитлер был схвачен ими на на месте – тогда бы у них еще были бы шансы самостоятельно раскрутить подобное дельце. Теперь же они не могли даже арестовать Гитлера, поскольку не знали, где он находится. Не было у них и достаточных бесспорных оснований для возбуждения вопроса о таком аресте: сам по себе лишь пьяный треп какого-то молокососа – это лишь повод для дальнейшего серьезного расследования, безнадежного для местных полицейских хотя бы по причине значительной пространственной разнесенности событий, затронутых прозвучавшим признанием.
Поэтому местная полиция поначалу должна была всячески отбиваться от заявителей, охваченных энтузиазмом. Но, хотя у полицейских всегда имеется немало возможностей заглушать дела, которые их не устраивают, иногда им все-таки приходится подчиняться особенно усиленному давлению публики, на стороне которой ее законные права!
Здесь-то и создалась вопиюще заметная ситуация, нашедшая идиотское (извиняемся за справедливое в данном случае выражение!) объяснение у историков типа Мазера: «Живущие в Шпитале его дяди и тетки, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы после последнего отпуска [Гитлера] с фронта (с 10 по 27 сентября 1918 г.) больше никогда не видели его воочию. /…/ Гитлер избегал встреч с большинством из своих родственников не потому, что они были «недостаточно хороши» для него, а из опасений, что они начнут жаловаться ему на что-нибудь или просить об одолжении, что могло вылиться ему во «вредную семейственность». Это он постоянно ставил в упрек Наполеону I как грубую политическую ошибку».[1089]1089
В. Мазер. Указ. сочин., с. 24–25.
[Закрыть]
Но никаких политических ошибок тут не было и быть не могло – ни у Гитлера, ни со стороны родственников последнего: каких-таких одолжений могли бы домогаться шпитальцы, чтобы излишнее потакание им могло бы вылиться в политическую ошибку?!
Объяснение Мазера абсолютно несостоятельно: главное-то тут было в том, что шпитальские родственники никогда не обращались к Гитлеру за помощью! Но почему же они этого не делали? Был, что ли, издан специальный декрет, запрещающий им любые такие просьбы? Или они обязаны были знать, как отзывается о Наполеоне их великий родственник в кругу ближайших приближенных?
Вот разглагольствования о Наполеоне, действительно тащившим своих родственников на высочайшие должности, не случайно появлялись в беседах Гитлера с Герингом, Геббельсом, Гиммлером и всеми прочими: те должны были поражаться тому, почему родственники Гитлера не осаждают его просьбами, в то время как их собственные родственники ведут себя противоположным и вполне понятным образом – и Гитлеру приходилось оправдываться столь хитрым способом!
Ясно, что шпитальцы вполне основательно вложились в обвинение своего родственничка в 1908 году в убийствах и кражах, и не их вина оказалась в том, что это не привело к окончательным и вполне оправданным результатам.
Позднее это должно было привести их к разочарованию – и в их поредевших рядах Гитлер уже не обнаружил должного возмущения и отпора при своем появлении в 1917 и в 1918 годах. Характерно, однако, что еще позднее он все-таки предпочел там совсем не возникать – задолго до того, как достиг положения, привлекающего какие-либо возможные просьбы и ходатайства!
А вот после прихода Гитлера к власти сначала в Германии, а затем и в Австрии, всех шпитальцев должен был охватить подлинный ужас. Им оставалось ждать лишь мести с его стороны – о каких контактах и жалобах тут могла идти речь?!.
Характерно, что все их потомки уже после Второй Мировой войны практически ничего не могли рассказать историкам: настолько прочным оказался заговор молчания, охвативший эти места задолго не только гибели «тысячелетнего» Рейха, но и его провозглашения! Совсем как в стародавние разбойничьи времена!..
Гитлер же, уничтоживший миллионы людей во множестве стран, никак не мог решиться сделать что-либо устрашающее и карающее по отношению к собственным родственникам и их односельчанам, как бы ни желал этого: тогда бы его собственную вину было бы чрезвычайно трудно укрыть даже от верноподданых ученых-гитлероведов!
У местной полиции, вынужденно повесившей на себя в 1908 году безнадежное дело обвинения будущего диктатора (о чем тогда никто не мог догадываться!), появлялась забота, которую требовалось разрешать вполне определенным образом: обставить поневоле сложившуюся ситуацию так, чтобы не выглядеть затем полными идиотами в глазах собственного непосредственного начальства.
Поэтому, в конце концов, когда формально были приняты исходные заявления шпитальцев, то начались и определенные розыскные действия, долженствующие затем представить усилия местной полиции в позитивном свете. Все сообщенные сведения были, насколько возможно, объективно проверены, различные показания сопоставлены, а при необходимости дополнены и исправлены, собраны все необходимые справки о прошедших временах, представлены копии соответствующих актов – и на это должно было уйти немало времени.
В таком виде дело, не возбуждавшее теперь никаких сомнений в обоснованности местной инициативы, и начало свое плавание по полицейским инстанциям, пока не причалило на каком-то достаточно высоком уровне уже в полицейском управлении города Вены.
К этому времени упомянутый Кубицек уже должен был заканчивать свой кратковременный срок службы в армии и возвращаться в Вену.
В Вене могли двояко отнестись к присланному из провинции кирпичу бумаг: сразу проявить к нему интерес или поначалу отмахнуться от такой непрошенной инициативы снизу.
В любом варианте законы бюрократии – это законы бюрократии: присланное дело нельзя было так просто выбросить в корзину. Следовало, как минимум, допросить подозреваемого Адольфа Гитлера, вынести квалифицированное заключение, что все обвинения – полный бред, отправить дело в архив, а в сторону Шпиталя – благожелательное пожелание работать получше!
Однако странная невозможность вот так, сразу, найти этого Адольфа Гитлера, чтобы допросить и отпустить его, не позволила осуществиться простейшему и немедленному результату: никто, почему-то, не смог объяснить, где же этот Гитлер находится сию минуту – и это в стране с тотальной пропиской! И вот это-то возникшее недоумение в свою очередь послужило дополнительным основанием к стремлению полиции к знакомству с объектом обвинений.
Вот тут-то и сыграло роль то, что полицейское управление Вены было не совсем обычным учреждением среди аналогичных заведений во всех прочих европейских державах. Так уж почему-то сложилось, что это управление оказалось как бы полноценным филиалом военной разведки и контрразведки, что получалось далеко не в каждой стране.
Например, один из виднейших российских военных разведчиков и контрразведчиков накануне и во время Первой Мировой войны, генерал Н.С. Батюшин сожалел: «Постоянной головной болью для руководителя являлось все, связанное с установлением правильных служебных отношений с сотрудниками пограничных и таможенных служб и особенно – с жандармскими и полицейскими чинами».[1090]1090
Книга Батюшина издана накануне Второй Мировой войны в эмиграции в Софии, переиздана в наши дни в Москве: Н.С. Батюшин. Тайная военная разведка и борьба с ней. М., 2002. Мы используем электронную версию: http: //www.fictionbook.ru/ ru/ author/ batyushin_nikolayi_stepanovich/ tayinaya_voennaya_razvedka_i_borba_s_neyi/
[Закрыть]
Максимилиан Ронге был офицером австрийского Генерального штаба. С 1907 года он поступил на службу в разведывательное бюро данного штаба, позднее заведывал агентурным отделением этого бюро, с апреля 1914 года возглавил само бюро – и оставался на данном посту до конца Первой Мировой войны.
Рассказывая в своих воспоминаниях о многочисленных трудностях работы еще в довоенное время (а у кого не бывает трудностей на службе?), Ронге утешался лишь одним: «Светлым моментом были хорошие отношения с полицейским управлением г. Вены. Начальник этого управления содействовал совместной работе толково и предупредительно.
Если бы все гражданские учреждения относились хотя бы приблизительно так к генштабу, как полицейское управление г. Вены, то в монархии дела обстояли бы совсем по-иному и многого можно было бы избежать. Не было даже малейших расхождений, все обдумывалось совместно и также совместно проводилось в жизнь. Все клеилось, и обе стороны радовались успехам.
Не менее сердечными были мои отношения с венским прокурорским надзором, а также и с теми чиновниками венского высшего судебного трибунала по уголовным делам, с которыми я входил в соприкосновение как военный эксперт».[1091]1091
М. Ронге. Разведка и контрразведка. М., 1937, с. 25.
[Закрыть]
Понятно, что необычное дело, вызвавшее повышенный интерес у кого-то в венской полиции, немедленно было взято в совместное изучение вместе с контрразведчиками: ведь подобные истории не валялись на земле повсеместно!
Хотя, нужно заметить, всем военным было тогда не до таких мелочей: осенью 1908 года как раз разразился Боснийский кризис (Австро-Венгрия объявила об «окончательной» аннексии Боснии и Герцеговины), вызвавший бурю страстей и в соседней Сербии, и в России, да и в прочих европейских державах. Вплоть до февраля 1909 на повестке дня стоял вопрос о возможном военном столкновении между Австро-Венгрией и Россией – это означало бы и общеевропейскую войну.
Понятно, что в такой ситуации разведчики и контрразведчики сбивались с ног: «Число подозреваемых в шпионаже в Австро-Венгрии возросло с 60 (в 1908 г.) до 150 в следующем году, причем мы были убеждены, что еще большее количество шпионов осталось невыясненными».[1092]1092
Там же, с. 32.
[Закрыть]
Вполне понятно, что весь этот накал международных страстей гораздо незначительнее захватил самого Адольфа Гитлера, нежели уже проявивших к нему интерес профессионалов в Австро-Венгерском Генеральном штабе, не имевших, однако, практической возможности энергично действовать на периферийных участках собственных интересов. Вынужденная неторопливость, тем не менее, пошла на пользу их осторожности – и дополнительно усыпила бдительность еще неопытного Гитлера. Это тем более объясняет неожиданность всего последующего для Гитлера, хотя нисколько не оправдывает опрометчивость принятой им собственной стратегии.
В подобных ситуациях Гитлер никогда не признавал себя виновным в совершенных ошибках, но обвинял в них других, кому и приходилось затем жестоко за это расплачиваться.
Вот и в данном случае слепота Гитлера послужила фундаментом для его чудовищных дальнейших претензий к совершенно посторонним людям.
По мере того, как внешнеполитические страсти несколько успокаивались, присланное из Шпиталя дело было внимательно изучено и, возможно, сразу же были произведены дополнительные розыскные действия, недоступные для провинциальных коллег венских шерлок-холмсов.
Например, фамилия Шикльгрубер, наверняка названная в определенном контексте в присланных бумагах, могла побудить к получению соответствующей исторической справки – в результате всплыло судебное дело 1821 года.
Из него логически следовало то же, что из него же и извлек Алоиз Шикльгрубер еще в 1860-е годы: разбойничий клад имел место быть – и властями изъят не был. Все присланное дело приобрело в результате вполне определенный смысл, а потому взглянуть на Адольфа Гитлера захотелось еще сильнее.
Разумеется, не за один день, а за несколько дней или даже недель (с учетом ажиотажа вокруг Боснии-Герцеговины) адрес Гитлера был вычислен, и некий «фабрикант из Феклабрука» якобы случайно, изящно и ненавязчиво познакомился с Гитлером и его ближайшим другом. Учитывая все последующее, случившееся с Гитлером, автор этих строк вполне допускает возможность того, что этим «фабрикантом» мог оказаться даже сам Ронге.
Последний, кажется, не был гомосексуалистом, но разыграть подобную роль, дабы не возбудить тревоги у изучаемого объекта, было вполне возможно для профессионала – заодно и проверить реакцию Гитлера на призывную манеру поведения вполне определенного стиля. Однако в такой роли было бы более естественно выступать другому лицу, которому и в дальнейшем предстояло работать с Гитлером. Ниже мы постараемся вычислить этого человека.
Заметим, что личина гомосексуалиста, подчеркнуто надетая на себя таким ревизором, наверняка свидетельствует и о том, что начинающие охотники за Гитлером уже имели основания подозревать его в подобных наклонностях.
Понятно, что Гитлер – это всегда Гитлер, достаточно ясно выражающий себя сторонним наблюдателям, а настоящий профессиональный контрразведчик – это всегда настоящий профессиональный контрразведчик. Гитлер был тогда еще в совсем юном возрасте – и не ему было тягаться с такими профессионалами. Последние пребывали на уровне, существенно превышавшем Алоиза Гитлера с его специальным опытом и все же провинциальным кругозором. Кто кого в данный момент сумел прочитать насквозь – в том сомнений быть не могло.
«Фабрикант» выяснил все, чего хотел; главным же было четкое впечатление, что подозреваемый вполне соответствует характеру той роли, которую ему приписывало досье, присланное из Шпиталя.
Гитлеру невероятно повезло, что теперь его судьбой занялась контрразведка: в противном случае уже в 1908 или 1909 году наступил бы окончательный исход его только начинавшегося жизненного пути: смертный приговор или длительный каторжный срок (практически минимум до революции 1918 года!) с абсолютно четким разъяснением гнусной сущности совершенных им преступлений. Едва ли это позволило осуществиться его дальнейшей политической карьере.
Но зато не повезло всему остальному человечеству!
Контрразведчиков вовсе не беспокоили вопросы торжества правосудия – их волновало совсем другое. Парнишка из провинции, убивавший родственников направо и налево, мог оказаться бесценным подарком для будущих задумок австрийских рыцарей плаща и кинжала. Ведь такие люди всегда руководствуются принципом: целесообразно это или нет – как и сам Гитлер!
И за Гитлера взялись плотно и всерьез – вовсе не для того, чтобы его наказать.
Как тут не вспомнить Гестапо-Мюллера?!
Нельзя утверждать, что контрразведчикам совершенно сразу стало все ясно и понятно: впечатления – впечатлениями, но нужны были и доказательства – без них оказывались бы невозможны ни обвинения в уже совершенных преступлениях, ни последующая вербовка с помощью шантажа разоблаченного героя на абсолютно грязные роли – а какие еще роли можно было бы предоставить столь беззастенчивому и аморальному убийце?
Первое, что следовало выяснить в кратчайшие сроки, это то, действительно ли располагал Гитлер крупными суммами нелегальных денег. Если это подтверждалось, то тем самым круг обвинений замыкался. Затем следовало брать Гитлера за горло, а для этого вытрясать из него безвозвратно по возможности все имеющиеся у него деньги.
Сложившаяся ситуация подсказывала вполне естественные ходы для этого, не сулившие Гитлеру ничего хорошего.
И Гитлер, и контрразведчики двинулись навстречу друг к другу: они – вполне сознательно и расчетливо, а он – наощупь и ошибочно полагая, что движется совершенно самостоятельно – и вовсе не к ним навстречу.
Почти наверняка первым в оборот был взят Кубицек – он находился под рукой, более всех остальных знал о своем ближайшем друге, хотя о многом не догадывался, и располагал массой сведений, полезных для будущих вербовщиков самого Гитлера.
Не случайно Кубицеку так запомнилась встреча с «фабрикантом». Не случайны и предельно осторожные формулировки Кубицека в его рассказе, адресованные, несомненно, к самому Гитлеру: Кубицек не отрицал, что помнил многое, но демонстрировал предельную сдержанность и лояльность. Мог Кубицек подчеркнуть этим рассказом и то, что запомнил черты лица этого «фабриканта».
Характерно, что после этих показаний Кубицека, сделанных, как упоминалось, в 1938 году, и произошла личная встреча Кубицека с Гитлером в августе 1939 года. Гитлеру теперь понадобилось лично проинспектировать потенциальный источник возможных неприятностей – в то самое время, когда он и принимал самые серьезные политические решения в своей жизни!
Вовсе не исключено, что Кубицек, явно умевший четко излагать собственные мысли и впечатления, при этой встрече дал понять Гитлеру, что его истинные воспоминания уже записаны, тщательно запрятаны и никогда не будут опубликованы, если только жизнь Кубицека не прервется насильственной смертью. Сам же Кубицек ни на что дополнительное не претендовал.
Такое поведение и такие аргументы Кубицека должны были успокоить якобы всесильного диктатора. Но в его интересах было самому проявить инициативу и как-то материально отблагодарить Кубицека. Факт тот, что Кубицек уцелел до послевоенных времен.
В свое время Кубицек, очевидно, также проявил лояльность к Гитлеру: будучи не в силах прервать свое общение с агентами полиции, возможно – с тем же самым «фабрикантом», Кубицек, однако, предупредил Гитлера – тот и скрылся в ноябре 1908. Позднее они поддерживали контакты достаточно конспиративно: Гитлеру тоже было интересно и полезно знать, чем же интересуются его противники. Кубицек, таким образом, оказался тогда «двойным агентом»!
Информация Кубицека уже должна была убедить контрразведку в правильности избранного направления, и нужно было приниматься за деньги Гитлера.
Пока неясно, как же конкретно все это развивалось позднее: то ли контрразведчики сразу подставили Гитлеру своих собственных доверенных людей, то ли сам Гитлер обзавелся поначалу нейтральными доброжелателями и доверенными лицами, а уже позднее они его и сдали контрразведке по инициативе последней!
Австрийская контрразведка вынужденно должна была уделять значительное внимание массовому потоку еврейских мигрантов, о котором упоминалось выше: среди этих людей должно было быть немало иностранных агентов.
Еврейский национальный характер вовсе не чужд шпионажу (надеемся не быть обвиненными в антисемитской шпиономании!), евреи вынужденно или добровольно шпионили и против России, и в ее пользу, а последующая история ХХ века дала массу имен замечательных разведчиков-евреев (хотя прославившийся разведчик – это просто абсурд: лучшие разведчики обречены умирать безвестными!). Понятно, что австрийским властям нужно было держать с ними ухо востро, а евреи могли оказывать австрийской контрразведке немалую пользу.
Вот пример, рассказанный Ронге, относившийся уже к военному времени: «в середине мая 1915 г. в Вене один портной совершенно случайно встретил в ресторане одного офицера, которому он незадолго до того пришивал капитанские знаки различия. Портной обратил внимание на его поведение, несвойственное офицеру»[1093]1093
М. Ронге. Указ. сочин., с. 92.
[Закрыть] – и немедленно донес в контрразведку. Подозреваемого «задержали для выяснения личности. Задержанный попросил разрешения пойти в уборную и там застрелился. В канализационной трубе было обнаружено 14 ассигнаций по тысяче крон и бумажные рубли, а на его квартире – компрометирующие документы и удостоверения, обычные для русской разведки. /…/ Перед смертью он сознался, что родом он из Галиции /…/ и состоял на службе царской охранки».[1094]1094
Там же.
[Закрыть]
Как можно в чем-то сознаваться, уже будучи застрелившимся – мало понятно; столь же непонятен и обратный ход возможных событий: как можно застрелиться уже после сделанного признания в шпионаже? – ниже нам придется столкнуться со вполне похожей ситуацией!