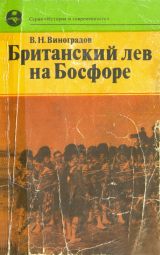
Текст книги "Британский лев на Босфоре"
Автор книги: Владилен Виноградов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Для беспристрастного наблюдателя высокопарная речь Пальмерстона звучала кощунственно. В историю Англии это время вошло под названием «голодные сороковые». Прозябал в нищете рабочий класс «мастерской мира». Пятилетние мальчики пробирались ползком по вентиляционным штрекам шахт, чтобы добыть кусок хлеба семье. Ирландию в 1845–1848 гг. поразила болезнь картофеля, и начался ее путь на Голгофу страданий. За четверть века миллион подданных ее величества умерло от голода. Еще три миллиона жителей Изумрудного острова покинули родину. При всем этом «бдительное око» Англии дремало; все это в уме Пальмерстона к правам человека отношения не имело.
Иначе восприняла филиппику министра палата общин. Его политика была одобрена громадным большинством голосов. Друзья и даже политические оппоненты слали ему поздравления. Почитатели вскладчину приобрели портрет «героя» кисти Патриджа и преподнесли его Эмили. После «триумфа» Пальмерстон подобрел: убытки Пачифико были пересмотрены и определены в 150 фунтов стерлингов (т. е. уменьшены в 200 раз). «И ради этого лорд Пальмерстон мобилизовал против Греции флот, равный тому, которым Нельсон командовал в сражении у Нила!» – восклицает французский историк.
Конечно же, не ради Пачифико, а с целью прочного утверждения на Балканском полуострове.
И все же победа была достигнута, по мнению многих влиятельных лиц, слишком дорогой ценой. По словам Гладстона, Пальмерстон настроил против себя «всю цивилизованную Европу». На традиционном банкете у лорда-мэра Лондона отсутствовали представители России, Франции и Баварии. Виктория писала своему наставнику, бельгийскому королю Леопольду: «Благодаря Пальмерстону мы ухитрились поссориться, порознь и удачно, с каждой из держав».
Королевское терпение подходило к концу и лопнуло, когда лорд Джон, никого не спросясь и ни с кем не посоветовавшись, и не известив, как то полагалось, корону, горячо одобрил государственный переворот тогда еще французского президента Луи Наполеона Бонапарта (декабрь 1851 г.). Радость била в Пальмерстоне ключом: разорванную диктатором конституцию он объявил «детской чепухой», «фиглярством», творением «ветреных умов Марраста и Токвилля, сочиненным для того, чтобы мучить и смущать французский народ».
Торжествовал Пальмерстон рановато: такого самовольства королева не прощала никому и не пожелала упустить подходящий случай для удаления неугодного министра. После ее объяснения с премьер-министром Пальмерстон расстался с печатями Форин оффис, и уже навсегда.
«Воевода Пальмерстон»
и Крымская война
В годы Крымской войны в России распространялся незатейливый стишок:
Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.
Сочинители его были недалеки от истины: Пальмерстон наряду с королевой Викторией и послом в Турции Чарльзом Стратфордом, получившим звание лорда Рэдклиффа, являлся одним – из самых оголтелых ястребов-русофобов и главных зачинщиков конфликта. Отлучение его от Форин оффис (он был переведен на пост «секретаря по домашним делам», иными словами, министра внутренних дел) не означало полного отлучения от внешней политики. Он участвовал в заседаниях кабинета и более узких совещаниях в месяцы, предшествовавшие развязыванию войны в связи с казалось бы архаичным во второй половине XIX века вопросом о «святых местах» и внес немалый вклад в ее разжигание.
Суть проблемы заключалась в следующем. В далеком 1740 г. король Франции Людовик XV добился издания султанского хатт и-шерифа, по которому католическим священникам разрешалась служба в почитаемых христианами храмах в Иерусалиме и Вифлееме. Но «христианнейшим королям» скоро стало не до покровительства собору гроба Господня: внимание отвлекли война с Англией, революция, в ходе которой корона слетела вместе с головой ее носителя, попытка заменить во Франции католицизм культом Разума. В римской курии по традиции числился патриарх Иерусалимский. В течение веков его обладатели пребывали в Ватикане, считая титул приятной и ни к чему не обязывающей синекурой. Не без труда папа Пий IX выдворил очередного патриарха в 1849 г. к его пастве в Палестину.
Между тем на Балканах и Ближнем Востоке крепло влияние России. Статья 7 Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. гласила: «Блистательная Порта обещает твердую защиту христианскому закону и церквам оного…» Такова была формулировка, дававшая международно-правовую основу для демаршей российской дипломатии в пользу православных балканских народов. Более определенные обязательства Турция приняла в отношении Дунайских княжеств и Сербии; они де-факто перешли под покровительство России. Пика своего договорные русско-турецкие связи достигли в 1833 г. в Ункяр-Искелесси. А вскоре начался быстрый упадок российского влияния. Петербургу, казалось бы, следовало уразуметь, что не на бумагах оно зиждется, сколь бы весомые титлы они не носили и сколь бы пышными подписями ни были украшены, а на реальной мощи государства.
Любопытно, что в характеристике положения в Стамбуле противники сходились. Николай I писал о «состоянии ничтожества, в которое приведена Оттоманская империя англо-французским всемогуществом». Эти оценки разделялись (разумеется, не гласно, а в секретной переписке) британскими государственными мужами. Лорд Джордж Кларендон, глава Форин оффис в годы Крымской войны, именовал Стрэтфорд-Рэдклиффа «подлинным султаном». Его письмо лорду Генри Каули от 9 марта 1855 г. содержит своего рода уникальное признание: турецкий посол «Мусу-рус сугубо доверительно передал мне жалобы Порты на ужасную тиранию Стрэтфорда и серьезную просьбу султана и правительства – освободить их от угнетателя… Конечно, я не стал слушать всего этого; но я верю и сочувствую страдальцам… Что за чума этот человек».
При всей феноменальной самонадеянности, которую Николай Павлович обрел под конец царствования, восстановления единоличного влияния в Турции он не домогался. Незадачливая операция по закрытию Черноморских проливов свидетельствует об этом с полной очевидностью. Сама идея-фикс императора – о разделе сфер влияния на Балканах и Ближнем Востоке, при всем ее экспансионистском характере, – основывалась на паритете и учете вожделений Англии и, в меньшей степени, Австрии и даже Франции.
В 1853 г. царь на новогоднем балу принялся излагать свои мысли потрясенному британскому послу сэру Гамильтону Сеймуру. А ситуация была – хуже и тревожнее не придумаешь. Необходимо было считаться с резко возросшей внешнеполитической активностью Франции, быстро оправившейся от неудач периода конвенции 1841 г. Бросить вызов Лондону в районе наибольших интересов последнего, в Египте, Париж больше не решался. Иное дело – Палестина. В 1850 г. последовал демарш о восстановлении прав католиков в «святых местах» со ссылкой на султанский указ стадесятилетней давности. Что за крестом последует французский капитал, никто не сомневался.
В Петербурге переполошились: возникла угроза разрыва последней нити легального воздействия на правящие круги Османской империи. Проблеск надежды, казалось, виднелся там, где его всегда искали – в сотрудничестве с Великобританией против злокозненной и постоянно сотрясаемой революциями Франции. На этой химерической почве и взошел план раздела сфер влияния на Балканах и Ближнем Востоке, который царь сообщил перепуганному Гамильтону Сеймуру на новогоднем балу. Тот был изумлен формой обращения – такие вещи ведь не обсуждают на светском рауте и при наличии горячительных напитков. Что касается содержания, то посол вполне правомерно усмотрел в демарше монарха желание усилить свои позиции и, сгущая краски, давал следующую интерпретацию намерениям царя: «Я, Николай, милостью божьей и прочая, не желая идти на риск войны и компрометировать свою великодушную репутацию, никогда не захвачу Турцию, но я уничтожу ее независимость, низведу ее до уровня вассала и сделаю само существование для нее бременем…»
В Лондоне самым внимательным образом следили за разгоравшимся франко-русским спором вокруг почитаемых храмов в «святых местах». Сперва ему не придавали значения. Еще до ухода Пальмерстона в отставку он и посол Франции граф Александр Колонна-Валевский пришли к выводу, что затеянная игра не стоит свеч (или, в английском варианте – шандалов). Но дело разрасталось и принимало опасный оборот. То, что Франция выступает в роли забияки, а вопрос не ограничивается тем, кому и с какого амвона восславлять господа, было очевидно. «Французский посол (в Константинополе. – Авт.) первым нарушил существующее статус-кво. Нельзя отрицать наличия споров между латинским и греческим духовенством, но без политических акций со стороны Франции эти споры никогда бы не вызвали затруднений в отношениях дружественных держав», – размышлял в январе 1853 г. лорд Джон Рассел, тогдашний министр иностранных дел. Посольство в Константинополе еще раньше забило тревогу: «Порта полностью сознает важные политические расчеты, связанные с начавшимся спором… Никто не сомневался, что греческая церковь и нация напрягут все силы, чтобы сохранить свои преимущества и что влияние России, пусть замаскированное, будет пущено в ход, как и ранее в подобных случаях, чтобы отбить атаку латинской партии…»
Сам по себе бурный ренессанс активности Франции в Османской империи погружал Уайт-холл в глубокое раздумье. Однако ситуация имела лишь внешние черты сходства с тем, что происходило в 1839–1841 гг. Сейчас участниками конфликта выступали два основных соперника Великобритании; похоже было, что она, при известной ловкости, сможет выступить в качестве третьего радующегося.
Николай I пришел в восторг от расправы президента Луи Наполеона Бонапарта с доверенной его заботам Французской республикой. Однако учреждение второй империи и коронация выскочки уже не сопровождались возгласами ликования на Неве. Тщетно Нессельроде взывал к монархам: «Если Наполеон III будет признан, вся Европа пройдет через Кавдинское ущелье Франции»[4]. Кончилось дело тем, что царь сдал свои позиции – признал права не только Наполеона, но и его еще не появившихся на свет потомков, но ухитрился испортить с новым властелином отношения по ничтожно-протокольному поводу, а именно – именуя его в переписке «добрый друг» – вместо полагавшегося по ритуалу «дорогой брат». Наполеон не забыл и не простил нанесенного ему оскорбления, и это сразу сказалось на обострении спора о «святых местах».
Понимали ли в Петербурге, что именно здесь, в Османской империи, «доброму другу» Николая I легче всего осуществить свои честолюбивые планы? Сознавали ли, сколь опасен взобравшийся на вершину власти авантюрист, которому для укрепления еще зыбкого трона позарез был нужен крупный внешнеполитический успех?
Судя по некоторым частным письмам (не документам – ибо в них полагалось петь аллилуйя самодержцу) – да. К. В. Нессельроде делился тревогой с Ф. И. Брунновым: «…Новому императору французов любой ценой нужны осложнения, и нет для них лучшего театра, чем на Востоке».
Чем глубже исследователь погружается в источники, связанные с подготовкой к войне, тем более тяжким становится его недоумение: как можно было втянуться в конфликт, который даже умозрительно, на бумаге не сулил победы? У колыбели его стояли два деятеля, по 30–40 лет связанные с внешней политикой, которые, при всем критическом к ним отношении, не страдали недостатком осторожности – К. В. Нессельроде и Ф. И. Бруннов.
Вот несколько отрывков из их частной переписки. Нессельроде полагал: на Востоке «наступит очередь России остаться в одиночестве против всего мира… Соединенные морские силы Турции, Англии и Франции легко справятся с русским флотом… Проникнуть в Черное море; уничтожить здесь торговлю, сжечь города; перебросить подкрепления повстанцам на Кавказе – все это, в раскладе на троих, не потребует слишком разорительных жертв людьми и деньгами». И дальше: «В Константинополе недоверие и подозрительность в отношении нас настолько укоренилось, что, сколько бы мы ни заверяли в отсутствии желания сокрушить Турцию, нам не поверят…»
Как же можно было, очертя голову, броситься в пропасть авантюры? Но граф Карл Роберт Васильевич Нессельроде, канцлер империи, украшенный отечественными и иноземными орденами, поседевший и облысевший на службе во внешнеполитическом ведомстве, не смел высказать царю свои опасения. На пороге императорского кабинета появлялся исполнительный чиновник, «верноподданный», готовый строчить по монаршьему повелению то, что противоречило его опыту. И строчил.
Ф. И. Бруннов в личных письмах советовал соблюдать крайнюю осторожность в споре о «святых местах»: не надо слишком натягивать вожжи, они могут лопнуть и ударить своими концами по кучеру. Пока в Петербурге исписывали гору бумаги, сочиняя инструкции для чрезвычайного посла в Турции, Филипп Иванович высказывал глубоко справедливые мысли: не формулы трактатов, а реальное соотношение сил определяет ситуацию. «Более или менее длинная, более или менее жесткая статья ничего в действительности не прибавит к нашему влиянию в Турции. Его истоки – в делах, а не в словах». И действительно, на пороге 50-х годов Россия сохранила всю договорную аммуницию; ни одна статья договоров, начиная с Кючук-Кайнарджийского (1774 г.) и кончая Адрианопольским (1829 г.) не была отменена. А влияние было утрачено, не поддержанное экономической, идеологической и политической мощью. Но эти горькие истины Филипп Иванович шептал на ушко адресату. Гласно же он вводил в заблуждение хозяина Зимнего дворца, «обнаруживал» повороты в настроениях британской общественности и правительства, коих не было, рождая надежду на то, что Англия останется вне столкновения. Миссию в Константинополе предложили осуществить проницательному Алексею Федоровичу Орлову, затем – знатоку балканских дел Павлу Дмитриевичу Киселеву. Оба государственных мужа, не к чести для себя, уклонились от ее осуществления, а от них можно было ожидать вовремя высказанного самодержцу совета – не совершать гибельного шага. Бедновато стало в Петербурге с людьми ответственными, способными ставить интересы страны, даже в их узко дворянском понимании, выше соображений карьеры!
Под конец выбор царя пал на генерала и адмирала А. С. Меншикова, человека не без ума и образования, но настолько тщеславного и самонадеянного, что ожидать от него проницательности и решительности не приходилось. Не будучи вовремя остановлен, царь пустился во все тяжкие. Фатальный его просчет заключался в совершенно ошибочной оценке европейской ситуации и надежде на то, что Англию удастся удержать вне конфликта. В ослеплении своем он вообразил, будто «доверительные беседы» с сэром Гальмильтоном Сеймуром тому способствуют: «Моя единственная, моя сокровенная цель – не войти в противоречия с Англией, и только ради этого я придал самую интимную и доверительную форму нашему обмену мнениями, который нельзя трактовать официально и который останется строго секретным между мной и королевой…» Размышляя на бумаге о возможных итогах посольства Меншикова, Николай писал: «Французы отправляют флот и десантный корпус. Конфликт с ними». А вот столкновения с Великобританией не предусматривалось, с Австрией – тем более – царь был убежден в вечной благодарности Габсбургов за услуги, оказанные им в 1849 г.: «Что касается Австрии, я уверен в ней, ибо договоры определяют наши взаимные отношения».
Такова была обстановка, когда в Лондоне узнали о снаряжении чрезвычайного посольства А. С. Меншикова, сопровождаемого солидным эскортом сухопутных и морских офицеров. Ответом явилось назначение – в пятый раз, – Чарльза Стрэтфорд-Каннинга, именовавшегося уже официально виконтом Рэдклиффом, в Стамбул. Болтуну и дилетанту в дипломатии был противопоставлен матерый политик, почти полвека подвизавшийся в Турции, до тонкостей знавший обстановку, друг и покровитель великого визиря Решида-паши. Ему были представлены широчайшие, полномочия: «Правительство е.в. не желает давать Вам особых инструкций и оставляет Ваше превосходительство свободным в проявлении Ваших суждений и заключений». Стрэтфорд получил право вызова британской эскадры с о-ва Мальта, «если угроза нависнет над турецким правительством».
Уже на полпути, в Италии, Стрэтфорд узнал обо всем, что привез в своем портфеле Меншиков, вплоть до содержания секретной конвенции, которую тот предложил подписать Порте. 5 апреля корабль «Фьюри» с послом на борту прибыл в бухту Золотой Рог. На пристани его ожидали османские сановники. Султан прислал коня из своей конюшни, чтобы выразить всю степень уважения к «великому элчи». 7 апреля великий визирь лично ознакомил Стрэтфорда с текстом конвенции. 11 апреля последний передал по телеграфу ее содержание, намеренно и грубо исказив при этом смысл документа, причем в таком изуродованном виде он рассматривался парламентом.
Требования, предъявленные Меншиковым, давно и превосходно исследованы и в старой русской (А. Г. Жомини, С. С. Татищев, А. М. Зайончковский), и в советской (Е. В. Тарле, В. М. Хвостов) историографии. В том, что они означали попытку (предпринятую в самый злополучный момент) расширить влияние царизма на Ближнем Востоке и на Балканах, нет сомнений. Если отвлечься от рас-суждений о службе в церквах, починке купола над храмом Гроба Господня, распределении ключей к той или иной церкви – которые занимали 9/10 словесной площади нот, – то квинтэссенция миссии Меншикова заключалась в следующем: добиться заключения акта, «имеющего силу и ценность договора» для того, чтобы «покровительствовать религиозным учреждениям и восточной церкви более действенно, нежели нам позволял Кючук-Кайнарджийский договор». В предложенной к подписанию конвенции эта формула выглядела так: «министры императорского российского двора, как и в прошлом, будут вправе делать представления в пользу церквей Константинополя и других мест, а также в пользу клира, и эти представления будут приниматься как исходящее от соседней и искренно дружественной державы».
Картина была очевидной: царь стремился проделать лазейку для вмешательства во внутреннюю жизнь османского государства; турки с подозрением и враждебностью отнеслись к российским предложениям.
По словам самого Меншикова, реис-эффенди Рифаат-паша спокойно и даже благожелательно выслушал все пункты инструкций, касавшиеся службы в храмах; но, когда изложение дошло до конвенции, – «во время чтения лицо Рифаата, видимо, омрачилось; он показался живо затронутым и в течение нескольких минут не мог произнести ни слова… Я оставил его в состоянии растерянности и тревоги».
В интерпретации Стратфорда царские требования выглядели откровенно хищническими и грубо нахальными: российские дипломаты делали не представления, а получали право «давать распоряжения церквам». Фальсифицировав требования Петербурга, британские политики и пресса объявили, что царь хочет распоряжаться судьбами 12 (или 14) млн душ православных подданных Турции.
Конечно, лондонские политические стратеги не хуже Ф. И. Бруннова знали, что не бумаги и печати определяют силу и влияние того или иного государства в Османской империи, а экономическая, финансовая, политическая и идеологическая мощь. Показателен был пример России, растерявшей и то, и другое, несмотря на обладание Адрианопольским договором. Великобритания заняла в Стамбуле преобладающие позиции. Впрочем, если бы Порта подписала пресловутую конвенцию, ничего бы по существу не изменилось: представлениями российских посланников можно было пренебречь, и скатывание Османской империи к положению британского клиента продолжалось бы, несмотря на протесты Петербурга.
Но тогда не была бы использована уникальная внешнеполитическая конъюнктура для сведения счетов с Россией и резкого усиления позиций на Ближнем Востоке и Балканах. Французский император, можно сказать, днем с огнем искал повода для войны. Подумать только – руками соперника № 2 можно было расправиться с соперником № 1! Порта, оскорбленная и обиженная развязными требованиями царя, вообразила, что пришло время одним махом освободиться от обязательств перед Россией, вырванных последней в итоге четырех войн. Турки разве что не бросались публично в объятья Стрэтфорда, который стал руководителем и вдохновителем всех их акций. Эта ситуация, не имевшая аналогов ни в прошлом, ни в будущем, совпадение интересов Англии, Франции и Турции и, не в столь открытой форме – Австрии, – создала предпосылки для объединения держав, вторгшихся через год в Россию.
Не следует думать, что курс на войну был принят в Великобритании в одночасье. Подходило к концу четвертое десятилетие мира в Европе. Перешагнуть черту, за которой стояла война, было нелегко. Тори старой закалки относились подозрительно к тесной дружбе с Францией, зараженной бациллами революционных и прочих нехороших потрясений. Лорд Лондондерри призывал «не бросаться слепо в объятья единственной державы, могущей смертельно угрожать самому существованию Англии» (то бишь Франции); «тогда мы будем вотще взывать о поддержке и помощи к старым, верным, великим и могущественным союзникам, избавившим нас от опустошительных войн и давшим нам сорок лет мира». Влиятельные купеческие круги выгодно торговали с Россией. Пацифисты религиозных оттенков проповедовали мир на земле. Делегация квакеров посетила Николая I, когда уже запахло порохом, и тот, видимо, совершенно не зная как себя с ними держать, спровадил их к царице.
Сомнения принца Гамлета могут дать лишь слабое представление о чувствах графа Абердина, возглавлявшего тогда коалиционный кабинет. Премьер-министр регулярно изливал их Бруннову во время задушевных бесед с глазу на глаз в кабинете на Даунинг-стрит, 10: «Войны не будет, войны не может быть», он, лорд Абердин, не допустит ее развязывания. Бруннов исправно передавал столь утешительные сведения в Петербург. Посол в Вене, барон Мейендорф, не желал отставать от своего красноречивого лондонского коллеги: «За исключением нескольких предубежденных умов… все согласны в том, что тесный союз с Россией должен являться основой политики венского кабинета».
Нессельроде снабдил Меншикова указаниями, которые можно считать эталоном дипломатической беспечности и близорукости: «Поведение лорда Абердина показывает серьезное желание избежать крайних последствий… Он уже предпринял усилия, чтобы подвигнуть кабинет Тюильри к наиболее благоприятной позиции… Он относится с полным доверием к охранительным тенденциям императора…» Такое же свидетельство о благонамеренности было выдано Габсбургам: Австрия, как держава католическая, «не может слишком откровенно поддерживать права православного культа против католического» (!)
Так, в состоянии полного ослепления, царизм занес ногу над пропастью…
Стрэтфорд посоветовал (в сложившихся обстоятельствах слово «предписал» подходит точнее) своим турецким подопечным проявлять крайнюю сговорчивость во всем, что касалось лампад, алтарей и церковных притворов. 13(25) января Меншиков констатировал: «Дело о святых местах соглашено между французским послом, Портою и мною, нужные для этого фирманы изготовляются, окончательному соглашению сему много способствовал лорд Рэдклифф».
Нессельроде, узнав эту благую весть, проявил осторожный оптимизм: быть может «дьявол» (то бишь Стрэтфорд) «не столь уж черен», как его малюют? Но по урегулировании чисто церковных дел «доброжелательство» британского посла, по словам Меншикова, «миновалось». Тактика Стрэтфорда состояла в том, чтобы, уступив по второстепенным вопросам, обнажить экспансионистские замыслы царизма и объединить против этой угрозы Англию, Францию, Турцию и, возможно, Австрию.
Дальше коса нашла на камень. Турки отвергли конвенцию. Меншиков почуял недоброе, – не ощутить этого было невозможно, и смягчил формулировку: 23 апреля (5 мая) он внес новое предложение: Порта, «на основе строгого статус-кво» подтверждает права и привилегии православной церкви. В письме к Стрэтфорду он утверждал: «императорское правительство требует сохранения того, что существовало аб антико»; оно «чуждо претензиям на преобладание в чем-либо». Подобное утверждение не являлось с его стороны каким-то хитроумным маневром с целью ввести в заблуждение оппонентов, а служило констатацией факта отхода от попытки достичь чего-то нового, – лишь бы сохранить старое (при котором, напомним, влияние царизма резко падало). Меншиков растерял свой гонор; в его демаршах появились просительные нотки. Он обратился к заведомому противнику России, Решиду-паше: «Вашей светлости, возможно, покажется странным получить письмо от посольства державы, которая, как полагают, никогда не пользовалась Вашими симпатиями». Не помогло ни обращение, ни выхлопотанная у султана аудиенция. Абдул-Меджид отослал Меншикова к своим министрам. «Это было равнозначно отправке к хитрому Стрэтфорд-Каннингу», – замечает биограф последнего А. Дж. Бирн.
Новая редакция договора была отвергнута как «подрывающая основы суверенной независимости Порты». Стрэтфорду пришлось немало потрудиться, чтобы поддержать стойкость духа турецких сановников. Накануне заседания Совета Османской империи (17 мая) он не поленился лично объехать большинство его членов, «убеждая их голосовать против нас и принять проект ответа, составленный в английском посольстве», – сообщал Меншиков. Решид объявил российскому послу, что договор может касаться лишь строительства русской церкви и странноприимного дома в Иерусалиме. Россию, с соблюдением дипломатических приличий, выставляли с Ближнего Востока. Пока Решид вел беседу с Меншиковым, Стрэтфорд ждал его на лодке посреди Босфора. «Вот, г-н граф, – уныло замечал Меншиков, – что британские агенты имеют наглость именовать независимостью турецкого правительства».
И Меншиков отступил второй раз. Он сочинил проект ноты, с которой Порта должна была обратится к нему. В тексте ее говорилось, что православный культ будет и в дальнейшем пользоваться «под эгидой е. в. султана привилегиями и иммунитетами, предоставленными ему аб антико». О России упоминалось весьма скромно: султан «соизволил оценить и серьезно принять во внимание переданные через российского посла откровенные и дружественные представления в пользу восточной православной церкви». Ни обязательств, ни даже обещаний от Порты не требовалось – фиксировалось в расплывчатом и разжиженном виде то, что содержали прежние договора. Миссия Меншикова, даже будь его последняя нота принята, потерпела фиаско.
Насмерть перепуганный Нессельроде взывал к «Европе»: «нота преисполнена уважения к суверенной власти», каждая строка ее дышит почтением к «достоинству султана и независимости Порты»; речь идет лишь о сохранении за «единоверцами» того, чем они обладали. «Может ли столь умеренная, столь справедливая претензия, не затрагивающая прямых интересов ни единого иностранного государства, повести за собою разрыв? Я в это никогда не поверю. Для этого… здравый смысл должен покинуть землю!»
Однако в оффисе Стрэтфорда не собирались спускать конфликт на тормозах и сочли скромную «ноту Меншикова» недопустимым вмешательством в дела Порты. Решид облек это мнение в дипломатическую форму. Меншиков со свитой собрался восвояси. 9(21) мая пароход «Громовой» с персоналом посольства отчалил от константинопольского рейда.
Но, помимо курса на войну, существовал и другой замысел – интернационализации проблемы, учреждения своего рода верховного арбитража держав над всеми русско-турецкими делами. Плодом этого замысла явился проект т. н. «венской ноты» 4-х правительств Турции (август 1853 г.) Порта должна была подтвердить верность «букве и духу договоров Кючук-Кайнарджийского и Адрианопольского о покровительстве христианской религии». Казалось бы, с точки зрения Петербурга, – «чего же боле»? Меншиков в своих последних демаршах изъяснялся скромнее. Но суть «венской ноты» заключалась не в приведенной декларации, а в том, что все спорные русско-турецкие дела обсуждались и решались советом держав; ломался вековой принцип русской политики – не допускать «посторонних» к их урегулированию. Лорд Кларендон писал: державы «фактически превращаются в рефери, судящих, правильно ли интерпретируется нота в случае любых разногласий между Портой и Россией», причем, применяя библейский язык, судей неправедных в отношении России, которая обречена была бы на вечное одиночество в этом совете.
Тем не менее из Петербурга немедленно поступило согласие на венские предложения, что свидетельствовало о наступившем там отрезвлении и желании выбраться из беды хоть и с потерями, но не катастрофическими. А отказ (в виде поправок, начисто лишавших Россию возможности даже ходатайствовать в пользу православных) пришел из Константинополя.
И тут в благородном семействе Форин оффис произошло нечто вроде скандала: по поступавшим из Стамбула сведениям не кто иной как виконт Стрэтфорд-Рэдклифф был причастен к турецкому отказу. Один из соавторов венской ноты, граф Кларендон, чувствовал себя глубоко уязвленным. Он сочинил строптивому послу пространную депешу, обвиняя его в неповиновении и утверждая само собой разумеющиеся вещи: «турецкое стремление к войне основано на убеждении, что Франция и Англия волей-неволей примут сторону Турции». Послышался голос премьер-министра Абердина: «Я подготовил королеву к возможности отставки Стрэтфорда… Я уверен, что мы не вправе настаивать (перед Россией. – Авт.) на новых уступках после уже сделанных, Поведение Порты самоубийственно… Все это может быть объяснено желанием войны».
Вот именно!
Но ни один волос не упал с головы фрондёра, и все потому, что в Лондоне возобладала тенденция не на мирное урегулирование, пусть с крупными потерями для России (сторонником которой лично был премьер-министр), а на военный конфликт с целью устранения соперника с Ближнего Востока и Балкан. Повод для обострения ситуации подвернулся самый что ни на есть веский: 22 июня 1853 г. (3 июля) два корпуса русских войск вступили на территорию Дунайских княжеств. К. В. Нессельроде в соответствующем циркуляре разъяснял: Россия «не преследует целей территориального приращения»; княжества заняты в качестве материальной гарантии исполнения предъявленных Порте требований. Российские сановники явно рассчитывали на повторение 1848 г., когда занятие Молдавии и Валахии обошлось без осложнений и российский МИД даже нашел адвоката в лице лорда Пальмерстона. Но ведь ситуация изменилась кардинально, и судьбы мира висели на волоске!
Исследователя повергает в изумление и другое: решаясь на подобный шаг, необходимо было взвесить его возможные последствия, включая войну. Знакомство же с записками, сочиненными Николаем Павловичем для самого себя (ибо ни с кем прочим он не советовался) убеждает, что плана военной кампании не существовало. Если царя можно именовать дилетантом в дипломатии, что в области стратегии он был полнейший фигляр. Военный опыт самодержца (если не считать плацпарадной муштры) сводился к наездам в тылы действующей армии в 1828 г. Тем не менее он составил несколько вариантов возможных операций, но сам же отверг их из-за отсутствия необходимых сил и пришел к выводу, что переправляться через Дунай нельзя. Коронованный стратег полагал нужным провозгласить независимость Валахии, Молдавии и Сербии и «тем положить начало разрушения Оттоманской империи. Один всемогущий бог определить может, что за сим последует. Но приступить к дальнейшим действиям я и тогда не намерен». Меншикову он сообщал: «Я решился не переходить Дуная до поры до времени и ожидать наступления турков, чтобы ежели отважатся переправиться на левый берег Дуная, их разбить и прогнать, но самим не переправляться».








