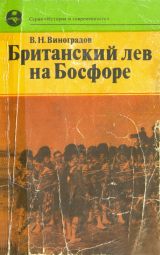
Текст книги "Британский лев на Босфоре"
Автор книги: Владилен Виноградов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Дизраэли прекращает чудачества в одежде, кричащие жилеты, цепи и браслеты исчезают из его гардероба; он отдает предпочтение традиционно-респектабельному черному цвету. Жена погашает его долги на сумму 13 тыс. ф. ст. (около 90 тыс. рублей); отец ссужает еще 10 тысяч – на покупку поместья; и вот Дизраэли – сквайр в графстве Бэкингемпшир.
Дизраэли так и мог бы остаться «заднескамеечником», ограничившись воспеванием добродетелей старины. На деле все сложилось иначе. Он обнаружил способность быстро реагировать на настроения избирателей (напомним, что к таковым тогда принадлежала тонкая имущая прослойка) как в масштабах округа, так и страны. Он разворачивает знамя «торийского демократизма» (сохранение традиционных институтов, консолидация империи, улучшение жизни народа); лэндлорды, менее связанные с пролетариатом, нежели промышленная буржуазия, могли позволить себе роскошь законодательных уступок в пользу рабочих. В 1867 г., будучи канцлером казначейства, Дизраэли убеждает своих коллег по кабинету о необходимости проведения избирательной реформы; право голоса получают домовладельцы и квартиросъемщики в городах, число избирателей возрастает втрое.
В 1874 г., на пороге семидесятилетия, Бенджамин Дизраэли становиться премьер-министром. Из романтически выглядевшего юноши он превратился в дряхлого старца, сотрясаемого приступами астмы, согбенного от ревматизма. Давно прошли времена, когда он почти сладострастно смаковал в письмах прелести французской кухни; теперь он в ужасе от «раблезианского обжорства» своих коллег. А на него лавиной обрушились общественные и светские обязанности – кабинет, обеды и ужины с избирателями; беседы с парламентариями – и опять же за обильно уснащенным столом; участие в официальных церемониях – в придворном платье, а порой и с государственным мечом в руках, под тяжестью которого дряхлый премьер чуть не качался, возведение в сан ректора нескольких университетов, сопровождаемое длительной и утомительной церемонией. Однажды Дизраэли выразил недоумение – почему это в Англии существует общество охраны ослов, а вот о здоровье и покое государственных мужей никто не печется? Отношения с королевой у него превосходные, можно сказать, сердечные. Дизраэли обнаружил у себя дар тонкой, всепроникающей лести. Викторию и Диззи сближала неприязнь к Гладстону, которого торийский лидер в частной переписке именовал не иначе как «архинегодяем», и которого Виктории могли навязать только суровые конституционные порядки. Королеву, женщину властную и ревниво относившуюся к своим прерогативам, выводили из себя его поучительный тон и ораторские приемы, с которыми он не расставался даже в личной беседе, а также систематическое навязывание неугодных ей лиц на посты министров. По словам биографа, Гладстон с бесконечным почтением противоречил каждому ее слову.
Иное дело – Дизраэли. Он публично заявлял в парламенте, что возглавляет правительство «милостью королевы»; он заверял Викторию, что высшей целью его жизни является исполнение ее желаний; он информировал ее о всех шагах кабинета. Он преподнес Виктории все свои сочинения; та, в качестве ответной любезности – рукопись «Страницы из дневника нашей жизни в горах»; Дизраэли обнаружил в сем творении «свежесть и благоухание» горных цветов и ветра. В разговоре он обронил фразу: «Мадам, мы, авторы…» Королева была польщена. Она усвоила привычку писать «своему дорогому Дизраэли» ежедневно и еженедельно присылать ему подарки, обычно цветы, весною – подснежники. С легкой руки Виктории было сочтено, что старец особо чтит этот цветок. И поныне в Великобритании существует «Лига подснежника», консервативная организация, созданная в честь и в память о Дизраэли.
В узком кругу премьер-министр определял свою тактику несколько иначе: «Никогда не возражать, ни в чем не противоречить, но кое-что забывать». Это помогало ему жить в полной гармонии с носительницей короны.
Конечно же, личные симпатии лишь на поверхностный взгляд играли главенствующую роль в этом странном содружестве. Главным же являлось совпадение политических воззрений. Оба, и королева, и министр, молились на империю. Дизраэли выступал глашатаем имперской идеи. С его именем связаны две акции кардинального значения во имя укрепления короны, во владениях которой, по тогдашнему ходячему выражению, никогда не заходило солнце.
В 1869 г. знаменитый французский инженер Фердинанд Лессепс закончил, на костях египетских феллахов-крестьян, прорытие Суэцкого канала. Через несколько лет египетский хедив Измаил, славившийся своей расточительностью, пришел к выводу, что ему надо срочно расстаться с контрольным пакетом акций – иначе грозит разорение. Биржа предвкушала «сделку века» – появление 117 тыс. бумаг на астрономическую по тем временам сумму в 4 млн. фунтов стерлингов (28 миллионов рублей). Французские дельцы торговались, стремясь заполучить лакомый кусок подешевле. А Дизраэли действовал. 20 ноября переговоры французов с хедивом были прерваны. Британский министр финансов Ст. Норткот сообщил премьеру, что достать столь огромную сумму без предварительного согласия парламента невозможно. Тем не менее 24 ноября кабинет, по настоянию Дизраэли, согласился на покупку. Личный секретарь Дизраэли Монтегью Корри, дежуривший у дверей, немедленно отправился к главе британской ветви банка Ротшильдов, лорду Лионелу. Тот поинтересовался, когда же понадобятся деньги. «Завтра», – был ответ. 25 ноября контракт был подписан в Каире, а 26 – 117 тыс. акций помещены на хранение в британское генеральное консульство. Оставалось оформить операцию через парламент, что было нетрудно, ибо обе палаты и обе партии, и пресса разных направлений единодушно приветствовала «дерзкий и своевременный акт». Так в руки англичан перешла основная водная артерия, соединявшая метрополию с Индией. Французская печать обрушилась с градом упреков на своих неповоротливых финансистов, но было поздно: Суэц «уплыл» у них из под носа. Произошло это в 1876 г.
Таинственный Восток влек к себе молодого Дизраэли – тем более, что предки вышли оттуда. На гонорар, полученный от публикации «Вивиана Грея» и при дотации со стороны отца он совершил путешествие по Средиземноморью, все еще в экстравагантном обличье: он было одет то жителем Андалузии, то греческим пиратом, обзавелся громадной трубкой… Освободительная война греков в его письмах отзвука не получила, хотя он побывал в Янине и в Албании.
Нанес он визит и родине пращуров, Палестине. Евреев он считал избранной расой. Затем в историю вписали свои имена греки и римляне, а в его, Дизраэли, время – британцы, основавшие Империю. Ее интересы – превыше всего. Прочие, десятки, сотни народов, должны повиноваться. Места в истории им не предоставлялось.
В 1876 г. Дизраэли добился провозглашения королевы Виктории императрицей Индии. Возражения оппонентов, – что это не соответствует традиции, предписывающей именовать монархиню «только» королевой, были преодолены. 1 января 1877 г. в Дели толпа усыпанных драгоценностями раджей и затянутых в мундиры и фраки «англо-индусов», офицеров и чиновников колониальной администрации приветствовала Викторию как наследницу великих моголов (правда, в ее отсутствие).
Ближневосточные и балканские дела Дизраэли, уже не как романтик, а как политик, рассматривал в имперские очки. Здесь пролегали важнейшие коммуникации, соединявшие метрополию с ее жемчужиной, индийскими владениями. Проливы охранял союзник, превращавшийся в клиента державы Османов. Что могло быть удобнее? Он говорил в парламенте: «Я утверждаю безусловно, что сохранение территориальной целостности и независимости Османской империи поможет спасти Европу от бедствий, предотвратить наступление длительных войн и такое нарушение расстановки сил, которое скажется неблагоприятно на общем благосостоянии, и в этом заключается не только английский, но и общеевропейский интерес».
Турция постепенно задыхалась в дружеских британских объятиях – торговый договор 1838 г. делал свое дело; товары с клеймом «Мэйд ин Инглэнд» прочно заняли первое место в ее импорте. Страна погружалась в болото финансовой зависимости от держав Запада. Османским сановникам и самим султанам неведомы были опасные, даже губительные последствия государственного долга. К продуктивному использованию полученных займов они решительно не были готовы. Обнаружив, что перед ними раскрыты денежные закрома, они пустились во все тяжкие. Султан Абдул-Меджид питал разорительное для страны пристрастие к строительству дворцов. Его преемник Абдул-Азис был одержим идеей создания могучего военно-морского флота, и полученные миллионы растрачивались на строительство броненосцев.
А итог? К 1876 г. займов было заключено 14; задолженность по ним превысила 6 млрд, франков. Около половины государственного бюджета приходилась на выплату процентов по долгам и их погашение. Открытый в Стамбуле Оттоманский по названию и англо-французский по капиталу банк получил право эмиссии банкнот и посредничества в государственных финансовых операциях. Турецкое правительство по сути дела утратило контроль над финансами страны.
В 1875 г. Порта объявила частичное государственное банкротство, в течение пяти лет обязавшись выплачивать лишь половину долгов наличыми. Но и это обещание было сорвано: в апреле 1876 г., когда наступил срок очередного платежа, заимодавцы не получили ничего. Кредиторы в Англии, особенно мелкие и средние, вложившие свои средства в турецкие бумаги, ворчали. Но на государственном уровне отношения оставались безоблачными – Османская империя чем дальше тем больше превращалась в клиента Британской…
Лишь одно темное пятно, с точки зрения Лондона, омрачало их: непрекращавшиеся волнения подвластных Турции народов, стремившихся взломать стены темницы. Дизраэли не повезло: не прошло и года после его прихода к власти, как в 1875 г. Началось восстание в Боснии и Герцеговине. Жизненный опыт подсказывал ему, что заплатками реформ повстанцы не удовлетворятся, что целью их является полное освобождение. Вырисовывались и контуры решения: боснийцы тяготели к объединению с Сербией, герцеговинцы – с Черногорией. Летом 1875 г. оба эти княжества вступили в войну с Портой. Взволновалась общественность России, близко к сердцу принимавшая страдания южных славян, причем сочувствие это сразу же стало принимать действенные формы: активизировались славянские комитеты, собирались средства на вооружение сербам и черногорцам, снаряжались санитарные отряды, на театр военных действий потянулись добровольцы, причем в немалом числе (5 тысяч – в сербскую армию). Немало офицеров взяли отпуск из своих частей и отправились воевать на Балканы; правительство, считаясь с настроениями общественности, сохранило им звания и выслугу лет в русской армии.
Зашевелилась европейская дипломатия. Восточный вопрос, по воле народов, вновь встал на повестку дня. Зимний дворец обуревали сомнения и колебания: со времени Крымской войны прошло всего 20 лет; призрак европейской коалиции против России довлел над сановниками, не исключая канцлера А. М. Горчакова, и самого царя. Субъективно они желали успеха поднявшимся славянам; объективно – пугались последствий разразившейся бури. Русская дипломатия начала маневры, имевшие целью добиться европейского, на базе общего согласия, решения вопроса. Редко когда затрачиваемые усилия приносили столь жалкие плоды; воистину, гора рождала мышь, ибо сочиненные в Петербурге проекты преобразований в Боснии и Герцеговине подвергались правке в Вене, где из них выбрасывались наиболее ценные для населения пункты; затем они поступали в Лондон, где подвергались дальнейшей чистке и превращались в обращенную к султану просьбу о проведении умеренных реформ.
Дизраэли в частной переписке выражал недовольство по поводу медлительности и нерасторопности турок, которые никак не «закроют» Восточный вопрос простейшим способом – расправившись с повстанцами и пришедшими к ним на помощь сербами и черногорцами: «Это ужасное герцеговинское дело можно было уладить в неделю… обладай турки должной энергией».
Но из «европейского концерта» Великобритания не выходила: опыт, накопленный со времен Каннинга, говорил, что лучше тормозить дело изнутри, нежели противодействовать ему извне… Поэтому министр иностранных дел граф Э. Дерби в общей форме поддержал так называемую ноту Андраши (названную так по имени его австро-венгерского коллеги), предусматривавшую введение свободы вероисповедания в Боснии и Герцеговине, отмену откупов при взимании налогов, улучшение положения крестьян, амнистию повстанцам, – и все это на основе добровольного акта султана, на что существовали весьма слабые надежды.
Русский посол Петр Анреевич Шувалов, на которого были возложены хлопоты по привлечению Великобритании к «концерту», жаловался на полное равнодушие Лондона к судьбе балканских христиан: «В то время как вся Европа…занята осложнениями в Боснии и Герцеговине, создается впечатление, что Англия игнорирует ситуацию, чреватую столь большой опасностью, и не проявляет интереса к дальнейшему развитию восточного кризиса». Лорд Дерби, в качестве конституционного министра, отравился сопровождать королеву Викторию на курорт Баден-Баден. Затем наступили пасхальные праздники, и члены кабинета, согласно обычаю, разъехались по поместьям. Вернувшись в Лондон, лорд Дерби проводил время у постели умиравшей матери, а его заместитель наотрез отказывался вести какие-либо переговоры по волновавшему посла вопросу.
Не молчала печать. Органы, выражавшие взгляды партии премьер-министра, консервативной, выражали недовольство давлением, будто бы оказываемым на Порту. «Морнинг пост» осудила «вмешательство» в турецкие дела, да еще «в хвосте у Священного союза». Правительству следовало отвергнуть ноту, кабинеты Франции и Италии последовали бы его примеру, и «сочинители этой хитро придуманной торпеды взорвались бы от собственной петарды». Дизраэли не остался глух к критическим голосам. Когда «три двора» (Петербурга, Вены и Берлина) выработали очередной архиумеренный документ – Берлинский меморандум, Дизраэли отказался к нему примкнуть, умело разыграв при этом возмущение: Англию-де третируют как второстепенную державу, предлагая подписать сочиненный без ее участия документ. До невероятия преувеличивая значение обструкционистского шага премьера, консервативная «Дейли телеграф» писала: «История, возможно, усмотрит в этом спокойном и бесстрашном акте один из поворотных пунктов современной цивилизации, восстанавливающих справедливую и честную игру в Восточном вопросе».
Но пока что российская дипломатия сидела у разбитого корыта своих европейских маневров. Шувалов печалился: «Больно смотреть, как мало интереса вызывает здесь участь христиан». Сочувственных речей хоть отбавляй, но все это – «явное пустословие». Беда царизма заключалась в том, что «единство» трех дворов существовало лишь в экзальтированном воображении некоторых западных газетчиков. На самом деле Андраши и Бисмарк руководствовались собственными, глубоко корыстными интересами, отнюдь не совпадавшими даже с умеренной, но все же ставившей целью облегчение положения христианских народов линией Петербурга. Чудес на свете не бывает. Австро-Венгерская монархия была и осталась врагом их освобождения, и на Уайт-холле, конечно, знали об этом. Во время одной из бесед с Шуваловым граф Дерби, видимо, не без удовольствия, ознакомил русского с телеграммой Андраши, в которой об автономии Боснии и Герцеговины говорилось как о мере «практически неосуществимой» в виду «незрелости населения». Однако габсбургские политики не менее британских опасались самостоятельных шагов России – что обычно приводило к войне – и считали сотрудничество (если в данном случае это слово применимо к ситуации) с нею необходимым не для продвижения, а для торможения вопроса, для поисков комбинации, приемлемой как для Вены, так и для Стамбула.
Иными мыслями руководствовался Бисмарк. «Железного канцлера» крайне тревожил неожиданно быстрый подъем Франции после разгрома 1871 г. Определенные круги в Париже уже вынашивали мечту о реванше. В 1875 г. Бисмарк спровоцировал первую из серии «военных тревог»: немецкая печать начала крикливую кампанию против соседней страны; в Берлине задумались – а не добить ли врага, пока тот не встал на ноги? Как раз в те поры в германскую столицу пожаловал царь Александр II в сопровождении Горчакова. Императору Вильгельму и Бисмарку было дано понять, что. немым свидетелем нового разгрома Франции Россия не останется. Горчаков известил дипломатический мир о состоявшихся беседах в привычных для него осторожных и сдержанных тонах. Печать, однако, приписала ему выражение «теперь мир обеспечен».
Этого Бисмарк не простил Горчакову. Отношения между ними, и прежде холодные, переросли во вражду. В смысле политическом «железный канцлер» сделал вывод: Россию надо занять на Востоке, чтобы она не мешала на Западе, и началось систематическое подталкивание ее к войне с Турцией, прикрываемое рассуждениями об отсутствии у Германии интересов на Балканах.
Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы топтание на месте дипломатии, не вмешайся вновь в события балканские народы. В конце апреля 1876 г. вспыхнуло могучее восстание в Болгарии, превосходившее по подготовленности и размаху все то, что происходило раньше на древней земле. Не отдельные четы отважных храбрецов ринулись в схватку, а весь народ. «Апостолы», руководимые единой организацией, заранее и тщательно готовили выступление. На знамени повстанцев реяли гордые слова «Свобода или смерть!», и сам этот лозунг говорил о том, что компромисса в виде отдельных реформ они не принимали. Центром движения стали южные районы – Пловдивский округ, – находившиеся в непосредственной близости от сердца империи, Стамбула.
На этот раз османские власти, как бы следуя наставлениям из Лондона, проявили «энергию» и «расторопность», от которых содрогнулся мир. Каратели огнем и ятаганом прошли по восставшим городам и селам. Население во многих местах было вырезано от мала до велика, число жертв простиралось до 30 тысяч.
В Стамбуле Британию представлял сэр Генри Эллиот, дипломат старой, крайне консервативной закалки, блюститель «имперских интересов», несмотря ни на что. Свою точку зрения он, в доверительной переписке, выражал с шокирующей откровенностью: «Я разделяю убеждение выдающихся государственных деятелей, определявших нашу внешнюю политику, что эти интересы настоятельно требуют предотвратить распад Турецкой империи. Создается впечатление, что ныне ему изменили мелкие политики и лица, позволяющие себе, под воздействием чувства возмущенной гуманности, забыть о фундаментальных вопросах. Мы можем и даже должны негодовать в связи с ненужной, чудовищной жестокостью, с которой было подавлено недавнее болгарское восстание; но для Англии существует настоятельная необходимость предупредить пагубные для нее события, независимо от того, 10 или 20 тыс. людей погибли в ходе подавления».
В официальных депешах Эллиот взял под защиту карателей: вести о расправах над болгарским населением, поступавшие из русских источников и от самих болгар будто бы «чудовищно преувеличены»; необходимо, «не жалея усилий», добиться «быстрейшего подавления движения». На тревожные запросы в парламенте Дизраэли (только что получивший титул графа Биконсфилда и виконта Хьюэндена, а потому перекочевавший – в палату лордов) ответил, что не располагает сведениями, подтверждающими вести о кровопролитии.
Однако существовали каналы информации, которые премьер-министр был не в силах перекрыть. Первые беглые заметки о восстании промелькнули в майских номерах газет. В июне-июле пресса подробно, и в целом объективно, освещала его подавление. На месте событий побывал корреспондент «Дейли ньюз» Э. Пирс, американские журналисты Дж. А. Макгахан и Ю. Скайлер; последний вместе с русским вице-консулом в Филиппополе (как тогда именовался Пловдив) А. Н. Церетелевым составил отчет, вышедший в августе в Одессе отдельной брошюрой.
В Британии вести о зверствах на далекой болгарской земле, происходивших при молчаливом согласии кабинета, произвели впечатление взорвавшейся бомбы. Негодованию общественности, казалось, не было предела. С июля по декабрь созывались митинги, принимались резолюции, направлялись петиции правительству, парламенту, королеве с требованием воздействовать на турецкого союзника. В кампании принял участие цвет интеллигенции – Чарльз Дарвин, философ Генри Спенсер, поэты Вильям Моррис и Роберт Браунинг. В хоре протестов прозвучал голос британского пролетариата. Лорду Дерби в здании Форин оффис пришлось заниматься непривычным делом – принимать петиции и выслушивать требования делегаций, крайне пестрых по составу и представлявших широкий круг общественности – от «Лиги помощи турецким христианам» и сельскохозяйственных рабочих до дельцов Сити. Между прочим, визит министру нанесли 40 парламентариев, представлявших основные промышленные центры страны. Они вручили главе внешнеполитического ведомства бумагу, под которой стояли подписи 470 видных промышленников и финансистов, с требованием отказа от поддержки турецких властей. Посетил Дерби и лорд-мэр столицы, вручивший адрес с порицанием «прежней внешней политики в отношении Турции и Востока». Торговые круги явно тревожились за судьбы выгодной коммерции с Россией. Недавний отказ Порты от выплаты платежей по долгам был воспринят финансовыми магнатами и индустриальными воротилами как своего рода предупредительный сигнал – нельзя возлагать слишком большие надежды на сношения с государством, переживавшим глубокий застой.
Волна общественного негодования побудила взяться за перо Вильяма Гладстона, самого именитого из противников Дизраэли. Мы не вправе бросить и тени сомнения на искренность чувств, им руководивших. Но существовали обстоятельства, придававшие особый сарказм его стилю, особую горечь его эпитетам, особую силу его доказательствам.
Гладстон и Дизраэли лично находились в самых неприязненных отношениях; колкие выпады, которыми они обменивались, служили излюбленной пищей карикатуристов из журнала «Панч». Выборы 1874 г. принесли торжество консерваторам. Поверженный наземь Гладстон должен был отказаться от лидерства в либеральной партии, это место занял вполне бесцветный лорд Хартингтон; казалось, политическая звезда Гладстона закатилась, ему ведь перевалило за шестьдесят пять… А тут представился случай возглавить общественный протест и вернуть себе утраченную популярность.
Гладстон уединился в своей загородной резиденции – сделать сие было нетрудно, ибо жестокий приступ ревматизма на несколько недель приковал его к постели. Так родился памфлет «Ужасы в Болгарии и Восточный вопрос», одно из лучших произведений британской изобличительной литературы, а она знает немало вершин. Огненными фразами клеймил автор порядки (точнее беспорядки), царившие в Османской империи, и прикрывавшее их правительство консерваторов. В течение месяцев, – писал Гладстон, – общественность снабжали аптекарскими дозами информации; тем временем в болгарских городах и селах османские солдаты и башибузуки творили расправу без суда. Лишь 31 июля, под конец парламентской сессии, было выделено время для обсуждения болгарских дел. Дизраэли выдавил из себя признание: «Признаю, что все зверства в Болгарии, о которых говорили в палате, действительно имели место, и все они совершены одной стороной». Прения удалось скомкать: наступал спортивный сезон, лорды и депутаты спешили в загородные виллы – стрелять лисиц и фазанов. «Счастье для нас, что сессия на последнем издыхании», – признавался премьер-министр в письме к своей приятельнице леди Брадфорд. Кабинет отделался испугом, а «Великобритания, – по словам Гладстона, – оказалась морально ответственной за самые низкие и черные преступления, совершенные в нашем столетии».
В своем памфлете Гладстон доказывал, что упорное, длившееся десятилетиями противодействие Лондона естественным процессами в Юго-Восточной Европе противоречит ее же интересам: если среди народов региона укоренится убеждение, что «Россия – их опора, а Англия – враг, тогда Россия – хозяин будущего Восточной Европы». Препятствия, воздвигаемые на пути осуществления русских предложений, разоблачают Великобританию с самой невыгодной стороны. Английская общественность приходит к выводу, что защита Османской империи «означает возможность безнаказанно творить безмерные дикости и удовлетворять разнузданные и бесовские страсти». Заканчивался памфлет на резкой ноте: пусть османские власти «со всеми своими пожитками» убираются из провинции, которую они осквернили; это единственное, что остается сделать «во имя памяти толп убитых, поруганной чистоты матрон, девиц и детей, во имя цивилизации, которую они попрали и опозорили, во имя законов Господа, или, если хотите, Аллаха, и общечеловеческой морали».
Памфлет разошелся мгновенно: понадобилось много переизданий, чтобы насытить им многоязычный рынок; он был переведен на много языков, включая русский. Упиваясь сарказмом автора, переживая вместе с ним, читатели как-то упускали из виду, что позитивные предложения громовержца никак не соответствовали степени его благородного негодования: он полагал нужным ограничиться введением в восставших провинциях местного самоуправления, не посягая на принцип целостности султанских владений. От лозунга болгарских повстанцев– «свобода или смерть» это было – как земля от неба.
Гладстон не был одинок в своих размышлениях насчет необходимости повернуться лицом к Балканам, как лучшего способа завоевать на свою сторону симпатии жителей, и перестать нянчиться с Турецкой державой. В 1876 г. Хэнбери говорил в палате общин о времени, когда «славянское население будет вовлечено в политическую жизнь Европы, и превратится в великий оплот на юге против России», а Форсайт мечтал о создании «пояса из 9 миллионов человек к югу от России, отделяющего ее от Турции». Замысел был многоцелевым: воздвигнуть, в новом варианте, преграду влиянию России; пойти в определенной степени навстречу пожеланиям балканцев – но так, чтобы не рушить каркас Османской империи; и, о чем говорилось мало, но что подразумевалось – создать поле для приложения британского капитала.
Развития эти планы не получили; для претворения их в жизнь необходимо было либо равновесие сил восставших и Порты, либо сотрудничество с Россией. Между тем, турки быстро расправились с Болгарией, сербская армия терпела неудачи, боснийско-герцеговинские повстанцы находились в тяжелом положении, и, главное – народы не принимали ограниченной схемы местного самоуправления. О принудительных мерах против Турции, вроде морской демонстрации, отказа в кредитах или жесткой позиции по вопросу о займах влиятельные политические круги и сама королева и слышать не хотели.
Комбинация с Россией отвергалась с порога – она вела к усилению влияния последней, как показывал опыт далекого, но не забытого 1829 года.
Но и стоять намертво на позиции: «Не тронь интересы Порты!» не представлялось возможным, а пренебрегать настроениями общественности становилось опасно. В августе 1876 г. Генри Эллиот получил от своего шефа телеграмму следующего содержания: «Негодование во всех классах английской общественности достигло такого предела, что… в том крайнем случае, если Россия объявит войну Турции, правительству е. в. будет фактически невозможно вмешаться с целью защиты Османской империи».
Возглавляемое Дерби ведомство пробудилось от спячки и захлопотало, ибо резко активизировалась русская политика, и события разворачивались по варианту, схожему с тем, что происходили за полвека до описываемого в двадцатые годы. Изверившись в возможности совместной с «Европой» акции, Петербург вступал на путь единоличных действий. «Новинкой», по сравнению с давними годами, было значительное воздействие широких кругов общественности на внешнеполитический курс правительства. Традиционные чувства солидарности с этнически и религиозно родственными славянскими народами слились с негодованием по поводу чудовищных жестокостей карателей, ареной которых стали Балканы. Армия отвергала мысль о том, чтобы отсидеться в кустах, пока турки на Балканах не достигнут «умиротворения». Влиятельный военный министр Д. А. Милютин 27 июля 1876 г. записывал в своем дневнике: «…У каждого порядочного человека сердце обливается кровью при мысли о событиях на Востоке, презренной политике европейской, об ожидающей нас близкой будущности». Правительство подталкивали к войне. Консервативные круги мечтали с ее помощью восстановить и укрепить влияние царизма на юго-востоке континента. Демократы связывали освобождение славян с прогрессивными социальными преобразованиями на их землях, усматривая в них прообраз того, что надо осуществить на Родине. Подобного массового энтузиазма не было со времени Отечественной войны 1812 года – а ведь тогда надо было защищать свой кров. Сбор пожертвований происходил по подписным листам, в церковные кружки, в редакциях газет и журналов, на спектаклях и музыкальных вечерах. Выдающиеся ученые и художники передавали на дело славян свои гонорары. Константин Маковский на очередной выставке передвижников показал свою картину «Болгарские мученицы», мгновенно ставшую знаменитой. Добровольческое движение охватило и революционеров, желавших приобрести боевой опыт, и кадровых офицеров русской армии.
В Англии интересы России в это время представлял Петр Андреевич Шувалов, выходец из древнего и знатного рода. Консерватор и реакционер во внутриполитических делах, бывший шеф жандармов, он в то же время обладал известной широтой кругозора в том, что касалось международной политики. Манеры светского человека, общительность, приятная внешность, помогали ему проникать не только в кабинеты министров, но и в салоны их супруг. В высших сферах Лондона его стали именовать просто «Шу», а добиться подобного было нелегко. Исследователя, знакомящегося с его депешами, и по сей день поражает степень его осведомленности в британских правительственных делах: его донесения чуть ли не текстуально передавали не только решения кабинета, но и ход прений, и мнения отдельных выступавших в них, хотя это нигде не фиксировалось, кроме частных записей. Злые языки (а таковые встречаются и среди современных историков) приписывают осведомленность посла не его дипломатическому искусству, а мужскому обаянию, перед которым не устояла леди Дерби, жена министра иностранных дел.
Мы склонны объяснять феномен из ряда вон выходящей откровенности четы Дерби в беседах с послом другими причинами – их взглядами на отношения с Россией. Оба опасались войны с нею. Позднее, выйдя из кабинета и обретя свободу высказывания, граф Дерби на заседании парламента изложил свою точку зрения так: как Россия не бедна, она обладает обширной территорией, достаточными продовольственными ресурсами и многомиллионным населением. Британский флот может блокировать ее берега и прервать морскую торговлю. Но что дальше? Товары станут перевозиться сушей, по континенту. Вторжение россияне воспримут как национальную угрозу, и поднимутся против захватчика. Вывод – Англия и Россия могут воевать бесконечно, не нанося друг-другу решающего удара. А самая бессмысленная война – это та, что длится много лет, обходится дорого и не приносит результатов. Значит, в своих действиях не надо переступать черты, за которой следует разрыв и «последний довод королей», т. е. вооруженная схватка.








