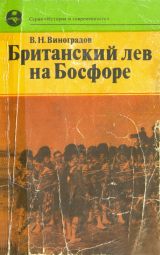
Текст книги "Британский лев на Босфоре"
Автор книги: Владилен Виноградов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Окрыленный Мустафа Решид в первой же депеше из Лондона предлагал возлагать надежды на Англию, и не прибегать к помощи России при сведении счетов с Египтом, – последняя, опираясь на Ункяр-Искелессийский договор, постарается еще больше расширить свое влияние.
Затрагивался в беседах маститого политика и молодого турка и такой животрепещущий сюжет как проведение реформ в Османской империи. Британская и американская историография исследовала его, можно сказать, вдоль и поперек, явно стремясь продемонстрировать благие плоды сотрудничества двух держав. Итоги не вполне соответствовали затраченным усилиям. Так, Ф. Бейли не обнаружил у Пальмерстона следов интереса к преобразованиям в Турции, каковой, видимо, должен был обуревать пылкого защитника либеральных принципов и народовластия. «Почему Пальмерстон не поощрял открыто конституционную реформу в Оттоманской империи – этот вопрос долго ставил в тупик исследователей англо-турецких отношений», – свидетельствовал Бейли.
Ответ прост и однозначен: Лондон рассматривал султанское государство как антирусский форпост. По словам самого Пальмерстона, «мы поддерживаем Турцию ради себя и наших собственных интересов». Три вещи, тесно взаимосвязанные, заботили Уайт-холл: войска, флот, финансы. Чтобы содержать вооруженные силы, нужны были деньги; а чтобы получить деньги, необходимо было перетряхнуть всю многоступенчатую, насквозь прогнившую, пораженную взяточничеством и казнокрадством систему управления. Два человека, которые представляли Великобританию в Константинополе пятьдесят лет и способствовали превращению Турции из великой державы в смиренного должника Запада, Чарльз Стрэтфорд-Каннинг и Джон Понсонби, свидетельствовали об этом с полным единодушием: «Главное и, возможно, непреодолимое препятствие созданию большой национальной армии в стране состоит в необходимости внедрить одновременно новую систему администрации» (Ч. Стрэтфорд); если бы Османская империя «хорошо управлялась, мы нашли бы у нее достаточно сил для… поддержки в борьбе с Россией» (Д. Понсонби). Развязать кошелек банкиры Сити не спешили – переговоры о займе в 3 млн. ф. ст. (1838 г.) окончились безрезультатно – слишком ненадежным представлялся клиент. Зато с величайшей готовностью предлагались услуги офицеров в качестве инструкторов турецкой армии.
Правда, обещая «дружескую благосклонность», Пальмерстон избегал конкретного определения ее границ. С грузом выражений симпатии и обещаний Мустафа Решид возвратился в Стамбул и занял недавно учрежденный пост министра иностранных дел. Он верил, что заручился военной помощью британского кабинета против Мухаммеда-Али.
Порта избегала открыто недружественных жестов в отношении России. Она как бы резервировала возможность обращения в Петербург, несмотря на малую вероятность успеха: к наступательному союзу, цели которого находились в вопиющем противоречии с вековыми постулатами его политики на Балканах и Ближнем Востоке, российское правительство относилось резко отрицательно. Способствовать упрочению в аравийских песках подгнившей османской власти оно не собиралось. Тщательно соблюдался принцип – не связывать себя гарантией территориальной неприкосновенности владений Порты. Предпринимавшиеся турецкой стороной попытки придать Ункяр-Искелессийскому договору черты наступательного союза встречали в Петербурге вежливый, но твердый отказ. Факты растущего отчуждения двух стран множились.
Во второй половине тридцатых годов влияние России в Стамбуле начало резко падать; британское, напротив, находилось на подъеме. Реформаторы, по понятным причинам, обращали свои взоры не к отсталому самодержавному государству, а к тем странам, что привлекали экономической мощью, морским могуществом, политической устойчивостью, гибкой системой управления. Часть турецких сановников старого закала продолжала придерживаться прорусской ориентации. Но и султан Махмуд II, и его окружение не верили в долговечность «нового курса» Петербурга и искали покровителей, как им представлялось, побезопасней, и, главное, способных помочь в достижении заветной цели – привести к покорности, а желательно и сместить ненавистного египетского пашу. Так создавалась сказочно благоприятная обстановка для маневров Пальмерстона и его агентов на Ближнем Востоке.
Удалось достичь того, к чему давно стремились купцы и промышленники, связанные с Левантом: распахнуть торговые ворота с помощью необыкновенно выгодного для Британии договора. После наполеоновских войн, когда европейские страны одна за другой огораживались стеной высоких пошлин, английские товары нарастающим потоком хлынули в османские владения: с 1825 по 1835 г. экспорт вырос в два с половиной раза, с 1,1 до 2,7 млн. ф. ст. в денежном исчислении (а импорт из турецких владений даже сократился – с 1,2 млн. ф. ст. до 900 тысяч). Росло стремление создать еще более широкие возможности с помощью межгосударственного соглашения. До поры до времени осуществлению этих замыслов мешали традиции исламского изоляционизма, недоверие к «гяурам», страх за судьбы восточного ремесла. Генри Булвер-Литтон, первый секретарь посольства, справедливо полагал, что для заключения акта, дающего «иностранцам широкий набор торговых привилегий в Турции», нужно уловить благоприятный момент. С возвращением в Стамбул в 1837 г. Мустафы Решида, ставшего тогда же пашой, Пальмерстон приобрел здесь влиятельного ходатая по британским делам. Идея-фикс султана насчет реванша делала его податливым в отношении британских демаршей.
Булвер сумел найти наиболее убедительный в глазах турок аргумент в пользу договора: он будет распространен на Египет и подорвет экономическую автаркию, а тем самым и могущество Мухаммеда-Али. В депеше, направленной в Форин оффис, Булвер выражал уверенность, что султан, испепеляемый ненавистью к своему вассалу, подпишет «любой договор» с Англией, лишь бы сокрушить египетского владыку. Булвер писал: «Ни один министр, которому дорог его пост, на осмелится сказать султану ничего другого, как только то, что Мухаммед-Али должен быть разбит». Так, воспользовавшись конъюнктурными политическими соображениями и личными чувствами султана, англичане преодолели последние сомнения своих турецких контрагентов и побудили их подписать документ, многие десятилетия пагубно влиявший на судьбы страны.
Хотя под конвенцией от 16 августа 1838 г. стояли подписи Решида-паши и лорда Понсонби, акт, ими скрепленный, являлся по сути дела односторонним и вопиюще несправедливым. Одна Турция принимала на себя обязательства; подданным Великобритании достались все права, о турецкой торговле во владениях ее величества не было упомянуто хотя бы из приличия, – второпях об обходительности забыли. Договор сохранял все прежние привилегии и иммунитеты англичан (включая консульскую юрисдикцию, что освобождало их от местного суда). Размер ввозных пошлин устанавливался в 5 % – что на практике означало беспрепятственное проникновение товаров с клеймом «Мэйд ин Инглэнд» на османский рынок; вывозные пошлины, падавшие главным образом на турецких подданных, повышались до 12 %. Дремуче отсталой стране была навязана «свобода торговли» с первой промышленной державой того времени. Д. Авджиоглу характеризует документ кратко: «Великий Решид-паша подписал Турции смертный приговор».
В отличие от турецкого автора советские исследователи дают конвенции не столь однозначную оценку: она способствовала росту торгового оборота, таможенных доходов, развитию товарно-денежных отношений; обязательство Порты отменить откупную систему и монополии на продажу некоторых сельскохозяйственных продуктов способствовало слому феодальных перегородок, наносило оно и удар по финансовому положению Мухаммеда-Али, извлекавшего значительную часть своих доходов от продажи торговых монополий. Но все это – ценой отказа от хозяйственной самостоятельности, от надежды стать когда-либо промышленно развитым государством. Экономика попала в зависимость от западных стран (ибо последовали аналогичные конвенции с Францией и Австрией), и страна быстро, за какие-нибудь три-четыре десятилетия докатились до полуколониального состояния. Всего этого, конечно, не сознавал патриотически настроенный Решид-паша, ставя свою подпись под бумагой, скромно именуемой торговой конвенцией, и воображая, что он заручился поддержкой могущественной «мастерской мира» и «владычицы морей» не только для сокрушения врага, но и в деле созидания новой Турции. Все это свидетельствует об ограниченности воззрений реформаторов; они и не подозревали, что помогают затягивать финансовую удавку на турецкой шее.
Велики были приобретенные Лондоном политические преимущества: наметилась внешнеполитическая переориентация Порты; российское влияние колебалось и порой даже поднималось, но уже никогда не становилось преобладающим; первое место в дипломатическом мире Константинополя прочно заявил посол ее британского величества; Турция поплыла в направлении, проложенном конвенцией 1838 года. И случилось все это не в результате проигранной военной кампании и даже не из-за дипломатической неудачи. Россию представлял в Стамбуле Аполлинарий Петрович Бутенев, знаток восточных дел, способный по крайней мере на равных сражаться со своими английскими оппонентами. Так, в 1837–1838 гг. Пальмерстон вздумал нахрапом выйти на господствующие позиции в Сербии. Его интрига кончилась провалом, и назначенный консулом в Белград полковник Дж. Ходжес удалился за Дунай и Саву в австрийские пределы столь поспешно, что это напоминало бегство. Россия обладала на Балканах сетью консульских агентов, служивших не за страх, а на совесть. Небольшие городки, скромное провинциальное существование не привлекали сюда молодых карьеристов из высшего света. Здесь тянули лямку скромные чиновники, во многих случаях греческого происхождения, симпатизировавшие местному христианскому населению, старавшиеся в меру своих возможностей облегчить его участь – недаром Пальмерстон ставил их в пример своим агентам – и поставлявшие в Петербург ценную информацию, – ведь и сейчас наши отечественные архивы служат своего рода Меккой для исследователей из балканских стран.
Причина наступившего заката влияния России крылась в неодолимой силе обстоятельств. Царизм ничего не мог противопоставить морскому и финансовому могуществу Великобритании, ассортименту западных промышленных товаров, притягательности буржуазной идеологии для турецких реформаторов. Он проиграл сражение, без боя.
Пальмерстон умело использовал реваншистские идеи Махмуда для того, чтобы окончательно и бесповоротно перетянуть его на свою сторону, не обещая ему при этом ничего конкретного. Был пущен в ход превосходно отработанный британской дипломатией тактический прием: посол – в данном случае Понсонби, – с видом полного сочувствия внимал планам сокрушения ненавистного египтянина. Потом, при переговорах с Пальмерстоном, у министра возникали оговорки; но было уже поздно: клиент бился в британских сетях.
Порта спешила ковать железо, пока горячо (по крайней мере так представлялось разгоряченным головам в Стамбуле). В ноябре того же 1838 г. Решид-паша, напутствуемый добрыми пожеланиями Понсонби («Я очень надеюсь, что Ваша миссия увенчается успехом»), отправился в Лондон – получать награду в виде наступательного союза. Пальмерстон принял его сердечно, но дал понять, что записываться в подручные султана для укрепления его власти не собирается. Единоличное вмешательство Англии в конфликт могло привести к крупным коллизиям: Франция могла вступиться за своего египетского протеже, а Россия – вмешаться, воспользовавшись формально не отмененным Ункяр-Искелессийским договором. Полгода продолжалось сидение на берегах Темзы турецкого посланца. Наконец, в марте 1839 г. глава Форин оффис разомкнул уста. Он прислал Решиду проект договора, ни в коей мере не отвечавшего турецким вожделениям: совместное англо-османское морское выступление предусматривалось в случае, «если паша объявит независимость или умрет, а его дети не под-, чинятся воле султана». Разочарование в Стамбуле было велико: предложение Пальмерстона «обрекает Турцию на бесконечное выжидание», – заметил исполнявший обязанности министра иностранных дел Нури-эффенди. Не того ожидали рвавшиеся в бой сановники Порты…
21 апреля 1839 г. рассудку вопреки, наперекор стихиям османские войска переправились через Евфрат и напали на армию Ибрагима.
Русский флот –
затворник Черного моря
Злой рок преследовал на сей раз султанские войска даже с большим постоянством, нежели в 1832 г. Состояли они в значительной части из малообученных туркмен и курдов, не желавших сражаться. Трех прусских военных советников, включая молодого капитана Гельмута фон Мольтке, командующий Хафиз-паша не слушался. Рекомендация Мольтке – отойти на более выгодную позицию, – была отвергнута: любое отступление позорно для воинов халифа. Зато при паше состоял целый штат из мулл, улемов и астрологов. Хафиз-паша отклонил идею ночного нападения на лагерь Ибрагима, ибо, как писал русский консул в Палестине К. М. Базили, «имамы ему представили, что правоверные воины должны идти на битву при дневном свете, а не во мраке ночи, будто тати».
24 июня, при ярком дневном свете турецкие войска были разгромлены в Сирии под Низибом. С трудом удалось спасти артиллерию – атаку арабской конницы на пушки отбили казаки-некрасовцы, служившие под османскими знаменами.
Когда гонцы с вестью о поражении прискакали в Стамбул, Махмуда II уже не было в живых. В правящих кругах империи царила паника. 4 июля сильная турецкая эскадра (8 линейных кораблей, 12 фрегатов, 11 малых судов) вышла в море – якобы к сирийским берегам. 16 июля флот оказался на рейде египетской столицы Александрии. Капу-дан-паша Ахмед-Февзи, пользуясь растерянностью офицеров и матросов, сдал неприятелю эскадру. Турция лишилась и армии, и флота и, казалось, лежала беззащитной у ног завоевателя. В страхе Порта решила задобрить грозного пашу. Шестнадцатилетний султан Абдул-Азиз пожаловал мятежнику высокий орден «Славы» и поспешно издал указ на право наследственного владения Египтом. Мухам-меду-Али этого было мало; он потребовал для себя и своих потомков Сирию, Киликию, Юго-Восточную Анатолию, Аравию и остров Крит – чуть ли не половину империи.
Сигнал избавления прозвучал из посольств. 27 июля Порта получила коллективную ноту, сообщавшую о достижении «согласия между пятью державами по Восточному вопросу», и предлагавшую «воздержаться от какого-либо окончательного решения без их участия, выждав результаты интереса, который они к нему проявляют».
Демарш означал ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Османской империи, прямое посягательство на ее право самой решать свою судьбу. Но сановникам Порты было не до гордыни; великий визирь Хусрев уцепился за демарш держав как утопающий за соломинку.
Обращает на себя внимание и другое: почему европейский «концерт», больше напоминавший котел бурлящих разногласий, вдруг проявил, по крайней мере по видимости, столь трогательное единодушие? На сей раз противоположности сошлись, и пять послов уселись за стол совещаний – но каждый, так сказать, с камнем за пазухой.
Зимний дворец разочаровался в Ункяр-Искелессийском договоре, который не помешал продвижению соперников. Розовые мечты, связанные с его заключением, развеялись как дым. Турки пытались, толкуя вкривь и вкось положения трактата, заручиться поддержкой карательной акции против Мухаммеда-Али. Наниматься в подручные по укреплению османской власти в местах, далеких от российских берегов и интересов, самодержавие не собиралось. Но и оставаться в стороне не годилось, – это означало безучастно взирать, как соперники прибирают к рукам Османскую державу. Хорошо осведомленная дипломатическая служба исправно доносила о тесных британо-турецких сношениях. Хотя с планом заключения наступательного союза и случилась осечка, нить переговоров не оборвалась. Шансов на повторение 1833 г. не существовало. Самоуверенный Николай I помышлял одно время о новом «прыжке» на Босфор. Нессельроде отговорил его от необдуманного шага: «Мы не можем помочь султану, не приготовившись к военным действиям против англичан».
Пока в Петербурге размышляли, Меттерних совещался с послами Англии и Франции. Стороны решили сосредоточить три эскадры у входа в Дарданеллы. «Что эта демонстрация больше направлена против России, нежели против Мухаммеда-Али, – пишет Чарльз Вебстер, – было ясно без слов». И, скрепя сердце, российская дипломатия уселась за общеевропейский стол.
Пальмерстон и его парижские коллеги на всю жизнь запомнили, как дорого им обошлась русская «самодеятельность» в 1833 г., сколько времени и сил пришлось затратить, чтобы свести на нет ее последствия. Выпускать российскую дипломатию, а еще хуже – армию – на оперативный простор они не собирались. Пальмерстон излагал свои опасения: «…Турецкие войска, возможно, потерпят поражение; русские бросятся султану на помощь; русский гарнизон займет Константинополь и Дарданеллы; а, заняв такие позиции, русские их никогда не покинут». Это никуда не годилось. Значит – надо было совещаться.
Веские причины побуждали Даунинг-стрит и Кэ д'Орсэ избегать взаимных раздоров. Британские политики традиционно, веками, мыслили категорией равновесия сил в Европе, – что позволяло господствовать на морях и поглощать колонии. Конкретно оно представлялось так: «морские государства», Великобритания и Франция, против «восточных абсолютистских монархий», России, Австрии и Пруссии. Расхождение с Францией означало утрату важнейшей фигуры в европейской политической игре – на кого же тогда опираться?
Да, Париж уже четверть века числился в открытых покровителях Египта, подобно тому как Лондон занимал ту же позицию в отношении Турции. Но на Кэ д'Орсэ понимали, что не французскому флоту бросать вызов англичанам на Средиземном море. Стало быть, интересы Мухаммеда-Али следовало защищать в меру возможностей, в рамках «концерта» и не ссорясь с Великобританией.
Летом 1839 г. наступила очередная смена русского посольского караула в Лондоне. Туда был назначен Филипп Иванович Бруннов, мелкопоместный прибалтийский барон с двадцатилетним стажем по министерству. Это был человек достаточно образованный, превосходный знаток французского языка, умелый составитель депеш и редактор протоколов. Столь полезные для дипломата качества сочетались у него с иными, не раз наносившими вред представляемой им стране. Это был царедворец с ног до головы, не смевший перечить повелителю, даже в тех случаях, когда умом ясно сознавал вредность монарших предписаний. «Никогда не встречал человека более робкого и раболепного. Император Николай представлялся ему призраком, преследовавшим его денно и нощно», – свидетельствовал австрийский дипломат Нойман, сталкивавшийся с Брунновым в «лондонские времена».
Увы! Подобные нравы стали не исключением, а правилом в российском государственном аппарате. «Народ онемел и спал с голоса…, – вздыхал Петр Андреевич Вяземский. – Теперь и из предания вывелось, что министру можно иметь свое мнение».
По части низкопоклонства Бруннов соперничал с Нессельроде. Атмосфера во внешнеполитическом ведомстве воцарилась удушающая: неуверенность в себе, сознание недостатков в образовании, осторожность, стремление согласовать свои шаги со знатью, отличавшие дипломатию Николая I в первые годы правления, были отброшены в сторону. Внешнеполитические успехи вскружили царскую голову, император уверился в собственной непогрешимости. Сотрудники, коим по должности надлежало давать ему советы, превратились в послушных исполнителей его предначертаний – иных к кормилу иностранных дел не подпускали. Таковыми были и вице-канцлер Нессельроде, и Бруннов.
Царь самолично продиктовал Бруннову инструкцию для переговоров в Лондоне. Тот должен был предложить закрыть Дарданеллы для военных судов всех стран и договориться об основах урегулирования турецко-египетского конфликта при участии русской эскадры в экспедиции к египетским берегам, буде такая состоится. На этих условиях Николай I соглашался прекратить действие Ункяр-Искелессийского договора.
Исследователи, отечественные и зарубежные, по разному объясняют причину столь крутого поворота в российской политике, ее перехода, можно сказать, к глухой обороне в вопросе о Проливах: царь ведь повторял британскую формулу 1809 г. Принимать во внимание официальную версию – будто намечаемая договоренность представляла расширенный вариант Ункяр-Искелесси, – невозможно за полной ее несуразностью; В МИДе вошло в обычай курить фимиам владыке по всякому поводу и даже без оного. На наш взгляд, объяснить (но не оправдать!) подобный шаг можно стремлением обезопасить черноморские берега. Таков был смысл предложенной формулы: «закрытие Дарданелл и Босфора как во время мира, так и во время войны провозглашается началом публичного права».
Как сумели царь и Нессельроде обмануть сами себя – остается загадкой: ведь Проливы закрывались фактически с одной стороны. Весь последующий опыт показал, что британский флот с санкции Порты мог появиться в Черном море совершенно беспрепятственно. Так и произошло через 15 лет еще до объявления войны, вошедшей в историю под названием Крымской.
В плане политическом выдвинутое Зимним дворцом предложение (бессрочное!) свидетельствовало об отсутствии каких-либо поползновений на Проливы и тем более – на Константинополь, в чем царизм обвиняли на каждом европейском углу.
Бруннов довольно красочно описал реакцию Пальмерстона при изложении ему царских мыслей (или, в данном случае – недомыслия): «Вы не можете себе вообразить, какое впечатление мое заявление произвело на лорда Пальмерстона. По мере того, как я раскрывал перед ним намерения нашего августейшего повелителя, черты его выражали столь же чувство изумления, как и восхищения». Было от чего!! Случилось нечто из ряда вон выходящее: соперник без боя и не потерпев поражения сдавал позиции и сам предлагал формулу режима Проливов, выношенную в Форин оффис!
И тем не менее переговоры на первом этапе сорвались. Царь хотел, чтобы, в случае необходимости, русские силы единолично появлялись у Стамбула для отпора Ибрагиму. Пальмерстон выражал желание послать в таком случае несколько судов под флагом «юнион джека» – якобы желая продемонстрировать солидарность. Он именовал подобную операцию «морским пикником в Мраморном море». Видеть британские фрегаты, даже в небольшом количестве, у стен сераля было превыше сил Николая Павловича. Он предпочитал послать русские корабли в сирийские и египетские воды, что в свою очередь, не радовало Пальмерстона.
И все же не «морской пикник» послужил причиной разрыва переговоров, а нежелание британского кабинета вступить в ссору, крупную и длительную, с Францией. Выработанная Пальмерстоном формула: Египет, окруженный пустынями, в наследственное владение Мухаммеда-Али, никак не устраивала Париж: победитель ни за что не согласится уйти из Сирии с пустыми руками; навязать британский план ему можно только силой. Король Луи Филипп заявил, что не найдет министерства, готового на принудительные меры против Мухаммеда-Али.
Иные вести поступали из Петербурга. Там с полным безразличием относились к тому, где пройдет демаркация владений Порты и Египта, лишь бы подальше от Балкан. Царь не возражал против выдворения египтян из Сирии. Происходил обмен любезностями, создававшими благоприятный фон для переговоров. Николай преподнес юной королеве Виктории, вступившей на британский престол в 1837 г., роскошную малахитовую вазу; цесаревич Александр Николаевич посетил Англию и был там принят не только с полагающимся этикетом, но и с признаками теплоты. На торжествах по случаю открытия памятников на Бородинском поле присутствовал британский посол Клэнрикард – в сложившейся ситуации его участие в торжествах вполне можно было истолковать как антифранцузскую демонстрацию.
Пальмерстон со свойственным ему самомнением полагал, что с Луи Филиппом и его министрами можно быстро справиться и поставить на место «маленький интриганству ющий Париж». Коллеги по кабинету не разделяли его оптимизма и опасались рушить «сердечное согласие» с Францией ради сомнительной дружбы с Россией. Что Николай I хочет вбить клин между союзниками, было видно невооруженным глазом. Бруннов на встрече с премьер-министром лордом Мелборном высказал мнение, что Великобритания является самым старым и верным другом России; собеседник не возражал. Но к дальнейшим речам посла он отнесся холодно: Бруннов заявил, что царь не считает законным существующее во Франции правление и «передает в руки провидения судьбу его и длительность», единственное желание императора – «чтобы Франция сидела смирно и не пыталась распространять вовне революционные доктрины, в ней господствующие». Вывод – действовать на Ближнем Востоке и заключить договор о Проливах без Парижа. К такому курсу премьер-министр не был готов.
19 сентября Пальмерстон сочинил меморандум о принудительных мерах против Мухаммеда-Али (посылка флота к берегам Сирии и, в случае нужды – высадка десанта; если Ибрагим перейдет в наступление – удар по нему с использованием русских войск в Малой Азии). Кабинет отверг план. Сообщая об этом Бруннову, Пальмерстон не счел нужным скрывать свое сожаление.
Посол собрался в обратный путь: «После четырех недель сражений, маршей и контрмаршей я возвращаюсь, цел и невредим, с оружием и багажом». Он не привык еще к британскому способу ведения дел, который посторонним казался дилетантским, – без многочасовых многолюдных заседаний, а в беседах за чашкой чая или во время уик-энда в поместье. Бруннову представлялось, что в делах полный застой: «Все в большом беспорядке. Главнокомандующего нет. Начальника штаба нет.» Первый лорд адмиралтейства Минто отправился стрелять гусей в Шотландию…
Французам Пальмерстон сообщил, что русский план отвергнут из уважения к их взглядам, и они заупрямились еще больше. Министр попытался протянуть французской общественности пряник, согласившись на возвращение на родину праха Наполеона Бонапарта: «Этот жест умилит общественное мнение на ближайшие месяцы и побудит этих взрослых детей меньше думать о прочих вещах». Останки Наполеона были перевезены в Париж и под приветственные клики многотысячной толпы помещены в Пантеон. Но глава правительства Адольф Тьер на компромисс не шел: Сирию нельзя разрубить надвое, – заявил он в ответ на предложение «прирезать» к владениям Мухаммеда-Али Аккрский пашалык.
В Лондон прибыл новый французский посол, известный историк Франсуа Гизо. Его сопровождала на правах подруги Дарья Христофоровна Ливен. Маститый ученый проявлял все признаки влюбленности и, по слухам, был готов сменить узы Амура на цепи Гименея, однако честолюбивая дама не пожелала превращаться из княгини «просто» в госпожу Гизо. «Свет» пришел в оцепенение и так и не решил, как же вести себя в отношении бывшей хозяйки дипломатического салона. Политики же стояли перед трудной задачей: хотя Гизо и был настроен миролюбивее многих своих коллег, инструкции его связывали…
Под рождество 1839 г. Бруннов вернулся в Великобританию. Пальмерстон встретил его в высшей степени предупредительно и пригласил провести праздник в своем поместье Броудлэнд: в жизни старого холостяка произошла перемена, он сочетался браком с леди Эмили Каудор. Роман его с замужней женщиной продолжался почти как в сказке – 32 года. Правда, на новых Тристана и Изольду влюбленные не походили. Эмили отличалась крайней ветренностью, а Джон – «постоянным непостоянством». Молва приписывала ему многочисленные победы над женскими сердцами; историки, углубившись в его дневники, нашли тому подтверждение. Но ни одна из мимолетных подруг не вытеснила из сердца министра Эмили. В его дневниках встречаются записи: «Прекрасная ночь – с двух до пяти с половиной»; «Неудача», – иногда с объяснением – «синьор в доме» (почему-то в таких случаях Пальмерстон делал записи по-итальянски). Случалось, лорд Джон после утомительного заседания в парламенте приходил на дежурство в сад под окна спальни Эмили; по сигналу (зажженная свеча на подоконнике) входил в дом; на рассвете покидал спальню и отправлялся домой, а утром – в Форин оффис.
После смерти лорда Каудора, выждав небольшой срок, Пальмерстон сделал ' предложение. Посоветовавшись, – благо было с кем, – с братьями: премьер-министром графом Мелборном и послом в Вене сэром Фредериком Лэмом (впоследствии – лордом Бовэйл), с зятем, известным филантропом лордом Шефтсбери, Эмили дала согласие. И вот в Броулэнде, в медовый месяц министра, начались переговоры.
Русская сторона проявляла в них все признаки уступчивости, согласившись на участие британского флота в операциях в Проливах. Ункяр-Искелессийский договор перестал существовать в обмен на сладостную надежду на изоляцию Франции и крушение баланса сил в Европе. А британскому кабинету продолжала мерещиться царская гегемония на континенте. Влиятельный журнал «Игзэминер» выражал озабоченность «симптомами договоренности между правительствами Англии и России по Восточному вопросу». Конечно, Франция заслуживает наказания за свою строптивость – но не с такими же последствиями: «Мы не можем представить себе ничего более бедственного, чем ссора и даже серьезное охлаждение между Францией и Англией»…
5 июля 1840 г. кабинет в очередной раз отверг предложения Пальмерстона. Министр негодовал: в записке премьеру он предлагал упразднить Форин оффис и открыть вместо него британское отделение французского ведомства иностранных дел. Курс правительства приведет к тому, что Османскую империю раздерут на две части, одна из которых станет зависима от Франции, а другая превратится в «сателлита России». Он, Пальмерстон, в подобной комбинации участвовать не желает и подает в отставку.
Мелборн в ответ написал, что это повлечет за собой падение кабинета, и просил подождать несколько дней. На заседании 8 июля он поддержал министра иностранных дел. Оппозиционеры ограничились письменным изложением своей точки зрения, но хлопать дверью не стали. Руки у Пальмерстона были развязаны. Через неделю, 15 июля, Россия, Великобритания, Пруссия и Австрия подписали Конвенцию о проливах. Турецко-египетский конфликт предлагалось урегулировать на следующих основаниях: Египет становился наследственным владением Мухаммеда-Али; в дополнение предлагался пашалык Аккры, при том, что паша давал согласие на эти жесткие условия в течение 10 дней; затем Аккра «отпадала». Еще 10 дней упрямства – и он лишался всего. Россия, Англия и Австрия обязывались, в случае нужды, защищать Константинополь от войск Ибрагима, – иными словами, Петербург соглашался на ввод в Проливы британских и австрийских кораблей (Пальмерстон обещал – не больше нескольких вымпелов). Главное условие договора, не приуроченное к какому-либо событию и не ограниченное сроком, гласило: Черноморские проливы закрыты для военных судов всех держав «по древнему правилу империи… пока Порта находится в мире». Не забыли в Лондоне о желательности подписания конвенции турецкой стороной. О степени ее участия в выработке документа дает представление реплика Пальмерстона: «Бедный старый Нури (посол. – Авт.) – совершенный нуль, но он способен держать перо в руке и подписать свое имя».








