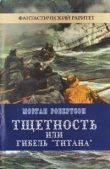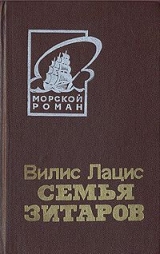
Текст книги "Семья Зитаров. Том 1"
Автор книги: Вилис Лацис
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
– Мир не так велик, как вы думаете, – сказала та, что заговорила первая. – И Саут-Шилдс совсем не то место, где латыш может думать вслух обо всем, что ему взбредет в голову.
Опять раздался смех, и, уже не сдерживая его, девушки пустились бегом по улице. Вскоре они скрылись в дверях одного из домов. Пока Ингус с ними разговаривал, Джонит тоже куда-то исчез, оставив друга одного на поле боя.
«Вот ведь шельмец… – негодовал Ингус. – Заварил кашу, а я расхлебывай…»
Он обошел соседние переулки, заглянул в какой-то кабачок и выпил кружку пива, но Джонит как сквозь землю провалился. Возвращаться на пароход еще не хотелось, поэтому Ингус зашел в кино и посмотрел американский детективный фильм.
Подходя к «Пинеге», он еще издали услышал сильный шум, доносившийся из средней части парохода, где располагались каюты начальства. Вахтенный матрос пытался оттащить какую-то темную фигуру от дверей каюты первого механика Дембовского.
– Джонит, не валяй дурака, иди в кубрик и ложись спать, – уговаривал его матрос. – Проснется капитан, плохо тебе будет.
– Пусти! Пусти меня! – отталкивал Джонит матроса. – Капитан ничего мне не сделает, он правильный старик. Дал водки опохмелиться. А Дембовский… Попадись только он мне в руки!.. – затем послышался дикий грохот в дверь каюты. Джонит злобно дергал ручку двери и пинал ногами стену каюты.
– Чиф, пусти меня! Мне нужно сказать тебе несколько слов по-английски. Всего несколько слов. Ты откроешь или не откроешь?! Если нет, я спущусь в кочегарку и принесу большой лом!
В каюте царила глубокая тишина. Дембовский, бледный и перепуганный, сидел на краю койки, прислушиваясь к тому, как буйствует пьяный кочегар. Он дрожащими руками достал револьвер и проверил, заряжен ли он. Хоть бы капитан проснулся и приказал заковать в кандалы этого сумасшедшего! Ну и горазд же спать Белдав… Долговязая Смерть тоже не слышит, что здесь происходит. И где, наконец, первый штурман, второй, Иванов – почему никто из них не идет к нему на помощь?
– Открой мне, Дембовский, я тебе говорю, открой, а то хуже будет! – продолжал Джонит. – В Бельгии я один расправился с полным кабаком народу, а его там было не меньше двадцати человек. Неужели ты думаешь, что устоишь против меня?
Вслед за тем механик услышал еще чей-то голос, вероятно, это был второй штурман. Он говорил по-латышски, и Дембовский ничего не понял, но присутствие его придало механику бодрости. Дал бы бог, чтобы Зитар смог унять этого Бебриса.
– Джонит, что ты тут опять устраиваешь? – строго спросил Ингус.
– Мне охота подраться, а Дембовский давно заслужил, чтобы его продраили.
– Опять у тебя руки зачесались? И с каких это пор ты так расхрабрился? – продолжал Ингус. – Я на берегу только что был свидетелем того, как какой-то трус удирал от двух особ слабого пола, а теперь он хочет применить свою силу к старому человеку.
– Кого ты имеешь в виду? – Джонит быстро обернулся к Ингусу.
– Тебя. Ты не парень, а пустобрех. На словах герой, а как до дела дойдет – так в кусты.
– Когда это было? – удивился Джонит.
– А ты уже забыл? – Ингус притворился сердитым. – Куда тебя унесло, когда они заговорили по-латышски? Оставил меня козлом отпущения.
– Они тебя обидели? – вся фигура Джонита воинственно приосанилась, выражая готовность отомстить за обиды, причиненные товарищу.
– Они сказали, что такого трусливого мужчину видят впервые. Так поступают только молокососы. Покажут из-за угла кулак, а потом убегают. Именно так оно и выглядело.
– Да я никуда и не убегал. Просто зашел в парикмахерскую – неудобно появляться перед женщинами в таком лохматом виде.
– И ты думаешь, я тебе поверю?
– Можешь убедиться! – Джонит сердито сорвал с головы шапку, открыв аккуратно подстриженные волосы. – Дело не в том, что я их испугался, а просто я знаю, что у женщин первое впечатление всегда решающее, и не хотел окончательно испортить все дело.
– Ха-ха-ха, недурное ты произвел первое впечатление! – издевался Ингус. – Пойдем в кубрик и перестань буянить. Люди спать хотят.
– Но мне с Дембовским…
– Нечего тебе здесь делать. А если и есть что, так сделаешь это завтра, в трезвом уме.
– У меня ум трезвый и сейчас! – упирался Джонит.
– Тем хуже для тебя.
– Ты что, меня разыграть хочешь? Этого я никому не позволю. Дембовский тоже меня на море разыгрывал, шпионил за мной, как я топлю да как чищу топки. Хорошо это, по-твоему? Меня, старого кочегара, он проверял, как мальчишку! Не ответил на приветствие!
– Ну и что же? Ты потом с ним тоже не здоровался. Пойдем, хватит ломаться!
Джонит продолжал артачиться.
– Погоди, я не могу так уйти. Мое самолюбие не позволяет. Если я постучал в дверь чифа, я должен с этим делом покончить.
– Драться я тебе не позволю.
– Тем хуже, мне, видимо, придется избрать другой объект, чтобы оттузить. Может быть, даже тебя… Но с Дембовским… стой, мне пришла в голову блестящая мысль. Только ты не вмешивайся.
– Ты не наделаешь глупостей?
– Даю слово, что я не сделаю Дембовскому ничего плохого.
– Ну, ладно, посмотрим, я останусь здесь.
– Именно этого я и хочу. Без свидетелей неинтересно. Боцман, останься ты тоже… – кивнул Джонит вахтенному матросу, затем надел шапку и очень вежливо постучал в дверь каюты Дембовского.
– Кто там? – откликнулся на этот раз чиф.
– Кочегар Бебрис желает с вами говорить. Только один момент, чиф, прошу, будьте столь любезны и откройте дверь. Здесь стоят штурман и боцман, так что можете не беспокоиться.
– Какие могут быть в ночное время разговоры… – ворчал Дембовский. – Это можно отложить и на завтра.
– И все-таки, чиф. Очень спешное дело. Верьте мне, вы об этом не пожалеете.
– Обожди.
Дембовский надел плащ и открыл дверь. Показался его голый блестящий череп.
– В чем дело?
– Добрый вечер, чиф! – Джонит снял шапку.
– Добрый вечер… – Дембовский, казалось, был удивлен неожиданной вежливостью Джонита; это случилось впервые за три недели.
– Вот и все, что я хотел вам сказать, – продолжал Джонит. – Поразмыслив о наших взаимоотношениях, я сегодня пришел к выводу, что такое положение, когда двое на одном пароходе не узнают друг друга, дальше нетерпимо. Вы не находите этого?
Дембовский молчал.
– И вот я сегодня пришел исправить затянувшуюся ошибку, – продолжал Джонит. – Я поздоровался с вами, и вы мне ответили. Теперь все в порядке: И пока вы мне будете отвечать на приветствия, до тех пор я буду с вами здороваться. Спокойной ночи, чиф!
Джонит еще раз плавным жестом снял шапку и пристально, вызывающе уставился на Дембовского. В этот момент должен был определиться характер их дальнейших отношений – это понимали оба. Если Дембовский вздумает сейчас обидеться, все останется по-старому, и чиф напрасно станет ожидать утреннего приветствия. Восстановить нормальные отношения можно было, только сделав вид, что не понимаешь издевательского тона грубияна.
Прошло некоторое время, прежде чем Дембовский принял решение. Джонит заметил, как его противник кусал губы, как нервно дрожали его руки и на щеках выступили яркие пятна. Внутри у него все, должно быть, так и кипело, и он с удовольствием заорал бы на Джонита, чтобы тот убирался к черту. Но пришлось сдержаться, и, по-старчески крякнув, он приветливо произнес:
– Спокойной ночи!
Джонит одержал победу. Когда дверь в каюту чифа закрылась, у него остыл весь пыл борьбы.
– Теперь пойду спать. Интересно провели времечко, не правда ли?
– Да, но только вопрос – насколько приятно, – ответил Ингус. – Джонит…
– Ну?
– Ты странный человек. Мне кажется, что в твоей жизни не все ладно. Иначе ты бы не был таким.
– Возможно, что у меня все неладно. Ну и что же из этого?
– Я не могу тебя понять. А хотелось бы. Расскажи мне хоть немного о себе – о своем прошлом. Ты не похож на остальных людей, и, хотя ты делаешь много такого, за что тебя не похвалят ни другие, ни я, ты все же нравишься мне.
– Спасибо на добром слове. Откровенность за откровенность! Можно и рассказать, мне не жаль.
– Пойдем ко мне в каюту.
Джонит скорчил страдальческую мину, подчиняясь неизбежному, и последовал за штурманом. В ту ночь Ингус узнал биографию этого человека.
Глава вторая
1
– У тебя не осталось ни капельки? – спросил Джонит, усаживаясь на маленький диван.
– Нет, этих вещей я не держу в запасе, – рассмеялся Ингус. – Как лекарство водка мне еще не нужна.
– Гм! Никудышный ты после этого штурман, без виски. У Дембовского на койке под подушкой всегда хранится изрядная фляга. Надо будет как-нибудь стащить. Ну, все равно, нет так нет, обойдемся и без нее, только я тебя представлял иным.
– Значит, разочаровался? Может быть, ты теперь и рассказывать не захочешь?
– Я не торгуюсь, не думай, – обиженно нахмурился Джонит. – Но я не понимаю, что в моей жизни такого интересного, что заслуживало бы внимания. С чего начать? С рождения? Я его что-то плохо припоминаю.
– Начинай с чего хочешь.
– Ну, ладно, так слушай же. Я родился в маленьком провинциальном городке на севере Видземе. Отец мой был торговцем – средней руки обдиралой. Покупателями в нашей лавке были окрестные крестьяне, а в трактире пили проезжие и жители городка, начиная с городского головы и кончая конюхом постоялого двора. Мой отец – человек небольшого роста, но большого практического ума. В трактире его часто происходили потасовки, но сам он никогда в них не участвовал. Он продавал другим много водки и пива, но сам не пил. И благодаря этому, когда случалось, что у его клиентов описывали имущество и стук аукционного молотка слышался то в одной, то в другой усадьбе, мой предприимчивый отец за бесценок скупал разное имущество и перепродавал его в Риге втридорога. Каждый, увидев его издали, приветствовал, называя господином Бебрисом. И вот, несмотря на хорошее питание и обеспеченную жизнь, он, в конце концов, схватил какую-то болезнь и уже не встал.
Мне в то время исполнилось пятнадцать лет. Весной я только что окончил местное городское училище и, если бы не умер отец, должен был осенью поступить в коммерческое училище в Риге. Но я тогда увлекался Майн-Ридом и Жюлем Верном и больше думал о мореплавании, чем о конторском столе. Отцу я не смел даже заикнуться о подобных вещах, потому что, будучи единственным сыном, являлся и единственным наследником его предприятия. Когда я заговорил о своих намерениях с матерью, та подняла вой и предложила немедленно выбросить из головы такие затеи: она хочет видеть меня барином, а не каким-нибудь бродягой. Чего, спрашивает она, тебе не хватает? Ведь у тебя есть все, что только душа пожелает. Что тебе нужно?
Порядочный мужчина никогда не станет спорить с женщиной, если эта женщина к тому же еще доводится ему матерью. Логикой их не проймешь, надо переходить к решительным действиям. Я так и поступил. Вскоре после Юрьева дня [64], как только в море растаял лед и в порт стали прибывать суда, я связал в узел свои пожитки и ночью, тайком, убежал из дому. В Риге я устроился юнгой на парусник и ушел в продолжительный рейс в Южную Америку. Вначале было очень трудно. Никто меня не щадил, заставляли работать, как раба, поручая самые неприятные обязанности, за малейшую оплошность нещадно били. Били меня все кому не лень, кто хотел. Бил кок, били матросы и штурманы, а боцман просто считал своим святым долгом по крайней мере раз в неделю отвозить меня канатным жгутом просто так, для острастки. Сам по себе канат еще ничего, он костей не переломит, но боцман навязывал на него такие узлы, от которых по всему телу появлялись синяки.
Должно быть, это было возмездием за мой легкомысленный побег из дому, а может быть, просто суровым испытанием перед тем, как принять меня в семью моряков. Что мне оставалось делать? Сопротивляться я не мог, потому что был еще молод. Так, воспитывая меня в духе требований старых морских волков, они скоро добились того, что я стал настоящим моряком. С ловкостью белки летал я по мачтам и реям, до кровавых мозолей на руках натягивал и сворачивал паруса, убирал каюты, драил палубу и чистил на камбузе картофель. Чем больше я осваивался с работой, тем больше меня ею нагружали. Я понимал, что со мной поступают несправедливо, но молчал, боясь побоев. Только в груди копилось ожесточение и надежда на мщение: погодите, когда я вырасту, я всем вам это попомню.
Ты не поверишь, но эта надежда, эта жажда мщения были единственной причиной, удержавшей меня от бегства с судна в первом иностранном порту и заставившей плавать на нем целых три года. За это время многое изменилось. Меня реже били, и матросы смотрели на меня как на равного. Только боцман и штурман по-прежнему считали Джонита мальчишкой, и, хотя я уже давно исполнял все матросские обязанности, мне приходилось довольствоваться жалованьем юнги. Это было вопиющей несправедливостью, и именно она-то меня больше всего и терзала. Но я не сбежал. Мои мускулы натренировались, я стал гибким, как кошка, и как-то раз, когда у наших матросов происходила очередная потасовка в одном испанском кабачке со скандинавскими матросами, я впервые попробовал силу своих рук. И убедился, что в кулаках у меня есть талант: я один расправился с тремя противниками. Это убеждение впервые вселило в меня веру в свои силы. Пусть теперь попробует кто-либо наступить мне на мозоль – узнает почем фунт лиха!
Из Испании судно направилось через Атлантику в Рио-де-Жанейро. И вот в один субботний вечер… Еще и теперь у меня замирает сердце при воспоминании об этой первой баталии. Матросы ушли на берег, все были свободны; боцман, штурман и кок расхаживали по палубе бритые, в новых костюмах. Я тоже надел чистое белье, новую спецовку и повязал шею зеленым шелковым платком, потому что у меня было такое же право на субботний отдых, как и у всех остальных. Но кок имел по этому вопросу особое мнение, боцман с ним согласился, и на свою беду присоединился к ним и штурман. Вероятно, мой праздничный вид портил им настроение.
– Джонка, вымой бочку из-под селедок! – приказал мне кок. – От нее идет такое зловоние, что отравляет весь воздух в кладовой.
Этого еще не хватало! Чтобы я возился с грязной бочкой и перепачкал чистую одежду селедочным рассолом!
– Этим, кокочка, ты сам займись, – обрезал я его. – Запустил бочку, сам я чисти ее, а у меня свободный субботний вечер.
– У тебя, наверно, спина соскучилась по этой штуке? – боцман показал мне узловатую судовую «кошку».
– Неизвестно, у кого больше соскучилась, – вызывающе рассмеялся я. – Ты, боча, давно в бане не был, тебе как раз и годится.
К нашему разговору уже прислушивался и штурман. Все трое сошлись вместе и о чем-то посовещались. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Несчастные, они забыли, что Джониту Бебрису уже не пятнадцать лет, а полных восемнадцать и что в испанском кабачке он один побил троих, да к тому же просторная судовая палуба – гораздо более удобная арена для борьбы, чем тесное помещение кабачка. Штурман взял кофель-нагель, боцман – «кошку», а кок, как ему и полагается, направился на меня с кочергой. Я знал, что драка с оружием в руках налагает на дерущихся большую ответственность за могущие быть последствия, поэтому кинулся в бой с голыми руками. «Несчастные», – думал я, наблюдая, как противники собираются окружить меня с трех сторон. Я дрожал, но не от страха, а от радости, ибо почувствовал, что наступил час расплаты. Заныли по всему телу синяки и ссадины, полученные мною за это время. Все бранные слова, адресованные мне за прошедшие три года, звенели в ушах и пьянили, как крепкий джин. Тогда били меня, теперь буду бить я. Тогда стонал Джонит, теперь заохают они! И никто не посмеет меня обвинить, потому что они сами этого захотели.
– Выбирай, на которую сторону будешь: падать! – крикнул я боцману. – Положи под бок подушку, чтобы не расшибиться. А ты, кокочка, не пугайся и не думай, что тебя лошадь лягнула, если почувствуешь что-либо похожее:
Минуту спустя дело шло полным ходом. Коку хватило двух тумаков. Взвыв и схватившись обеими руками за живот, он опустился на палубу, из носа хлынула кровь. Кофель-нагель штурмана полетел за борт, а боцманская «кошка» взвилась на такелаж и повисла на вантах. Вскочив на люк трюма, я схватил штурмана и боцмана за волосы и стал стукать их лбами: бух, бух, так что у приятелей искры посыпались из глаз и на лбах вскочили огромные шишки. По временам я их встряхивал, как бутылки с простоквашей или пыльные полушубки, затем опять стукал лбами. После каждого удара они крякали, как дровосеки. Под конец оба настолько обалдели, что, когда я их отпустил, они шатались и, наткнувшись на мачту, ушиблись еще лишний раз. Лбы их, украшенные шишками, выглядели очень забавно, и я громко хохотал. Я хотел было еще раз подойти к коку, но он со страху удрал в камбуз и, высунувшись в окошечко, взмолился:
– Джонит, я ведь просто так, пошутил. Неужели у тебя рука подымется на старика?
– Ничего себе старичок нашелся! – крикнул я, стращая его. – Мужчина что бык, а боится юнги. Выходи, или я тебя вытащу за чуб!
Но он закрылся на засов, а ломиться в камбуз мне не было времени. Повернулся я к обоим бодливым козлам и спрашиваю, хотят ли они еще, чтобы я мыл бочку из-под селедок. Нет, они на этом уже не настаивали. Скрипя зубами, они потащились в свои каюты, а я, сложив свой мешок, с наступлением темноты убрался на берег. Оставаться мне на этом судне уже нельзя было:
Пока судно стояло в порту, я прятался в городе, затем устроился трюмным на «англичанине» и шатался по белу свету еще четыре года. За это время я сменил шесть или семь судов, ходил на бельгийских, норвежских, голландских и датских кораблях. Иногда – на палубе в качестве матроса, но больше внизу, особенно зимой или когда приходилось идти в северные моря. Вскоре я стал полноправным кочегаром, затем дункеманом и одно время – смазчиком на голландском лайнере. Я больше не уступал дорогу никому, каким бы сильным и большим он ни был. Никто уже не осмеливался бить меня или бранить, а я, лишь только замечал на судне появление какого-нибудь забияки, сразу же обламывал ему рога. Конечно, ангельского в моем характере мало, у меня всегда руки чешутся въехать в чью-либо хвастливую морду, сварливость и неуживчивость – мои неизменные спутники. Меня нигде долго не терпели. Всегда почему-то получалось, что после каждого рейса мне приходилось собирать свой мешок и идти в бичкомеры.
Привыкнув к этому, я впоследствии и не стремился оседать на одном месте, не боялся насолить товарищам и начальству и жил вольной птицей. Тогда я еще был терпимым парнем. Временами даже подумывал о доме, о тихом, уютном уголке, куда могу в любое время вернуться, отряхнув с ног мирской прах, и зажить новой жизнью. Проскитавшись семь лет на чужбине, я почувствовал, что мне надоели беспокойные похождения, хотелось перевести дух, угомониться. И я надеялся, что найду этот отдых дома, найду тепло и радость. Я воображал, что там все осталось по-прежнему. Мать в письмах давно звала меня домой, писала, что ей не справиться с трактиром, и обещала передать все в мои руки.
В конце концов, я послушался, больше, пожалуй, подчиняясь властной тоске по родине, чем зову матери. В Лондоне я сел на пассажирский пароход и отправился домой. За семь лет я не скопил денег, моим единственным приобретением была кое-какая одежда, хорошие карманные часы и очень большой жизненный опыт. Кроме того, я знал три иностранных языка, и если все это оценить должным образом, то следует сказать, что я возвратился не с пустыми руками. Но представляешь себе: я очень устал, скитания по чужбине мне надоели, не прельщали, как бывало, всякие заморские чудеса, мальчишеская страсть к приключениям была удовлетворена, беспокойство улеглось, и мне хотелось серьезно и честно трудиться во славу своей семьи и на благо родного городка. Если бы я вернулся домой в более счастливый момент, немного раньше или, наоборот, позже, то сейчас мне не пришлось бы ссориться с чифом «Пинеги», я нашел бы в городке богатую невесту, женился и начал заниматься своим делом. Но, видно, не суждено было осуществиться моим намерениям. Досадная мелочь поставила крест на всех моих замыслах.
Ты знаешь, как неудобно сообщение с нашими провинциальными местечками и городами, если они не расположены у железнодорожной магистрали. От Риги мне пришлось дать большой крюк на север, там пересесть на поезд узкоколейки и сойти на одной из маленьких станций, от которой до нашего городка оставалось еще восемнадцать верст по проселочной дороге. Направление – обратно в сторону Риги. С большим трудом разыскал крестьянина, который за четыре рубля серебром согласился доставить меня в городок. Когда мы выехали, уже смеркалось. Лошадь была не из горячих, возница – не в меру болтлив, и меня утомляло его назойливое любопытство. Чтобы отделаться от него и заставить его уделять больше внимания езде, я ничего о себе не рассказывал, ведь он, по всей вероятности, знавал моего отца и из уважения к покойнику замучил бы меня всякими мелочными расспросами. Моя замкнутость и односложные ответы не уменьшили, однако, любознательности возницы, и так мы продолжали ехать часа четыре, один – нескончаемо стрекоча как сорока, другой – цедя изредка по слову сквозь зубы и ругая себя за то, что избрал такого возницу. Как видишь, настроение мое было уже заранее испорчено, нервы напряжены до предела, поэтому при моем характере достаточно было малейшего пустяка, чтобы вызвать взрыв. Случись это в пути, было бы лучше. Тогда бы я до приезда в город успел разрядиться и вместо тигра домой явился бы кроткий ягненок. Но не тут-то было…
– Где же молодой человек намерен остановиться? – осведомился возница, когда впереди показались огни городка.
– Там видно будет… – неопределенно буркнул я.
– Мне бы все-таки надо знать, куда подъехать. Здесь есть одна гостиница и два постоялых двора…
– Я остановлюсь у родственников.
– Так, значит, у вас здесь и родственники есть? Прошу прощения, а на какой улице они живут?
– На Большой улице.
– Та-ак? И позволено будет узнать вашу фамилию?
Я сделал вид, что не слышал вопроса, но он повторил его. Тогда я назвал ему первую попавшуюся на ум фамилию и велел остановить лошадь в конце Большой улицы.
– Вот вам деньги, спасибо за доставку, до свидания!
– Благодарю, молодой человек, но я ведь мог довезти до ворот.
– Ничего, здесь недалеко, я дойду пешком.
Взяв чемодан в одну руку, бамбуковую трость – в другую, я поспешил освободиться от услужливого возницы. Но он еще долго ехал следом за мной, вероятно, желая узнать, в который дом я войду. Для моих натянутых, как струны, нервов это было лишним испытанием. Злой, словно сорвавшийся с цели пес, я спешил по узеньким дощатым мосткам вперед, умышленно сделал крюк по переулкам и вернулся на главную улицу возле самого дома. Но в тот самый момент, когда рука моя коснулась звонка, позади послышался грохот колес, и при свете фонаря я узнал лицо своего преследователя. У меня было такое состояние, что я готов был подбежать к нему и произвести дополнительный расчет за доставку, но я сдержался: не годится блудному сыну возвращаться в родительский дом со скандалом. Сердито дернул я ручку звонка. Мой вид, вероятно, был настолько зверским, что служанка, открыв дверь, испугалась и не хотела меня впускать.
– Кого вам нужно? – немного придя в себя, спросила она.
– Госпожа Бебрис дома?
– Да, дома, но вам придется обождать в передней, пока я ее позову.
– Не придется, милочка, – оттолкнув ее, я поставил чемодан и пошел в комнату.
– Так нельзя, госпожа рассердится, – догнала меня служанка.
– Не беспокойтесь, я за это отвечаю.
Я находился в самом воинственном настроении, а всякое препятствие еще усугубляло его. Рассчитывая устроить сюрприз и мысленно предвкушая романтику внезапного свидания, я без стука переходил из комнаты в комнату. В столовой я заметил новый буфет, в гостиной вся мебель была новой, а по стенам навешана уйма пестрых, безвкусных безделушек, похожих на те, что моряки покупают в портовых лавках за границей. Все говорило о том; что мать после смерти отца дала волю своим вкусам.
За гостиной находилась комната матери: Подойдя к дверям, я громко постучал и, не ожидая ответа, вошел, не забыв закрыть за собой дверь: в гостиной была служанка, и я не хотел, чтобы она явилась свидетелем радостного свидания.
– Как вы… как вы смеете! – были первые слова, которыми приветствовала меня госпожа мать. Но они на некоторое время оказались и последними, ибо сразу наступила тишина, какая бывает лишь на море во время мертвого штиля.
Моим глазам представилась любопытная сцена, которую я меньше всего ожидал увидеть: мать поспешно вырвала руку из лапы какого-то усача и сконфуженно натянула на плечи яркий утренний халат.
Усатый господин, сидевший с ней на диване в непосредственной близости, отодвинулся немного дальше и снял с плеч матери руку, обнимавшую ее. Он сидел по-домашнему, в жилете, а рядом, на маленьком столике стоял поднос с вином и закусками. Но что меня поразило больше всего – прическа матери. Представь себе пожилую, хорошо сохранившуюся женщину, в волосах которой больше седых; чем темных нитей. Щеки накрашены красной бумагой, а хохолок завит и закручен, как у молодой девушки. Казалось, она только что пришла от парикмахера.
Во всем этом я усмотрел что-то неестественное, что-то такое, чего раньше не было и что на обломках прошлого казалось чуждым.
Усач исподлобья поглядывал на меня, мать стояла с видом человека, получившего пощечину, а я, опомнившись немного, молча усмехнулся и вышел в гостиную. Отвернувшись и заложив руки за спину, я стоял в позе Наполеона и делал вид, что занят разглядыванием сентиментальных картинок, розовых женских лиц и зелено-сине-красных литографий с видами Альп и охотничьими пейзажами. Слышно было, как, крадучись, уходит через гостиную усач; различаю тихие скользящие шаги матери и ее выжидательное присутствие.
– Все-таки, значит, вернулся домой… – несмело произносит она.
Быстро повернувшись к ней, спрашиваю:
– Кто это?
Покраснев, мать опускает глаза.
– Это господин Земан.
– Что он собой представляет?
– Он руководит строительными работами.
– Ну, хорошо, пусть он ими руководит, но кто он?
– Я уже сказала, господин Земан…
– Это я уже знаю, но кто он тебе?
– Ну, просто знакомый.
– А что ему здесь нужно?
– Как ты странно говоришь. Неужели знакомый человек не может зайти иногда поболтать?
– И только?
– Конечно. Я не понимаю, что ты имеешь в виду…
Я поклонился, сказал «до свидания» и быстро удалился из комнаты. Макинтош я еще не успел снять, трость и шляпа висела в передней на вешалке, поэтому я ушел прежде, чем мать сообразила удержать меня. Минутой позже я уже был на улице, а через полчаса извозчик вез меня обратно на железнодорожную станцию. Там я дождался утреннего поезда и после полудня уже был в Риге. Первый отправлявшийся за границу пароход взял меня с собой.
Это был мой второй побег из дому. Он отличался от первого тем, что теперь меня не мучили никакие угрызения совести. Я только чувствовал, что позади меня осталась пустота, чужие люди, чуждый мир и что с этой минуты нет для меня на земле ничего близкого, родного, ничего такого, что влекло бы меня обратно и ради чего я должен был бы ограничивать свои действия. Иди куда знаешь, живи как хочешь – никому ты не нужен и тебе никто не нужен. Ты сам себе судья, центр вселенной, критерий добра и зла. Я достиг высшей ступени свободы, и мне следовало радоваться, что я ее достиг. Но вместо радости я ощущал досаду, слепую злобу на весь мир. Словом, я был потерпевшим крушение судном, обломки которого ветер и волны носят по житейской Атлантике из конца в конец, по своему усмотрению. Возможно, мое второе бегство выглядело в большей степени мальчишеским поступком, чем первое: смешно выступать в роли судьи такому человеку, как я, сам не признающий ничьего суда, – но логически оправданные поступки не в моем характере. Ну, одним словом, что было, то прошло, исправлять сделанное не стоило. Где гарантия, что при исправлении ты не натворишь новых бед? Здраво размышляя, неплохо и так, как оно есть. Что было бы, если бы я не вспылил и остался дома? С усачом я ни в коем случае не мог примириться, мне было бы неприятно, да и других мое присутствие стесняло бы. Теперь всем хорошо. Они могут жить как хотят, я живу как мне нравится. Не так ли, Ингус?
– Бесцельная жизнь и опустошенное сердце… – промолвил Ингус.
– Ну и что ж? Больше останется другим.
2
Пока Ингус слушал повествование Джонита, ему пришла в голову одна мысль. Он хотел добра этому человеку, и ему казалось, что, осуществив свой случайный замысел, он этим сделает благое дело. Когда Джонит окончил свою исповедь, Ингус сказал:
– Ты живешь недостойной жизнью, Джонит. У тебя нет ни самолюбия, ни гордости, а вся твоя бравада – всего лишь барабанный бой, которым ты себя оглушаешь и обманываешь. Мне кажется, что ты и не способен на иную жизнь.
– Я не хочу другой жизни.
– А если тебе когда-нибудь надоест эта? Представь себе, что наступит время, когда ты не в силах будешь держать пар в котлах. В кубрике кочегаров ты уже не будешь главарем. Маленький, черный, ты проглотишь обиду, нанесенную младшими товарищами, потому что грубить и отстаивать себя тебе окажется не под силу. Тебя перестанут бояться, тебе не уступит дорогу самый молодой трюмный, юнга, и любой из твоих собутыльников сможет безнаказанно дразнить тебя. Рано или поздно ты окажешься негодным к службе на судне, ни один чиф не примет тебя на работу и ты станешь скитаться, как бездомный пес. Скажи, что ты тогда будешь делать? Пойдешь мыть посуду на иностранные суда, чтобы лакомиться там матросскими объедками? Будешь валяться по убежищам Армии спасения, нищенствовать, чистить сапоги прохожим или наймешься ночным сторожем? Если бы ты умел беречь деньги, тебе бы, возможно, удалось скопить небольшой капитал и купить кабачок в порту, но этого никогда не будет.
– Ты, Ингус, преувеличиваешь, потому что мало меня знаешь. Мне стоит только захотеть, и я могу горы своротить. Когда я увижу, что по-прежнему жить уже нельзя, я возьму себя в руки.
Ингус умышленно засмеялся, чтобы задеть самолюбие Джонита.
– Ты возьмешь себя в руки? Ха-ха-ха! Кто бы это говорил, только не ты!
– Не веришь?
– Нисколько. И не строй такую обиженную и сердитую физиономию. Ты слабый человек. В тебе нет той мужской нравственной силы, которая называется волей. Ты не властен над собой, не можешь запретить Джониту Бебрису ни малейшего пустяка – что он хочет, то и делает, а ты безвольно выполняешь все его капризы. С каждым днем ты становишься все более жалким. В конце концов, ты станешь стыдиться себя.