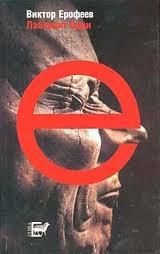
Текст книги "Лабиринт Один: Ворованный воздух"
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Сборник «Портрет» больше чем наполовину состоит из рассказов предыдущего сборника, причем два старых рассказа здесь появляются под новыми названиями («Сорокина» становится «Дорианом Греем»; «Лешка» – «Матросом»). Из впервые напечатанных рассказов есть две-три малозначительные зарисовки, рассказ «Хиромантия» отчасти повторяет «Встречи с Лиз», однако в последних рассказах сборника («Пожалуйста», «Сад» и особенно «Портрет») чувствуется действительно нечто новое по сравнению с прошлой книгой.
Повествование теперь строится не по статическому принципу контраста, а по динамической модели контрапункта. Событие, стало быть, не «случается», а «длится», варьируется, развивается вперемежку с другими событиями.
В рассказе «Пожалуйста» тема болезни и смерти козы соседствует и переплетается с темой сватовства. Само же сватовство гротескно монтируется с темой времени. Добычин предлагает свой вариант лозунга «Время – вперед!», который в его рассказе развивает будущий жених – «в котиковой шапке и в коричневом пальто с барашковым воротником»:
«– Время мчится, – удивлялся гость. – Весна не за горами. Мы ужеразучиваем майский гимн.
сестры, —
посмотрев на Селезневу, неожиданно запел он, взмахивая ложкой. Гостья подтолкнула Селезневу, просияв.
наденьте венчальные платья,
путь свой усыпьте гирляндами роз…»
Все это еще пока – дурная самодеятельность. Селезнева в растерянности. Она из вежливости поддакивает, но
«гость не нравился ей. Песня ей казалась глупой.
– До свиданья, – распростились наконец».
Коза у Селезневой умерла – жених нагрянул снова. Видно, он учительствует:
«в школу рановато, дай-ка, думаю…»;
видно, за ним будущее, и, наверное, он добьется своего, сломает сопротивление, восторжествует:
«– Ну, что же, – оттопырил гость усы: – Не буду вас задерживать. Я, вот, хочу прислать к вам женщину: поговорить.
– Пожалуйста, – сказала Селезнева».
«Сад» заполнен неологизмами эпохи – они как бы сами по себе и составляют содержание рассказа: делегатки, профуполномоченный, окрэспеэс, работпрос, медсантруд, пенсионерка, отсекр, корэмбеит, конартдив, оссенобоз, волейбольщики и, наконец, культотдельша, которая требует от купальщиков, плещущихся в темноте, – и снова стихия воды! – «чтобы все были в трусах». И посреди этого слова-сада стоит поэтесса Липец, чьи стихи были напечатаны в сегодняшней газете:
гудками встречен день. Трудящиеся…
«Портрет», в сущности, уже не рассказ, а подготовка к роману. Впервые от объективного повествования Добычин переходит к повествованию от «я» героя, причем в «Портрете» это девичье «я», то есть подростковый взгляд, неизбежно остраненный и свойственный будущему роману.
«– Вы чуждая, – сказала Прозорова, – элементка, – но вы мне нравитесь.
– Я рада, – благодарила я».
Нетрудно понять злобу О.Резника: у Добычина получил в 1931 году право на голос «чуждый элемент», да еще милый, да еще по-девичьи влюбленный, не кто-нибудь, а дочь врача.
Эпоха отменила все чудеса, чтобы самой стать чудом. Даже магия обязана быть научной. Как не вспомнить М.Булгакова, читая в «Портрете»:
«Али-Вали отрезал себе голову. Он положил ее на блюдо и, звеня браслетами, пронес ее между рядами, улыбающуюся.
– Не чудо, а наука, – пояснил он: – Чудес нет».
О.Резник свел конфликт Добычина с миром к конфликту с эпохой. Ему показалось, что «зловоние, копоть и смрад» составляют у Добычина именно «печать эпохи»… Добычин, в самом деле, шел против течения. Он не только не скрывал своих сомнений, но, по сути дела, ставил сомнение в центр своих философских раздумий. Он думал, что оправдается честностью: его «беспристрастный» взгляд послужит эпохе, явится как бы предостережением против излишне оптимистического представления о человеческой природе. Но эпоха была охвачена энтузиазмом жизненного переустройства. На этом фоне Добычин действительно выглядел белой вороной; его спокойная бестенденциозность казапась пределом пессимизма и негативной тенденциозности. Стилистические нюансы не играли никакой роли. Добычин был решительно вытеснен в маргинальный пласт «несвоевременной литературы».
Но он не сразу сдался. Он не перестал писать и даже печататься, о чем свидетельствует его роман «Город Эн».
Не исключено, что «Город Эн» был последним «формалистическим», с точки зрения официозной критики, романом, проскочившим в печать буквально накануне начала повсеместной борьбы с «формалистами» (известнейшая статья «Сумбур вместо музыки» появилась в «Правде» в январе 1936 г.). Неудивительно, что реакция на свежий образчик «формализма» была особенно уничтожающей и уничижающей:
«Неприятный, надуманный стиль расцветает на благодатной для этого почве – натуралистической, безразлично поданной семейной хронике рассказчика… – писала Е.Поволоцкая. – Вывод ясен: „Город Эн“ – вещь сугубо формалистичная, бездумная и никчемная. Формализм тут законно сочетается с натурализмом»
(«Литературное обозрение», 1936, № 5).
В романе Добычин снял конфликт двух миров и обратился к старому миру. Живописность конфликта его более не увлекала, и дело объяснялось, видимо, не только внешними обстоятельствами, но и внутренними причинами: Добычин хотел углубиться в сущность экзистенциальной проблемы.
Добычин написал автобиографическое произведение, в котором довел до определенной чистоты (с точки зрения поэтики) идею «нейтрального письма». «Нейтральное письмо» – редкий случай в русской литературе, гордящейся своей нравственной «тенденциозностью».
У Добычина много русских предшественников, писавших на тему провинциальной жизни. Он называет в романе Гоголя и Чехова, причем повествователь отмечает, что, когда он прочел чеховскую «Степь», ему показалось, будто он сам ее написал. О гоголевских героях постоянно вспоминается в романе, само название которого заимствовано из «Мертвых душ». Добычинская связь с Джойсом, о которой говорила враждебная Добычину критика середины 30-х годов, нуждается в дополнительном рассмотрении; скорее всего Добычин сопоставлялся с Джойсом по общему негативному признаку – как не надо писать. Более отчетлива связь с «Мелким бесом» Сологуба; хотя «Город Эн» полностью лишен символистского уровня, взгляд Добычина на человеческую природу и на возможности ее трансформации сопоставим с сологубовским. Во всяком случае, если у Чехова нравственная оценка событий скрыта под объективным слоем повествования (такое сокрытие дает на самом деле большой моральный эффект, так как читатель будто выводит эту оценку сам, без помощи автора), то у Сологуба эта оценка вообще смазана тем, что жизнь изменить нельзя; от нее можно лишь сбежать в иное измерение.
У Добычина такого измерения нет: жизнь тождественна самой себе, от нее не сбежишь. В результате провинция Добычина оказывается большим, чем просто провинция: это образ «человеческой комедии», в которой концы не сходятся с концами, реакции людей на события неадекватны (мелочь часто становится важнее серьезной вещи, происходит нарушение законов аксиологии, которые проза XIX в. свято чтила).
Повествование ведется от «я» и внешне отражает процесс превращения мальчика в юношу, который рассказывает о небольшом городке в западной части России (знакомый писателю по детству многонациональный город Двинск), но сама природа этого «я» нуждается в уточнении. В отличие от «обличительного» произведения, где герой противостоит обывательской среде и в конечном счете срывает с нее маску, повествователь Добыч и на говорит о городе Эн с чувством полной сопричастности к его жизни. Он не противостоит быту, не возмущен его уродством, а напротив, радостно включен в эту, как ему кажется, живописную, полную событий и происшествий жизнь. Он – маленький веселый солдатик обывательской армии, который бойко рапортует об интригах и сплетнях. У него есть свое «мировоззрение», совпадающее с моральной нормой, он негодует против нарушений этой нормы, расшаркивается перед взрослыми и умиляется своим мечтам. Он мечтает о дружбе с сыновьями Манилова.
Но, в сущности, этот рапорт столь же бойкий, сколь и несвязный. Кем был тот «страшный мальчик», состроивший ужасную рожу юному герою книги и так перепугавший его? Сержем, с которым он затем подружился, или кем-нибудь другим? За что убили инженера Карманова? Герой то возмущается мнением приятеля
(«Без причины, – между прочим, – сказал он, – его не убили бы. – Я, возмущенный, старался не слушать его…»),
то сам присоединяется к этой версии в беседе с новой знакомой
(«Побеседуемте, – предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. – Без причины, – сказал я, – конечно, его не убили бы»).
Здесь Добычин как бы подхватывает центральную для прустовской эпопеи мысль о множественности и релятивности истин, находящихся в зависимости от субъективного переживания. Даже в мелочах («страшный мальчик») трудно разобраться. Мир, казалось бы, прост и одновременно бесконечно сложен. Он пребывает в вечном календарном движении (Добычин постоянно подчеркивает смену времен года – это не только лейтмотив обывательских разговоров, но и тема мирового круговорота), в нерасчлененном, «слипшемся» виде, и из него не выйти. Добычин, видимо, сомневался в том же, в чем до него сомневался и Сологуб:
«Я поверил бы в издыхание старого мира, если бы изменилась не только форма правления, но и форма мироощущения, не только строй внешней жизни, но и строй души. А этого как раз и нет нигде и ни в чем».
Ненужные детали в своем нагромождении вырастают до ощущения ненужности самой жизни. Ненужная деталь (характерная и для поэтики Чехова) выходит на первый план, сбивает героя с толку. Вот он собрался рассказать о книге Мопассана, но уехал в Турцию:
«Она называлась „Юн ви“. Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот, наконец-то, и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы – конституционные».
Ненужные детали отодвигают в сторону исторические события: годовщины, революцию 1905 года, войну с японцами.
«Надо больше есть риса, – говорила теперь за обедом маман, – и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис – и смотри, как они побеждают нас».
Так история оказывается годной лишь для стимулирования аппетита.
Трагедии в этом мире отсутствуют. Смерть отца обрастает описанием всевозможных не относящихся к делу подробностей. Там, где русская литература видела тему, достойную пера Толстого, у Добычина мелкое происшествие:
«Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись, удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроившись на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду».
Здесь повествование ведется в зоне голоса той самой инженерши, которая была «принуждена» поговорить с Кусковой, и вновь – добычинский интерес к деталям: полотняный мешок, пассажирский поезд – трагедия тонет в «литературных» подробностях.
Сам же голос лирического героя не только отражает другие голоса, но и внутренне не стабилен. Он пронизан потаенной иронией автора; иногда в языковом отношении текст выглядит как карикатура на язык:
«Когда это было готово, А.Л. показала нам это…» —
и эта ирония как бы убивает саму лирическую суть героя, но в то же время это очень «деликатное» убийство: в отличие от сказа, где герой саморазоблачается в языке, здесь создан эффект мерцающей иронии.
И как бы в ритме мерцания иронии возникает образ мерцающего повествования. То автор делает шаг в сторону своего героя, и тот вдруг оживает в роли его автобиографического двойника, то отступает, не предупредив, – и герой превращается в механическую фигурку. Эти стилистические колебания отражают некую подспудную динамику самой жизни. При этом важно отметить, что ирония не находит своего разрешения. Возникает ощущение достаточно ироничной прозы, позволяющей понять отношение автора к описываемому миру, и достаточно нейтрального повествования, позволяющего этому миру самораскрыться. Если взять внетекстовую позицию Добычина, то видно, что автор и судит, и не судит эту жизнь; его метапозиция двойственна, поскольку он видит в этой жизни и некую норму, и ее отсутствие.
Такое повествование может продолжаться бесконечно, увязая все в новых и в новых подробностях; не удивительно, что Добычин прибегает к условному финалу. Выясняется вдруг, что герой близорук. Эта близорукость в финале как бы объясняет конструктивный принцип повествования (все смазано) и превращается в метафору ограниченного мировосприятия героя. На последней странице книги он видит вечером, что
«звезд очень много и что у них есть лучи».
Эти лучи звезд должны восприниматься как маленькие лучики надежды в «темном царстве», но не исключено, что в них, как и в метафоре близорукости, есть скрытая пародия на «литературность»:
«Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно».
Это еще одна ироническая «волна», на этот раз пародия на характерный для эпохи мотив «самокритики».
Н.Степанов, успевший откликнуться на выход добычинской книги достаточно положительной рецензией («Литературный современник», 1936, № 2), отнесся к «самокритике» серьезно и возразил повествователю:
«Нет, герой повести Добычина видел „правильно“, несмотря на свою близорукость».
Критик попал в ловушку, расставленную писателем, но у него были самые благие намерения. Он «спасал» Добычина, находя в его романе показ измельчания
«предреволюционной интеллигенции, мертвящую тупость провинции».
Одновременно он проницательно отмечал, что
«деталь, мелкие, казалось бы, второстепенные штрихи – Добычин возводит в систему, они составляют основу его художественной манеры… Добычин боится всякой аффектации, назойливости, „тенденции“».
Но постепенно тон критика меняется:
«Иронический скептицизм Добычина индивидуалистичен, его ирония съедает без остатка изображаемое им: вещи и объекты действительности теряют свое реальное соотношение, становясь равноценными, вернее, одинаково неясными, в том выхолощенном мире, который изображен у Добычина».
Причисляя книгу Добычина к ряду книг «экспериментальных», рассчитанных на узкий круг «любителей», Н.Степанов стремился сохранить для Добычина место в маргинальной литературе, прикрыть его именем «экспериментатора», однако был вынужден добавить, что в «экспериментаторности» Добычина «слишком много – от формалистических ухищрений и объективизма».
Но Добычина уже ничто не могло «прикрыть». Труд поставить все точки над «i» взяли на себя Алексей Толстой, приехавший специально из Москвы, чтобы заклеймить Добычина как «позор» для всей ленинградской писательской организации, и литературовед Н.Берковский, который заявил на собрании в Союзе писателей, где «разбиралось» творчество Добычина:
«Беда Добычина в том, что вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения… Этот профиль добычинской прозы – это, конечно, профиль смерти».
Добычин и тут пошел против течения. Он поднялся на трибуну и кратко, со спокойной дерзостью отверг предъявленные ему обвинения. Как было отмечено в отчете о собрании, опубликованном в «Литературном Ленинграде» (20.III.1936), он сказал
«несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждение, что его книгу считают идейно враждебной».
Спустя некоторое время после писательского собрания Добычин исчез. Друзья подняли тревогу. В квартире, где он жил, все было нетронутым, нашли его паспорт: версии об аресте или переезде в другой город исключались.
Стихия воды оказалась в конечном счете роковой не только для героев Добычина, но и для него самого: через несколько месяцев после исчезновения писателя его тело было выловлено в Неве.
Читая Добычина, понимаешь, что он – как и Лиз – в своих произведениях «заплыл за поворот». Но не из кокетства, не из расчета на успех, а потому, что был настоящий писатель. Писательство – это и есть «заплыв за поворот», предприятие рискованное; все прочее, как сказал Верлен, – литература.
Эпоха выполнила, как грозилась, многие свои обязательства. Конфликт Добычина с требованиями времени привел к насильственному забвению его «нейтрального письма». Добычина прокляли, разоблачили как гомосексуалиста и классового врага, растоптали, забыли.
Теперь он воскрес.
«Приняв от всех приветствия и с каждым гостем выпив, именинница сейчас же ошалела и весь вечер просидела молча, хлопая глазами и то вздергивая голову и озираясь, то опять роняя ее».
Недавно в архивах нашли и опубликовали его предсмертную повесть «Шуркина родня», откуда я взял цитату. Эта повесть написана не с «белых» или «красных» позиций. Она написана писателем, который понял, что в России исторически произошло необратимое обесценивание человеческой жизни. Оно породило революцию. Вместе с ней оно породило детей вроде Шурки, которые с младенческих лет способны на все:
«Пешеходы, перекинув башмаки через плечо, шли сбоку по тропинке. Шурка их оглядывал, прикидывая, что с них можно снять, если убить их».
Однажды ему с другом подвернулся лежащий на снегу пьяный. Они сняли с него обувь, а в пустые карманы шинели насыпали, чтобы было смешнее, снегу.
«Шурка посмеялся. – Убивать не будем? – глядя на Егорку снизу вверх, спросил он. – Нет, – сказал Егорка, – не из-за чего, – и Шурка с ним согласился».
В Шуркиной деревне никто не заметил большевистской революции, ни один человек. Казалось, она всегда была в России и всегда будет. «Шуркина родня» – не только литературный шедевр. Это мягко оформленный жестокий приговор. Остается только догадаться, чему и кому.
Именинница, несомненно, одарила нас всех своим отборным потомством.
1985 год
Поэта далеко заводит речь…
(Иосиф Бродский: свобода и одиночество)
Слово как будущее культуры, реализующееся в ее настоящем, как предмет веры агностика, озирающегося в опустевшем пантеоне, словно пассажир в опустевшей электричке, – такова «философия слова» у Бродского. Он боготворит язык в духе неоклассической поэтической контрреформации, корни которой лежат в поэзии, с одной стороны, Элиота и Паунда, с другой – русских акмеистов:
«…Порой с помощью одного слова, одной рифмы пишущему стихотворение удается оказаться там, где до него никто не бывал, – и дальше, может быть, чем он сам бы желал». [14]
В случае с Бродским эмиграция не просто географическое понятие. Поэт пишет на двух языках, отчетливо осознает «дневную» и «ночную» диалектику двуязычия («После того, как я целый день „варюсь“ в английском, русский необходим мне для восстановления сил и здоровья», – здесь можно прибавить: как сон), и его стихи, написанные в эмиграции, существуют одновременно в русской и английской словесных оболочках, на страницах русскоязычных книг и, параллельно, американских поэтических журналов. Смысл этого параллелизма, наверное, не в том, что, будучи наследником двух поэтических традиций, поэт совмещает в себе две поэтические культуры. Его авторские переводы – не механический жест, а момент раскрытия и узнавания англо-американского творческого наследства, так что современная американская словесность видит в Бродском не столько поэта-пришельца, сколько своего продолжателя.
В книге эссе «Меньше, чем единица»[15] Бродский приобщает американского читателя к миру русской поэзии. В своих же русских стихах поэт парит над американским ландшафтом:
Северо-западный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы подвору обветшалой
фермы, суслика на меже.
На воздушном потоке распластанный, одинок,
все, что он видит – гряду покатых
холмов и серебро реки,
вьющейся точно живой клинок,
сталь в зазубринах перекатов,
схожие с бисером городки
Новой Англии…
Этот полет одинокого сильного ястреба, держащего курс на юг, к Рио-Гранде, на пороге зимы, прослежен, казалось бы, американским глазом, но смущает финальная строка стихотворения: детвора, завидев первый снег, кричит по-английски: «Зима, зима!» На каком же языке ей кричать в США, как не по-английски? Последняя строка взрывает герметичность американского мира, вселяет подозрение, что здесь не обошлось без мистификаторской мимикрии, разрушенной напоследок намеренно и наверняка.
В декорациях американского неба вдруг возникает черная языковая дыра, не менее страшная, чем осенний крик птицы, чей образ, и без того нагруженный тяжестью разнородного смысла, в виду той дыры приобретает новое, четвертое измерение, куда и устремляется ястреб:
…Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса – крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.
Бывают программные стихи, но не бывает программных криков, так что я удержусь от банальных определений, замечу только, что этот крик эхом отозвался во всех углах сборника стихов Бродского «Урания» (1987).
Как отзывается эхом и слово одинок. Здесь, я вижу, открывается перспектива дешевого злорадства. Но если это эхо свести к эмигрантскому синдрому, выйдет глупость. Стоит ли говорить о том, что Бродский, один из самых молодых нобелевских лауреатов, не нуждается в лицемерном или в нелицемерном сочувствии, его судьба в американском изгнании – в отличие от многих – сложилась на редкость благополучно, и дело даже не втом, что, обласканный вниманием интеллектуальных кругов, он жил безбедно и вольно, читая лекции по литературе в различных американских университетах, а в том, что его творческая судьба не прерывалась, она логическим образом развивалась.
И если развитие вело поэта все дальше к одиночеству, то это было им же самим предсказанное и неизбежное одиночество, причина коего таилась не столько в исходе политической тяжбы с не распознавшим его талант государством (случай в России распространенный, почти хрестоматийный), сколько в поэтическом кредо Бродского, его экзистенциальной позиции.
Простая, жестокая мысль о том, что свобода художника обретается ценой одиночества, а, если перефразировать Брехта, абсолютная свобода стоит абсолютного одиночества, приходит на ум, когда читаешь стихи из «Урании»:
Вечер. Развалины геометрии.
Точка, оставшаяся от угла.
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.
Так раздеваются догола.
Но останавливаются. И заросли
скрывают дальнейшее, как печать
содержанье послания…
Одиночество, в глазах обывателя, вещь не менее стыдная, чем голое тело. Чем дальше, тем прозрачнее становится воздух стихов Бродского, тени удлиняются, оказываясь куда длиннее человеческих фигур, которые к тому же все чаще оборачиваются мраморными изваяниями, не приспособленными для диалога.
Римская империя – тот поэтический мир, который молодой Бродский воскресил живою страстью противоборства поэта и тирана-барана (устойчивая и несколько легкомысленная рифма разных стихов), – на глазах, за ненадобностью, превращается в собственные руины. Ниспровергать некого; дружить, яростно споря, – зачем? Друзья, возлюбленные из стихов перебираются в посвящения. Это плата за ястребиный полет, который – как видно в том же сборнике «Урания» – может принимать и более умиротворенные формы путешествий, когда гулкие шаги туристического «я» раздаются в различных местах Европы, Америки, отдаваясь в читательском сознании скукой неразделенного переживания. Склонность к длиннотам, свойственная Бродскому, толкающая мысль вращаться по кругу (комплекс латентного резонера), приобретает другое значение. Мысль круто разворачивается к воспоминанию (причем воспоминание о любви уравновешивается любовью к воспоминанию) и сладостно вязнет в нем, в том месиве человеческой жизни, где не было ни свободы, ни одиночества, где было все несовершенно, но зато было: длинноты превращаются в признания:
Мне нечего сказать ни греку, ни варягу.
Зане не знаю я, в какую землю лягу.
Скрипи, скрипи, перо! переводи бумагу.
В сущности, это не так, это только «часть речи» – уступка отчаянию; ведь именно «так раздеваются догола». Однако, как мы уже знаем; спохватываются, «останавливаются». Движение начинается в другую сторону. Мы словно оказываемся в некой геометрической фигуре, в поле сильных разнонаправленных эмоций. Отчаяние сменяется любовью, это особый вид любви, дань давней философской традиции, amor fati, стоическая позиция, с блеском использованная Львом Шестовым (любимый философ поэта), позиция, совмещающая любовь и отчаяние, на полпути от отчаяния к любви. В сорокалетний свой юбилей, уже в Америке, Бродский писал:
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
Но и это лишь часть предполагаемой фигуры. Поэтический мир Бродского, по сути дела, оказывается квадратным. Сторонами квадрата служат: отчаяние, любовь, здравый смысл и ирония.
Бродский изначально умный поэт, то есть поэт, нашедший удельный вес времени в поэтическом хозяйстве вечности. Оттого он быстро преодолел «детскую болезнь» современной ему московско-ленинградской поэзии, так называемое «шестидесятничество», основной пафос которого определялся… впрочем, Бродский отдал этому пафосу мимолетную дань, хотя бы в ранних, весьма банальных стихах о памятнике:
Поставим памятник
в конце длинной городской улицы…
У подножья пьедестала – ручаюсь —
каждое утро будут появляться
цветы…
И т. д., и т. п. Короче, «поставим памятник лжи». Говоря о подобном умозрении и своей Нобелевской речи, Бродский заметил, что
«недостаток разговоров об очевидном в том, что они развращают сознание своей легкостью, своим легко обретаемым ощущением правоты. В этом их соблазн, сходный по своей природе с соблазном социального реформатора, зло это порождающего».
Подобные стихи о памятнике с легкостью обеспечивали поэту репутацию смутьяна, и Бродский в конце 50-х годов явно ценил эту репутацию – назвать его политической девственницей было бы несуразно. Но куда сильнее и своевольнее прорывалась в поэзии юного Бродского тема экзистенциального отчаяния, захватывая попутно темы расставаний, разлук, потерь и старения, оформляясь в элегический жанр, смешиваясь с темой абсурдности жизни и смотрящей из всех щелей смерти:
Смерть – это все машины,
это тюрьма и сад.
Смерть – это все мужчины,
галстуки их висят.
Смерть – это стекла в бане,
в церкви, в домах – подряд!
Смерть – это все, что с нами —
ибо они – не узрят.
Такой бурный «пессимизм» в сочетании с фрондой был чреват общественным скандалом, который не преминул разразиться. В 1964 году двадцатичетырехлетнего поэта судили в Ленинграде за тунеядство. Есть замечательный документ эпохи, эпохи борьбы с абстракционизмом и литературной «оттепелью». Это статья «Окололитературный трутень», созданная в прекрасном стиле не столь отдаленной поры:
«Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках – неизменный портфель, набитый бумагами…»
От вельветовых штанов, в представлении авторов статьи, до измены родине оставался только один шаг, и путем подтасовки вырванных из контекста цитат, обвинений в наглости, порнографии, нелегальных встречах с иностранцами, наконец, в желании угнать самолет за границу авторы пытались доказать, что этот шаг уже сделан. Но поскольку политические обвинения оставались голословными, акцент был все-таки сделан на тунеядстве:
«Надо перестать нянчиться с окололитературным тунеядцем. Такому, как Бродский, не место в Ленинграде».
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
Ну, разумеется: гонения на поэта, которого высоко ставила Ахматова, за которого вступилась, переживала, обеспечили ему необычную судьбу, и такая судьба – нелегкая, опасная, но все-таки не слишком страшная (всего полтора года северной ссылки!), мучительная (не печатали, не признавали – зато признала Ахматова) – нормальная русская поэтическая судьба, за нее только благодарят.
Суд – каким бы гнусным он ни был – в метафизическом измерении жизни предоставил Бродскому право быть поэтом, ибо поэт, как известно, это взаимосвязь стихов и судьбы, и достойный ответ Бродского на вопрос судьи Савельевой о том, кто зачислил его в ряды поэтов: «Я думаю, что это… от Бога», – явился достойным вторжением поэта в свою собственную судьбу.
Роль страдания в поэтической судьбе – запретная тема, поскольку грань между оправданием насилия по отношению к своемыслию и пониманием необходимости страдания слишком неопределенна, хотя речь идет о разных измерениях. Во всяком случае, нелепо со сладостным мазохизмом ожидать страдания как оформления творческой судьбы; страдание не выбирается, а выбирает.
Выступая с Нобелевской речью (т. е. в жанре, где трудно удержаться от замаскированного кокетства), Бродский назвал в качестве своих учителей пятерых поэтов: Мандельштама, Цветаеву, Фроста, Ахматову, Одена:
«Эти тени смущают меня постоянно, смущают меня и сегодня. Во всяком случае, они не поощряют меня к красноречию. В лучшие свои минуты я кажусь себе как бы их суммой – но всегда меньшей, чем любая из них в отдельности».
Список учителей Бродского можно расширить. В него войдут и русские поэты XVIII века, прежде всего Державин, и Баратынский, чье представление о Музе, обладающей «лица необщим выраженьем», близко Бродскому, и обэриуты, и английские поэты-метафизики XVII века, особенно Джон Донн, и Т.-С.Элиот. У англо-американцев, как пишет Бродский в эссе об Одене, он учился «сдержанности» в выражении поэтических чувств, «универсальному значению и тревожной примеси абсурда». Короче, по мнению Бродского:
«Поэт крадет направо и налево, и при этом не испытывает ни малейшего чувства вины».
Но ясно, что результат этих «краж» только тогда становится поэтически ценным, когда преобразуется в собственное видение мира.
«Служенье Муз прежде всего тем и ужасно, – считает поэт, – что не терпит повторения: ни метафоры, ни сюжета, ни приема… Чем чаще поэт делает этот следующий шаг, тем в более изолированном положении он оказывается. Метод исключения в конечном счете обычно оборачивается против того, кто этим методом злоупотребляет».
Иными словами, злоупотребление методом становится для Бродского единственно возможной формой употребления метода, зло же скапливается не в стихах, а в судьбе, расширяя до безграничности пространство одиночества.
Если поэзия современников и сверстников Бродского, вошедших в литературу в начале 60-х годов, развивалась в двух направлениях: в сторону авангардистской эстетики (или же ее выхолощенного эпигонством подобия) и в сторону архаизации речи (в обоих случаях – бегство от нормативной речи, чаще всего инстинктивного свойства), то Бродский попытался осознанно соединить, казалось бы, несоединимые вещи: он скрестил авангард (с его новыми ритмами, рифмами, строфикой, неологизмами, варваризмами, вульгаризмами и т. д.) с классицистическим подходом (величественные периоды в духе XVIII в., тяжеловесность, неспешность и формальная безупречность), скрестил мир абсурда с миром порядка. Эти скрещения позволили поэту преодолеть зависимость от культурной традиции, обрести право беседовать с ней на равных, вырваться из кабалы книжности (книжность – бич «культурных» поэтов, стоящих перед культурой преклонив колени, с умильно-сакральным выражением на лице), сознавая при том, что культура стала частью жизни и, следовательно, требует соответственного отражения (представлять себе, что культура – одно, жизнь – иное и только жизнь заслуживает отражения, – ошибка, как правило, тех полуобразованных поэтов, кто культуру воспринимает как нечто внешнее, то есть неорганично). Бродский преодолел книжность, используя прием «одомашнивания» культуры; здесь футуристическая традиция отношения к культуре как к музею использованных приемов сошлась с интимным переживанием культуры (розановское отношение к литературе как к собственным штанам).








