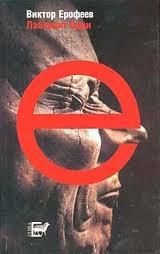
Текст книги "Лабиринт Один: Ворованный воздух"
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Противостоящий «мертвому царству» активный главный герой, тем не менее не оказывается в нем «лучом света». Но в обоих произведениях происходит одно и то же: объективно неприятный (ая) главный (ая) герой (иня) вызывает субъективную читательскую симпатию. Чичиков хоть и дрянь, но он душка. Звук его фамилии, как колокольчик, раздается во всех углах российской словесности. От одного имени Эммы Бовари на глаза читателя навертываются слезы. Этот парадокс не ограничивается, разумеется, лишь героями двух этих книг (достаточно назвать Ставрогина из «Бесов» – случай еще более запутанный), и объяснить его непросто. По поводу Чичикова Ю.Манн высказал предположение, что
«дань симпатии, которую невольно платишь Чичикову, приоткрывает в нем связь с древней традицией пикаро».
Эта дань симпатии
«коренится в его (то есть, пикаро. – В.Е.) неодолимой жизненной силе, хитроумии, постоянной готовности начать все сначала, умении приноровиться к любым обстоятельствам»,
однако
«психологическая реакция, пробуждаемая гоголевским персонажем, не сводится к простому сочувствию или несочувствию и предполагает более сложный комплекс чувств». [61]
Словно предвосхищая такую реакцию, Гоголь обращается к читателям:
«А кто из вас, полный христианского смиренья… углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: „А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?“»
Гоголь считает это, отмечу, тяжелым запросом.
«Госпожа Бовари – это я», – сказал Флобер, отнюдь не поэтизируя при этом человеческие свойства Эммы. Эгоизм – общая характеристика для обоих наших героев. Ради успеха Чичиков готов преступить даже закон, правда, он нарушает его в области вопиющего государственного беззакония: узаконенного рабства. Эмма нарушает гораздо более «священные» законы. Она не только неверная жена, но и дурная мать. Более того, она лжива, похотлива, не слишком умна, и тем не менее она притягивает к себе читателя, который в конечном счете переживает ее смерть как трагедию. Сочувствовать же обманутому Шарлю столь же, кажется, невозможно, сколь невозможно не сочувствовать Дымову в чеховской «Попрыгунье».
Оба героя мечтают о счастье. В какой-то момент они оба почти у цели. Если бы не была случайно разоблачена чичиковская афера с брабантскими кружевами, ему бы не нужно было разъезжать по России в погоне за мертвыми душами. Если бы Эмма смогла уехать с Родольфом в Италию, она бы, возможно, нашла свое скромное счастье. Но героям фатальным образом не везет, не потому, что они хуже других, а потому, что сделаны из другого теста. Они игроки, их жизнь – авантюра, азартная игра, и они расплачиваются за эту игру по-крупному: жизнью или потерей свободы. Может быть, именно поэтому читатель принимает их сторону, начинает видеть события с их точки зрения; человеческое несовершенство такого героя отступает на задний план: читатель уважает его за степень, за масштабность риска, и в этом смысле герой не только выше своего окружения, но и выше самого столь отчаянно не рискующего читателя.
Мы говорим о близости этих двух героев, но достаточно представить их вместе, рядом, чтобы понять, что они равномерны, что их существование протекает в различных плоскостях художественного бытия. Если искать формулу их различия, то она такова: гоголевские герои «Мертвых душ», включая Чичикова, представляют собою человекообразных монстров, похожих на людей, но людьми окончательно не становящихся. Сам Гоголь называл их «чудовищами» и утверждал, что «все это карикатура и моя собственная выдумка». Его изумило, что Пушкин при слушании поэмы этого не заметил, отнес «чудовищ» на счет самой России: «Боже, как грустна наша Россия!» Из этого восклицания Гоголь сделал вывод, что необходимо смягчить тягостное впечатление, и как будто решил разбавить излишне концентрированный раствор «чудовищности». Но восклицание Пушкина не лишено смысла. Гоголевские герои действительно явили собой квинтэссенцию пороков русской жизни – общественных, национальных, человеческих, – которые приняли антропоморфный вид. Их чудовищность была пропорциональна скорее имперской чудовищности, нежели собственно человеческой. Вот почему возглас Пушкина относится к России, а не к человеку, не к его природе, и чудовищность эта была отнюдь не злодейского, романтического свойства: это были не злодеи, а ничтожества. Так была реалистически изображена чудовищность ничтожества, пошлости.
Со своей стороны, Флобер в «Госпоже Бовари» также изобразил всю чудовищность ничтожества, дотоле не изображенную во французской литературе. Но он подошел к этой теме иначе, и здесь он гораздо ближе к Толстому и Чехову, нежели к Гоголю.
Если у Гоголя монстры похожи на людей, то у Флобера люди похожи на монстров.
В гоголевской поэме нет места для трагедии. Даже смерть приобретает комический отгенок. Это видно на примере «бедного прокурора». Слухи о Чичикове
«подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: „Ах, Боже мой!“ – послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была точно душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал».
Далее Гоголь отмечает, что
«появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно в великом человеке»,
но это утверждение словно намеренно противоречит вышесказанному, поскольку о смерти сообщено легкомысленно-ироническим тоном: «хлопнулся со стула, навзничь» – это будто о кукле или насекомом; «как водится, всплеснув руками» – то есть произошло нечто обыденное; «прихватило», «одно бездушное тело» – выражения также иронические. Ничего страшного нет в этом покойнике, который
«теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер и зачем жил, об этом один Бог ведает».
И дальше, когда Чичиков встречает погребальную процессию, он рассуждает о том, что
«если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя (прокурора. – В.Е.) всего только и было, что густые брови»,
и даже радуется встрече с процессией, потому что,
«говорят, значит счастие, если встретишь покойника».
У Флобера смерть Эммы описана в совершенно иной тональности. Это – трагедия, которой сопутствует подробно описанная агония, с судорогами, болями, рвотой и т. д., затем вопли Шарля. Дано жуткое описание мертвой Эммы:
«Голова Эммы склонилась к правому плечу. В нижней части лица черной дырой зиял приоткрытый уголок рта. Большие пальцы были пригнуты к ладоням, ресницы точно посыпаны белой пылью, а глаза подернула мутная пленка, похожая на тонкую паутину. Между грудью и коленями одеяло повисло, а от колен поднималось к ступням. И показалось Шарлю, что Эмму давит какая-то страшная тяжесть, какой-то непомерный груз».
Если сравнить это описание с «густыми бровями» прокурора, то станет более очевидна человеческая значимость флоберовской героини, подчеркнутая автором столь же решительно, сколь решительно подчеркивается Гоголем человеческая незначительность прокурора. Разумеется, после подобного описания Эммы разговор Оме с аббатом, происходящий в комнате покойницы и переходящий в бурный псевдофилософский спор, кажется верхом человеческой бестактности, бесчувственности, душевной тупости.
И тем не менее трудно сказать, что оставляет более гнетущее в конце концов впечатление – физиологически достоверное описание трупа или сведение человека к одним только «густым бровям». Ведь отсутствие, невозможность трагедии – это в какой-то степени еще большая трагедия, чем самая трагедия…
Любовь не более знакома гоголевским героям, чем сочувствие и соболезнование. Супружеские отношения между Маниловыми, которые
«весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу… запечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку»,
или между Собакевичем и его худощавой женой, которая,
«выслушав в постели сообщение мужа о его знакомстве с Чичиковым, отвечала „Гм!“ и толкнула его ногою»,
носят карикатурный характер. Влюбленный в губернаторскую дочку Чичиков представляет собой нелепое зрелище, предмет насмешек повествователя. Несовместимость любви с «личностью» гоголевского персонажа очевидна. Флоберовский роман – о любви. Эмме знакомы глубокие чувства, они обуревают ее, причиняют страдания. Вспомним муки, которые испытывает Эмма после того, как ее бросает Родольф. Дело едва не кончилось самоубийством. Эмме потребовалось много недель, чтобы прийти в себя. Ни Чичикову, ставшему на несколько минут «поэтом» на балу, когда он увидел институтку, ни другим персонажам «Мертвых душ» подобные переживания не грозят. И опять-таки (как и в отношении смерти) неспособность испытывать переживания страшнее, быть может, чем сами болезненные переживания. Правда, и в «Госпоже Бовари» встречаются персонажи, которые неспособны на живые чувства. Таков объект пылкой любви Эммы – Родольф, освоивший механизм соблазнения; таковы многие соседи Эммы, которые стали свидетелями ее катастрофы, но ничего не сделали, чтобы ей помочь; таков, наконец, торговец Лере.
Казалось бы, процесс человеческой деградации у Гоголя, изображающего чудовищность пошлости и ничтожества, зашел гораздо дальше и привел к более радикальным выводам, чем у Флобера. У него люди уже перестали быть людьми, стали куклами, но персонажи Гоголя никогда и не задумывались автором как живые люди. Нужно постоянно держать в уме слово «карикатура».
Вспомним слова Пушкина о гоголевском даре, которые приводит сам Гоголь:
«Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Примерно то же самое можно сказать и о даре автора «Госпожи Бовари». Весь вопрос в том, как используется этот дар. Здесь две национальные традиции изображения пошлости, истоки которых как раз и находятся в творчестве Гоголя и Флобера, в значительной мере расходятся. Французская традиция выбирает, как правило, путь объективной констатации, беспристрастности. Все ограничивается жестом разведения рук, выражающим и горечь, и беспомощность.
Русская традиция, начиная с Гоголя, верила в возможность исправления мира, и потому учительствовала, проповедовала, боролась.
Гоголь создал в «Мертвых душах» атмосферу сверхпошлости, архиничтожества. Он гиперболизировал пороки с той же силой, с какой в романтическом «Тарасе Бульбе» героизировал подвиги своих соплеменников. В каком-то смысле персонажи «Мертвых душ» не менее «героические», нежели персонажи «Тараса Бульбы», изменен только знак и вместо исторического полотна дана обыденная действительность. В этой гиперболизации пошлости есть своего рода переосмысленный элемент романтической поэтики. Но Гоголь не удовлетворяется показом пошлости. Он смешит, предупреждая. Роль повествователя становится чрезвычайно активной. Знаменитые «лирические отступления» приобретают значение вдохновенного призыва и проповеди.
Приведу наиболее хрестоматийное отступление, которое, может быть, потому и стало хрестоматийным (подхваченным, распропагандированным и замученным российским «литературным» проповедничеством), что в нем звучит прямой призыв к читателям (в нем же – зародыш грядущего кризиса гоголевской поэтики, раздавленной в «Выбранных местах из переписки с друзьями» поучительством). Еще не закончив описания встречи Чичикова с Плюшкиным, Гоголь восклицает:
«И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!»
Гоголь стремится найти объяснение каждому изображенному пороку: там неправильное воспитание, здесь извращенное представление о жизненных ценностях, склонность к приобретательству и т. д. Мало того, Гоголь намечает перспективу искоренения зла, Флобер такой перспективы не видит. Для Гоголя его герои и их поведение несут отпечаток патологии; для Флобера – ничтожество, пошлость оказываются нормой. Функции повествователя в «Госпоже Бовари» гораздо более ограничены, нежели в «Мертвых душах», однако повествователь время от времени находит для себя возможность достаточно незаметно высказать собственные суждения.
Так, комментируя переезд супругов Бовари в Ионвиль, Флобер пишет, что
«Эмма не допускала мысли, что и в новой обстановке все останется как было…».
Эмма не допускала, но сам повествователь не только допускает, но и знает, что смена обстановки не приносит существенной перемены. В другом месте, описывая ссоры Эммы с Леоном, Флобер пишет, что,
«несколько успокоившись, она поняла, что была к нему несправедлива. Но, – продолжает Флобер, – когда мы черним любимого человека, то это до известной степени отдаляет нас от него. До идолов дотрагиваться нельзя – позолота пристает к пальцам».
Или размышление о человеческой речи:
«…Никто …до сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов, горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс»
(«трещина в котле» – это, по сути дела, трещина между «обозначаемым» и «обозначающим», предвосхищающая модернистскую эстетику XX в.).
Флоберовские рассуждения скорее расхолаживают читателя, нежели ободряют, зовут на борьбу с пошлостью жизни. В них важной особенностью является момент обобщения, которое достигается автором благодаря использованию местоимения «мы». Флобер неустанно напоминает, что разница между «нами» и Эммой не существенна, это разница положений, но не удела.
Флобер высмеивает человеческую ничтожность не с тем, чтобы ее изжить, а для того, чтобы показать ее значение в человеческой жизни, ее роль, которая всячески умалялась романтической литературой.
Пошлость принимает различные формы. Это прекрасно видно по гоголевским помещикам, городским чиновникам и дамам. Причем пошлость почти не маскируется под какие-то высокие идеи. Она не прячется, а напротив, выпирает, лезет в глаза. Маскируется разве что Чичиков, да и то не для того, чтобы скрыть свои цели, скорее – нелегальные средства.
У Флобера, напротив, мы встречаемся с различными видами маскировки. Комизм Флобера в связи с этим имеет функцию распознания и разоблачительства.
Смех Флобера прежде всего обращен против «прогрессивного» аптекаря Оме. Вся линия Оме в романе пронизана сатирой. «Передовая» философская и гражданская позиция аптекаря, основанная на «бессмертных принципах восемьдесят девятого года», постоянно приходит в вопиющее противоречие с жизненной философией персонажа, основанной на самых низменных принципах накопительства. Оме компрометирует «бессмертные принципы» своей привязанностью к ним, и Флобер отнюдь не против подобной компрометации. Дело не только в том, что эти принципы выродились в «готовые идеи», то есть пропитались пошлостью; они с самого начала, возможно, в своем первозданном виде заключали весьма иллюзорную, во всяком случае для автора, идею улучшения человеческой природы. Приверженность Оме прогрессивным принципам как бы косвенно свидетельствует о том, что сами по себе эти принципы ничего изменить не в состоянии. В Оме есть своеобразная «маниловщина». Помните удивительные имена сыновей Манилова: Фемистоклюс и Алкид? Оме также
«предпочитал имена, напоминавшие о каком-нибудь великом человеке, славном подвиге или же благородной идее. Так, Наполеон представлял в его семействе славу, Франклин – свободу; Ирма знаменовала, должно быть, уступку романтизму, Аталия же являла собою дань непревзойденному шедевру французской сцены».
Наряду с Оме развенчивается Родольф, на словах романтический любовник, шепчущий на ухо Эмме зажигательные слова, но рассуждающий о ней с позиций самого откровенного цинизма. Юмористична сцена сельскохозяйственной выставки, где автор сталкивает посредством новаторского для того времени монтажа слова официозной речи и пылкие признания Родольфа, обращенные к Эмме.
Много юмористических деталей в портретах Леона и Шарля Бовари, забавны реплики Шарля при слушании оперы. Нередко подтрунивает автор и над самой Эммой, над ее литературными вкусами:
«Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств – этого и в жизни довольно», —
говорит Эмма, словно высказывая свое мнение о романе «Госпожа Бовари». Замечательна по своему юмору сцена в соборе, когда Эмма с Леоном спасаются бегством от привратника, который пытается за небольшую мзду рассказать им историю собора.
Поистине гоголевский юмор присутствует в сцене, где речь идет о сбежавшей от Эммы собаке. Эмму утешают со всех сторон, рассказывая
«ей всякие истории про собак, которые пропадали, но много лет спустя все-таки отыскивали хозяев».
Лере, будущий губитель Эммы, здесь на полном серьезе
«утверждал, что чья-то собака вернулась в Париж из Константинополя. Другая пробежала по прямой линии пятьдесят миль и переплыла четыре реки. У отца г-на Лере был пудель, который пропадал двенадцать лет и вдруг как-то вечером, когда отец шел в город поужинать, прыгнул ему на спину».
Эти небылицы Лере, отчасти напоминающие ноздревские россказни, в целом не свойственны для эстетики Флобера. Его смех, как правило, не носит примиряющего характера, это смех разоблачителя иллюзий, призывающего трезво взглянуть на жизнь. Такой смех стынет на губах, его отнюдь не назовешь веселым.
«О достоинстве книги можно судить по силе тумака, который от нее получаешь, – писал Флобер в одном из своих писем, – и по количеству времени, какое нужно, чтобы прийти в себя. Поэтому великие мастера доводят идею до последнего предела чрезмерности».
Такая шоковая эстетика характерна и для Гоголя. И в случае с «Мертвыми душами», и в случае с «Госпожой Бовари» «сила тумака» была колоссальна. Роман Флобера, как известно, подвергался судебным преследованиям «за безнравственность». «Мертвые души», по свидетельству самого Гоголя,
«испугали Россию и произвели… шум внутри ее».
Но Гоголь был убежден в том, что этот испуг пойдет на пользу России.
«…Пошлость всего вместе испугала читателя, – пишет Гоголь в „Выбранных местах…“. – Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже приотдохнуть или дух перевести бедному читателю… Русского читателя испугала его ничтожность более, нежели все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный!»
Гоголь считал, что
«в ком такое сильное отвращение от ничтожного, в том, верно, заключено все то, что противоположно ничтожному».
Моральная проповедь – одна из наиболее характерных черт русской литературы. Французский реализм предпочел идти иным путем. Он разоблачал иллюзии и высмеивал человеческую ничтожность, пошлость и глупость, но он оставался почти всегда верным убеждению, что ничтожность, пошлость и глупость являются не патологией, а печальной нормой человеческой жизни. Русский классический реализм никогда не мог примириться с этой мыслью.
1983 год
Ля Софи э дорме дежа (Чехов – интеллигенция – Франция – Чехов)
1. Порча текста
– Москва – это город, которому придется еще много страдать, – сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь, и неожиданно запел:
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!..
– Что это вам пришло в голову?
– Так. Люблю Москву.
Чехов – нашей юности полет… Мы – интеллигенция. Чехов такой же, как мы, только немножко лучше. Чтобы понять русское интеллигентское сознание, нашу норму, читайте Чехова. Чехов – пророческие будни русской ментальности. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой – все это экстрема. Мы не можем быть Гоголем, да и не очень хочется, но Чеховым можно стать, если постараться.
«И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее, и относились почему-то враждебно к другим городам; они были убеждены, что Москва – замечательный город, а Россия – замечательная страна. В Крыму, на Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. Дни, когда в окна стучит холодный дождь и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый, печальный цвет, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надеть, – такие дни приятно возбуждали их».
И после Чехова – тоже одни мечтания: декаданс, модернизм, символизм, патологический Сологуб, бесноватый Белый, авангард, акмеизм, словесная метель 20-х годов, все эти Замятины, Пильняки, и – большая мечта соцреализма. То холодно, то горячо, только ровного света и тепла нет. И никто не посмотрит на русскую историю взвешенно.
«– В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу, – сказал Ярцев, – но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха… Я ненавижу русские исторические пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, не оригинальной».
Мы – против крайностей. Нам смешны те, кто пишет статьи под названием «Русская душа» с таким, с позволения сказать, содержанием:
«…Интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь».
«– Но тут ты не пишешь, от чего надо спасти Европу, – сказал Лаптев…
Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:
– Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разно мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобой люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода».
Да, конечно! Хотя с другой стороны – нет! Кому, как не нам, знать о том, что азиатчина – погибель для России. Все мы «московские Гамлеты» с одинаковой жалобой:
«А между тем, ведь я мог бы учиться и знать все, если бы я совлек с себя азията (здесь и далее в цитатах курсив мой. – В.Е), то мог бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла, сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гигиену: я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с Китаем и Персией, уменьшать процент смертности, бороться с невежеством, развратом и со всякою мерзостью…»
«– Мы темень! – доносится из другого рассказа. – Видим, что вывеска написана, а что она, какой смысл обозначает, нам и невдомек… Носом больше понимаем… Ежели водкой пахнет, то значит – кабак, ежели дегтем, то лавка…»
Так кто кого родил? Интеллигенция – Чехова или Чехов – интеллигенцию? Он нас родил, а мы его родили – взаимородились. Нас только на время занавесили красной тряпкой. Мы никогда не были идеологическими людьми – это выдумка Достоевского. Но мы тоже иногда любим поспорить, потосковать.
2. Смерть иностранца
Мне кажется, французскую культуру у нас насаждали отнюдь не французы. Европу мы приглашали в одну дверь, выталкивали – в другую. От фонвизинского «Бригадира» через весь девятнадцатый век наша литература боролась с французским засилием.
Мне кажется, если у Гоголя французы – черти, то у молодого Чехова французы – дураки. Чем провинились французы перед Антошей Чехонте? Что они ему сделали?
Валери писал о пошлости текста, начинающегося словами:
«Графиня вышла в пять часов».
Мне кажется, русский текст, начинающийся словами:
«Жан вышел в пять часов», —
будет непременно гадким. После Пушкина (который в традиции классицизма воспринимал своих иностранных персонажей как мировых героев, их поди назови иностранцами) все иностранцы были карикатурны (у Пушкина, впрочем, тоже: в «Дубровском»), «Жан вышел…» – уже карикатура. Наша литература не переваривает иностранных имен. Они для нее – человеческая пародия.
Мне кажется, наша литература настолько загоняет иностранный характер в стереотип национального поведения, что определение национальности становится более значимым, нежели характер любого иностранного героя. «Жан» никогда не оправдается, у него нет алиби, он всегда иностранец, при любых обстоятельствах, в каждом своем поступке. «Жан» отчужден раз и навсегда. Он – другой. «Жан» в нашей литературе недостоин имени человека. В «Жане» нет души, это кукла. Он может быть иногда описан по-человечески, но даже в самом добром, сентиментальном, со слезой описании сквозит удивление:
«Смотри-ка, он почти такой же, как мы».
«Жан» порой хорош на запасных ролях, но в герои ему не пробиться. Наполеон всегда хуже «Жана»-гувернанта.
А вам не кажется, что пресс отчуждения, который русская литература накладывает на иностранных героев, говорит о какой-то внутренней несвободе при всей той свободе, которая вроде бы традиционно ею исповедуется? «Жан» всегда остается угрозой, а угрозу надо либо уничтожить, либо высмеять, в любом случае, нейтрализовать.
Мне кажется, смерть иностранца – не трагедия, а фарс, забавная история. Проследить, как ослабляется гуманистическое чувство по отношению к иностранцу, значит установить меру ненастоящности иностранца. Чеховский «бессрочно отпускной рядовой» Гусев знает, кого спасать:
«– Крещеный упал бы сейчас в воду – упал бы и я за ним. Немца или манзу не стал бы спасать, а за крещеным полез бы».
Поистине садомазохистский взрыв страстей вызывает это глубокое, подспудное отчуждение от «манзы», тревожно-сладостное, ни с чем ни сравнимое ощущение кольца иностранной блокады.
Мне кажется, межнациональная тема в русской литературе – самая срамная тема.
3. Отрицательный клоун
Чехонте играет с французом, как кошка с мышкой. Его юмор предопределен «народной» ксенофобией. Он не ставит ее под сомнение, но поощряет и дополняет своими наблюдениями, становясь ее аморфным носителем. Как выразитель общего настроения он интересен не как субъект, а как объект.
Герой рассказа «Глупый француз» – французский клоун Генри Пуркуа. Клоуны – положительные герои в мировой литературе, их образы строятся на контрасте. Клоун у Чехонте – знак отчуждения, сигнал к недоверию. Клоун понят и взят дословно как клоун, без психологического слома; он дурачится, потому что дурашлив. Его «говорящая» фамилия Пуркуа (Почему) превращает его в амебу.
Итак, Генри Пуркуа зашел в московский трактир позавтракать, заказал «консоме» и занялся наблюдением публики.
«Как, однако, много подают в русских ресторанах! – подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины маслом. – Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?»
Первая мысль клоуна – преодолеть свое удивление (снять психическое напряжение) сравнением с чем-то родным:
«Впрочем, такие феномены не составляют редкости… У меня у самого в Бретани был дядя Франсуа, который на пари съедал дне тарелки супу и пять бараньих котлет…»
Но русский сосед ест явно больше дяди Франсуа. В голову клоуна закрадывается смешная мысль, что сосед путем обжорства хочет покончить с собой:
«Нельзя безнаказано съесть такую массу! Да, да, он хочет умереть. Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест?»
Эта дважды смешная мысль – успех Чехонте: смешно и то, что можно покончить с собой путем обжорства, и то, что подобная мысль приходит в голову французу, дезавуируя его как глупого человека.
Пуркуа подозвал полового – тот ничего не понял. Клоун утвердился в своем, очевидно, устойчивом мнении о русских:
«Дикари! – возмутился про себя француз. – Они еще рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль!»
Слово «дикари», казалось бы, сюда плохо подходит. Но в отношении русских любая странность поведения определяется дикостью, варварством, «татарщиной», и слово «дикари» должно постоянно пребывать на губах у француза, срываться первым.
Теперь от того, что дальше произойдет, может пострадать национальная гордость. Если француз окажется прав, рассказ для русского уха перестанет быть смешным, потому что восторжествует чужая точка зрения. Заранее ясно, что этого не произойдет. Зато посрамление глупого француза добавит к смеху приятное чувство превосходства, на что Чехов идет, интуитивно следуя желанию найти интимный контакт с читателем для авторского господства над ним.
Пуркуа пытается завести разговор с русским обжорой.
«– Послушайте, monsieur, – обратился он к нему тихим, вкрадчивым голосом. – Я не имею чести быть знаком с вами, но, тем не менее, верьте, я друг ваш… Не могу ли я вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы еще молоды… у вас жена, дети…
– Я вас не понимаю! – замотал головой сосед, тараща на француза глаза.
– Ах, зачем скрытничать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что… трудно не подозревать…
– Я много ем?! – удивился сосед. – Я?! Полноте… И вовсе я много не ем! Поглядите, ем, как все!
Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. За столами люди поедали горы блинов, семгу, икру… О, страна чудес! – думал Пуркуа, выходя из ресторана. – Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О страна, чудная страна!».
Француз признал себя побежденным. Устройство русских желудков превратило Россию в исключительную, самобытную страну. Почему все-таки француз – глупый? Ведь обжираться – в самом деле вредно, да и грех. Обжираются действительно дикари. Мысль о самоубийстве (по крайней мере, с точки зрения современной медицины) вовсе не глупа. Так почему в жестких, узких рамках рассказа победили русские богатыри, обжоры? Откуда в считанные секунды они оказались в моральном превосходстве? Что, собственно, произошло? Почему француз со своим «консоме» так жалко выглядит на фоне блинов, семги и икры?








