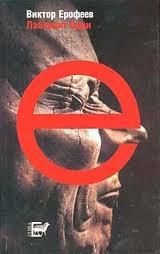
Текст книги "Лабиринт Один: Ворованный воздух"
Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Но не споры вокруг «Эрнани» нужны были Гоголю в «Риме». Он стремился к приговору, зная, что и без него найдутся те, кто с восторгом опишет новинки парижской сцены, с придыханием расскажет о прочих успехах Парижа. И вот приговор:
«И увидел он наконец, что, при всех своих блестящих чертах, при благородных порывах, при рыцарских вспышках, вся нация была что-то бледное, несовершенное, легкий водевиль, ею же порожденный. Не почила на ней величественно-степенная идея. Везде намеки на мысли, и нет самых мыслей; везде полу страсти, и нет страстей, все не окончено, все наметано, наброшено с быстрой руки; вся нация – блестящая виньетка, а не картина великого мастера» (3,197).
Приговор резкий, пристрастный, тенденциозный. Гоголь намеренно полемичен. Он создал отталкивающий образ Франции не потому, что Франция такова, а скорее потому, что его отталкивала ее роль в отношении стран, желающих следовать за ней по пятам. Это функциональный образ Франции, не Франция-для-себя, которая, в сущности, Гоголя не интересует, а Франция-для-России, которая в отрывке соответствует Франции-для-Италии, шире: Франции-для-не-Европы. Это Франция, развернутая в сторону России с тем, чтобы стать ей предупреждением, это мощный удар по Франции-эталону, дискредитация противника.
И столь же характерно, при состоянии войны, обращение Гоголя к великим предкам Франции для демонстрации того, какая пропасть выросла между прошлым величием и нынешней нищетой.
«О, Мольер, великий Мольер! Ты, который так обширно и в такой полноте развил свои характеры…» —
восклицает Гоголь в «Петербургских записках 1836 года». Раньше – Мольер, а теперь
«Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!..» (6, 112).
Чтобы успешно воевать, нужно, как известно, показать нравственное вырождение противника.
Рассмотрим следующие за Маниловым персонажи поэмы.
Коробочка, которая далека от всякой иностранщины, ни словом не обмолвилась о французах в своем разговоре с Чичиковым, и единственно, что можно воспринять как некое отношение Коробочки к французам, – это то, что на картинах, висящих у нее в доме,
«не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова…».
В известном смысле портрет Кутузова в доме богобоязненной Коробочки, которая испугалась необыкновенно, когда Чичиков «посулил ей черта», можно рассматривать как икону, выставленную против чужеземной нечистой силы, во славу национального героя-избавителя, своего рода Георгия Победоносца.
Между тем в главе о Коробочке Гоголь дважды заводит речь о французах. Рассуждая о том, велика ли пропасть, отделяющая Коробочку от
«сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома», Гоголь упоминает среди тем «остроумно-светского визита, где ей (сестре Коробочки. – В.Е.) предстанет поле блеснуть умом… мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных, благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм» (5, 58).
Здесь опять-таки отмечена губительная роль Франции, которая отвлекает людей от насущных дел, порождает фантастические интересы.
В той же главе, несколько ранее, сообщая, что Чичиков говорил с Коробочкой с большей свободой, нежели с Маниловым, Гоголь высказывает свою знаменитую мысль о том, что
«у нас на Руси, если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Перечислить нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя…» – и тут Гоголь спохватывается, как бы француз (вместе с немцем) не вышел у него в идеализированном виде, и добавляет: «…конечно, в душе поподличает в меру перед первым».
Французская тема вновь звучит в эпизоде с Ноздревым. Здесь на первый план выходит бессознательно выработанное у Ноздрева представление о французском эталоне. Французское – самое лучшее, и прежде всего вино, но особый шик, которым обладает штабс-ротмистр Поцелуев и который приводит Ноздрева в восторг, состоит в том, чтобы уметь «одомашнивать» иностранные понятия, быть с ними, так сказать, на фамильярной ноге. Поцелуев «бордо называет просто бурдашкой». Сам же Ноздрев воздвигает некий немыслимый эталон эталона, его высшую, головокружительную степень и при этом запросто ей соответствует:
«Шампанское у нас было такое, – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит, двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бон-бон. – Запах? розетка и все, что хочешь».
Ноздрев также с восторгом повествует о «волоките Кувшинникове», который подсаживается к красотке и
«на французском языке подпускает ей такие комплименты…».
Следующий в череде помещиков, Собакевич, дает Ноздреву как бы заочный отпор. Собакевич решительным образом не одобряет французскую гастрономию.
Пищевой код играет существенную роль в структуре мифопоэтического образа. В «Страшной мести» колдун отказывается есть «христианскую» пищу и вместо водки тянет из фляжки «какую-то черную воду» (кофе, по остроумной догадке Андрея Белого). У Гоголя постфантастического периода мифопоэтический образ намеренно идеологизируется, приобретает черты ксенофобии. Франция становится диктатором гастрономических вкусов, завоевывает Россию через желудок. Французский ресторан как предмет мечты фигурирует в «Портрете». Став обладателем золотых червонцев, Чартков посещает французский ресторан,
«о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве» (3, 85).
В истории капитана Копейкина, рассказанной почтмейстером, дан «романтический» образ петербургского французского ресторана, мимо которого проходит голодный инвалид.
Всем этим возвышенным представлениям противостоит резко сниженное представление – Собакевича. Критикуя стол у губернатора, он утверждает:
«Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его да и подаст на стол вместо зайца».
Здесь важен момент подлога: вместо зайца подается кот. Внешность пищи так же обманчива, как и самая сущность француза.
«…Я гадостей не стану есть, – продолжает Собакевич. – Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа».
Тут же достается и иностранным докторам:
«Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкокостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят!» (5, 98).
Собакевич утрирует, доводит до абсурда мысли, которые, возможно, не столь чужды самому автору. Если Ноздрев возводит французский эталон, так сказать, в квадрат, то Собакевич, напротив, сокрушает его всею своею мощью.
С пищевым кодом связан и единственный более-менее развернутый образ француза, который возникает в поэме. Речь идет о шестой главе, посвященной Плюшкину. В истории «плюшкинского упадка» французы сыграли известную роль.
Описывая жизнь «прежнего» Плюшкина, Гоголь отмечает:
«В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок; приносил всегда к обеду тетерок или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яичницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел» (5, 117).
Образ учителя-француза играет в поэме роль, в какой-то степени аналогичную роли поручика из Рязани, который был «большой, по-видимому, охотник до сапогов», или молодого человека, обернувшегося на экипаж Чичикова, когда тот въезжал в город. Здесь так же достаточно подробное описание француза никак не обусловлено сюжетной ролью, ему отведенной, ролью, близкой к нулю.
Это специфическая черта гоголевской поэтики, которую выделял В.Набоков, находя, что она нужна для вождения читателя за нос.[67] Характеристика учителя-француза являет собою пример алогизма: «славно брился и был большой стрелок» – сочетание разноплановых вещей, которые, кажется, умышленно никак не представляют француза как учителя: видать, он лучше брился, чем учил. Кроме того, эта характеристика в своей части «был большой стрелок» отчасти юмористически оспаривается, поскольку француз
«приносил к обеду тетерок или уток, а иногда и одни воробьиные яйца» —
еще один пример алогизма. Вместе с тем дана значимая деталь: француз сам ест яичницу из воробьиных яиц,
«потому что больше в целом доме никто ее не ел».
Не ели, очевидно, из брезгливости. Но почему француз был охоч до такой яичницы, остается характерной для Гоголя загадкой: то ли француз был скуповат, то ли скуповат, прижимист был уже и сам «прежний» Плюшкин, кормивший француза не досыта, отчего тому приходилось сделаться «большим охотником» и добывать воробьиные яйца, то ли это было его французской причудой.
Образ мелькнул и исчез, но и в нем тем не менее аккумулировано несколько типичных гоголевских черт.
Учитель явил собой знак барской обстановки, богатого и широкого образа жизни, приобщенности «прежнего» Плюшкина к общепринятым представлениям о воспитании. Точно так же в «Коляске», повествуя о жизни Чертокуцкого (у него, как и у Чарткова, «черт» скрылся в фамилии), Гоголь пишет, что он
«вообще вел себя по-барски, как выражаются в уездах и губерниях, женился на довольно хорошенькой, взял за нею двести душ приданого и несколько тысяч капиталу. Капитал был тотчас употреблен на шестерку действительно отличных лошадей, вызолоченные замки к дверям, ручную обезьянку для дома и француза-дворецкого» (3, 157).
Здесь обезьяна приравнена к французу-дворецкому как деталь роскоши. Если иметь в виду, что в той же «Коляске» тамошний городничий называет свиней «французами» (опять тот же «нечистый» ряд: «немец» – свинья), то весь этот юмор невольно приобретает «антифранцузский» оттенок.
Непосредственно за описанием француза-учителя в поэме следует фраза:
«На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц» (5, 117),
дочерей Плюшкина. Эта «компатриотка» никак не описана, что несколько «несправедливо» (но вполне по-гоголевски!), поскольку она больше причастна к сюжету. В отличие от поедателя воробьиных яиц, который впоследствии был «отпущен», так как сыну Плюшкина пришла пора служить,
«мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны»,
старшей дочери, которая убежала со штабс-ротмистром. Но какова была роль француженки в похищении, Гоголь не сообщает.
Два этих француза мелькнули в ретроспективном плане поэмы. Что же касается французов, встречающихся в «Мертвых душах» в момент чичиковского путешествия, то единственным «живым» представителем нации выступает проскочивший в перечислении гостей на балу у губернатора некий француз Куку:
«Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский – все поднялось и понеслось…»
Перечисление гостей напоминает «светскую хронику», своего рода отчет о бале, о тех, кто там был. В этом смысле «француз» звучит не менее престижно, нежели «чиновник из Петербурга», или «грузинекий князь», – это почти что титул, во всяком случае, в масштабе губернского бала. И характерная черта: чтобы Чипхайхилидзев попал в этот список, ему нужно быть грузинским князем; Куку достаточно быть просто французом.
Среди помещиков-галломанов, как Манилов, Ноздрев и отчасти «прежний» Плюшкин, и помещиков, которым нетделадо Франции (Коробочка) или же которые критически взирают на европейское «просвещенье» (Собакевич, у которого, кстати, тоже висит портрет героя 1812 года, Багратиона), Чичиков занимает промежуточное положение, и оно колеблется в зависимости оттого, насколько Гоголь отчуждается от своего героя.
Когда автор вкладывает в уста Чичикова мысли, близкие своим, Чичиков отодвигается от Европы, вооружается по отношению к ней достаточно трезвым и ироническим взглядом. Примером служит рассуждение Чичикова о балах. Раздосадованный тем, что Ноздрев на балу разболтал о покупках мертвых душ, Чичиков всердцах проклинает балы:
«…Дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре, черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик (вновь сравнение иностранщины с демонизмом, на этот раз по поводу одежды. – В.Е.), и давай месить ногами… Все из обезьянства, все из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право… после всякого бала, точно, как будто какой грех сделал; и вспоминать даже о нем не хочется» (5, 174–175).
Но когда Чичиков предоставлен, условно говоря, самому себе, его тяга к европейскому «просвещенью» становится сильной. Готовясь к балу, он перед зеркалом репетирует весь свой набор «европейских» ухваток. Среди прочего
«отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе» (5, 160–161).
Обратим внимание на его службу в таможне, находящуюся как бы на стыке двух миров. Таможенная служба
«давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: „Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!“ Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, Бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе» (5, 236).
Положение Чичикова на границе символично и в известной мере отражает его подлинное положение по отношению к Европе и России. К известной характеристике Чичикова, данной автором на первой странице поэмы:
«Не красив, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтоб слишком молод» (5, 7),
можно добавить, что Чичиков по манере одеваться, держать себя в обществе также не слишком русский, однако ж и не слишком европеец (даже французского не знает!).
По своей инициативности, бережливости, терпению, целенаправленности он принадлежит европейской цивилизации, веку меркантилизма и предпринимательства. Он жертва тех потребностей, которые ненавидел Тарас Бульба, усматривая именно в них вредоносное чужеземное влияние.
«И все, что ни отзывалось богатством и довольством, – пишет Гоголь о Чичикове, – производило на него впечатление, непостижимое им самим» (5, 229).
Таким образом, Чичиков представляет собою лицо соблазненное. Его соблазнили и погубили мечты о роскоши, богатстве, тонких голландских рубашках, фарфоре, французском мыле – а кто поставщик этих предметов и ценностей, создатель и распространитель вкусов, мод, эталона изысканной жизни? Не получается ли так, что Чичиков соблазнен французским бесом?
Одновременно было бы непростительной натяжкой выводить Чичикова из одного только европейского «просвещенья». Он плоть от плоти России, со всем ее бюрократизмом, взяточничеством, дикостью, отсутствием правовых норм, невнятицей законов, растоптанным понятием о человеческом достоинстве. Чичиков – знаток этого мира, здесь он чувствует себя как рыба в воде, и никакой другой мир ему не нужен. Он не только знаток, но и сам частица этого мира, и достаточно вообразить его в другой стране, в той же Франции, чтобы почувствовать, что он порождение именно России. Чичиков, в конечном счете, не «русский европеец», никакой он не западник, он лишь потребитель европейского «просвещенья», у него нет осознанного, положительного идеала соединения России с Европой или, вернее, культурного «присоединения» России к Европе. Достаточно сравнить его с полковником Кошкаревым, чтобы убедиться в этом.
Во втором томе поэмы отношение автора к «французскому элементу» становится еще более отрицательным, а главное, более прямолинейным. Чичиков называет Кошкарева «дураком», но Костанжогло, устами которого говорит зачастую автор, считает, что
«Кошкарев – утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости всех наших умников… которые, не узнавши прежде своего, набираются дури в чужи. Вот каковы помещики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и комиссию, и черт их знает, чего не завели!.. Было поправилось, после француза двенадцатого года, так вот теперь давай все расстраивать сызнова. Ведь хуже француза расстроили, так что теперь какой-нибудь Петр Петрович Петух еще хороший помещик» (5, 310).
Кошкарев печется о том, чтобы разъяснить мужику,
«что есть высшие побуждения, которые доставляет человеку просвещенная роскошь, искусство и художество».
Однако на этом поприще встретил «упорство со стороны невежества», и «баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете». Речь заходит о значении европейской одежды. Для Кошкарева
«парижский костюм… имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны – науки возвысятся, торговля подымется и золотой век настанет в России» (5, 306).
Сарказм Гоголя – исчерпывающий комментарий. Вспомним, что Тарас приходит в негодование только потому, что Андрий нарядился в польскую одежду. Это для него уже достаточный признак предательства, перехода от «своих» к «чужим».
Совершенно очевидно, что если бы афера Чичикова с мертвыми душами удалась и он бы стал богатым помещиком, Чичиков отнюдь бы не следовал путем Кошкарева. Этот путь утопичен, хотя, с другой стороны, не менее фантастичен и путь Костанжогло. Однако Гоголь верит в Костанжогло, который в поэме назван «Наполеоном своего рода». Костанжогло становится равным Наполеону по значимости своих дел, но по своей направленности это анти-Наполеон, не губитель, а возможный спаситель России, ее надежда.
Французы во втором томе откровенно демоничны.
«Дом Хлобуева, – повествует автор о разорившемся помещике, – представлял необыкновенное явление. Сегодня поп в ризе служил там молебен; завтра давали репетицию французские актеры» (5, 331).
Контраст между попом в ризах и французскими актерами характеризует не только Хлобуева, но и самих актеров – прямо противоположный знак нечестивости, нравственного упадка.
На примере того же Хлобуева Гоголь демонстрирует механизм мирного «завоевания» Францией России. Чичиков замечает, что в доме Хлобуева нет куска хлеба, зато есть шампанское. Хлобуев обзавелся шампанским «по необходимости»:
«Он послал в город: что делать? – в лавочке не дают квасу в долг без денег, а пить хочется. А француз, который недавно приехал с винами из Петербурга, всем давал в долг» (5, 330).
Ловкость чужеземцев в сколачивании капитала и их триумф над «нашими» отмечены еще в «Портрете». Чарткову становилось досадно, пишет Гоголь,
«когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал» (3, 74).
Француз, выходит, одерживает верх благодаря не таланту (с которым спорить трудно), а подлой пронырливости.
Гоголевское раздражение по поводу французов особенно ярко выражено в «Заключительной главе» поэмы, где французское «нашествие» видится автору чуть ли не в апокалиптическом свете:
«Наехали истребители русских кошельков, французы с помадами и француженки с шляпками, истребители добытых кровью и трудами денег – эта египетская саранча, по выражению Констанжогло, которая мало того что все сожрет, да еще и яиц после себя оставит, зарывши их в землю» (5, 340).
Гоголь прямо обвиняет французов в том, что «завелось так много всяких заманок на свете» и что они – поставщики новых наслаждений, на которые жадно набрасываются русские чиновники. Создается впечатление, что победа французов близка:
«Начитавшись разных книг, распущенных в последнее время с целью внушить всякие новые потребности человечеству, чиновники возымели жажду необыкновенную испытать всяких новых наслаждений».
И опять виноват француз-искуситель:
«Француз открыл новое заведение – какой-то дотоле неслыханный в губернии воксал, с ужином, будто бы по необыкновенно дешевой цене и половину на кредит».
Торжество Европы на ярмарке, описанной в «Заключительной главе», видно и в одежде, и в самой внешности русских купцов:
«Редко где видны были бородачи в меховых горлатных шапках. Все было европейского вида с бритыми подбородками, все исчахлое и с гнилыми зубами» (5, 341).
Торжество, как видим, однако, «с гнилыми зубами», имеет болезненный вид.
Этот черновой вариант текста свидетельствует об ожесточенном сопротивлении Гоголя «египетской саранче». Наконец, последний этап находит свое отражение в «Выбранных местах из переписки с друзьями»:
«Россия не Франция, – пишет Гоголь в письме к „близорукому приятелю“, – элементы французские – не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа… Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиваться, а захломостить его чужеземным навозом».
Оклеветал ли Гоголь французов? Правый лагерь русской критики от Булгарина до раннего Розанова утверждал, что Гоголь оклеветал Россию. Как бы отвечая на эти упреки, Гоголь писал:
«Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека… Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные очи, всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий…» (5, 132–133).
Свое изображение бедности и «несовершенства нашей жизни» Гоголь объяснял «свойствами сочинителя» (5, 250).
В разряд «несовершенств нашей жизни» входило, по Гоголю, и французское влияние на Россию. И он изобразил носителей этого влияния так же, как и другие «несовершенства».
Но разница все-таки есть, и значительная: Гоголь любил Россию, но он едва ли любил Францию. Его изображение «несовершенств нашей жизни» было рассчитано на их искоренение; его изображение французов – на их дискредитацию.
Главное было не в том, что французы плохи сами по себе; они плохи для России, точно так же как ляхи были плохи для Малороссии. Гоголь не стремился исправить французов и не задавался вопросом, можно ли их исправить. Его интересовало другое: можно ли уберечь Россию от их влияния? Сама постановка вопроса носила, бесспорно, славянофильский характер. Роль французов в творчестве Гоголя преимущественно функциональна: французы для России. В этом редуцированном качестве они приобрели значение демонической силы.
Гоголь, можно сказать, пожертвовал Францией и французами ради своей любви к России, ради своего представления о том, что для нее есть благо, а что – «египетская саранча».
1980 год
Поэтика и этика рассказа
(стили Чехова и Мопассана)
Сопоставление творчества Мопассана с творчеством Чехова давно стало общим местом. Удивляться этому не приходится: роли обоих писателей в истории их национальных литератур во многом совпадают. Они создали рассказ как самостоятельный и полноценный жанр и доказали, что прозаический микромир может вместить в себя беспредельность. Нередко в качестве комплимента говорилось и говорится, что тот или иной рассказ Чехова (Мопассана) нетрудно превратить в роман, ибо в нем достаточно материала для романа. Сомнительный комплимент! Емкость рассказов Чехова и Мопассана – не путь к роману, а скорее напротив, уход, удаление от него, форма обособления жанра.
Прозаическая ткань рассказа организуется по собственным законам, которые требуют «скупости» творца; он проливает слезы, расставаясь с каждым словом, «жалея» его, но в то же время безжалостно сокращает себя. Кинематографисты охотно экранизируют произведения Чехова и Мопассана, при этом, как правило, превращая их в кинороманы; рассказы разбухают, как мокрый хлеб, становятся «несъедобными» …Это месть жанра.
Типологический анализ двух национальных моделей рассказа, которые стали в известной мере эталоном для последующих поколений писателей, в течение многих десятилетий в основном сводился к выяснению вопроса: кто лучше – Чехов или Мопассан? В свое время такой вопрос был эмоционально оправдан, но он был всегда бесплодным. Первоначально победа целиком и полностью приписывалась Мопассану. Э.-М. де Вогюэ называл русского писателя подражателем Мопассана[68]; Чехов выглядел «Мопассаном русских степей». За Мопассаном были старшинство (он родился раньше Чехова на десяток лет), репутация флоберовского ученика, мировая известность. Наконец, он принадлежал французской культуре, «культуре культур», а французская критика начала XX века, несмотря на плеяду великих русских писателей, все еще продолжала сомневаться в русском литературном первооткрывательстве. Со своей стороны, русская критика, сопоставляющая Чехова и Мопассана (А.Волжский, И.Гливенко и др.) как авторов равноценных, казалось, скорее защищала национальные интересы, нежели стремилась доказать истину. Однако со временем ситуация изменилась самым решительным образом. Развитие чеховских штудий во Франции шло от признания оригинальности и самобытности Чехова (самобытность писателя отмечал А.Бонье в предисловии к сборнику чеховских рассказов уже в 1902 г.) к обнаружению в этой самобытности новой эстетической модели, которая по своему противостоянию литературной традиции превосходила мопассановский образец. Э.Жалу отмечал, что
«у Мопассана рассказчик целиком занят тем, что он повествует. У Чехова мы все время ощущаем присутствие чего-то полускрытого под тем, о чем он повествует. И это невысказанное, пожалуй, самое важное». [69]
В вышедшей в 1955 году книге «Чехов и его жизнь» П.Бриссон еще более определенно высказал свое предпочтение Чехову перед Мопассаном.
Кратко формулируя общее мнение, можно сказать, что Мопассан остался писателем XIX века, в то время как Чехов – писатель XX века и его влияние на современную литературу сильнее, глубже, значительнее. Если брать во внимание эстетический аспект проблемы, то спорить с таким выводом не приходится. В самом деле, внутренняя раскрепощенность чеховской прозы, лишенной принудительной сюжетности, открытой миру случайностных явлений, гораздо ближе искусству современного рассказа, нежели напряженная сюжетность Мопассана, которая как железный обруч скрепляет большинство его рассказов. Эстетические принципы Чехова оказались более плодотворными, однако этим вопрос не исчерпывается.
Следует обратить внимание и на этические доминанты, которые в конце концов стали основным критерием размежевания между реализмом и модернизмом. Реализм определяется не совокупностью формальных приемов, ибо реализму доступен любой формальный прием, а скорее тем смысловым целым, во имя которого используются эти приемы. Иными словами, результат важнее средств. Не случайно все больше реализм связывается с гуманизмом, эти понятия чуть ли не становятся тождественными, и сложность определения реализма попадает в парадоксальную зависимость от сложности определения гуманизма как некоторого комплекса философско-этических представлений. В свою очередь, самые разноплановые явления модернизма объединяются по принципу их противопоставления гуманизму. Большая зона пограничных явлений – следствие скорее философских, нежели собственно литературоведческих колебаний.
В связи с этим типологический анализ этических принципов, лежащих в основе повествования Чехова и Мопассана, становится столь же существенным, как и анализ чисто эстетических категорий. И вот здесь-то выясняется, что вопрос о влиянии творчества обоих писателей на литературу XX века нельзя решить однозначно в пользу одного или другого писателя. Ибо это влияние разнохарактерно. Чехов и Мопассан оказали влияние на современную литературу не теми эстетико-этическими категориями, которые их объединяют, а теми, которые их разъединяют. При этом, однако, угадывается общая тенденция в развитии самой литературы, потому что как у Чехова, так и у Мопассана наиболее плодотворным оказался принцип относительной объективности: у Чехова – на уровне эстетики, у Мопассана – на уровне этики.
Вопрос о влиянии обоих писателей на последующую литературу помогает определить их «взаимоотношения».
В творчестве Чехова существует незримое, но весьма определенное напряжение между реальным и идеальным порядком мира. Реальный порядок состоит из сложного и противоречивого смешения подлинной и неподлинной жизни. Словесным выражением неподлинной жизни является пошлость. Идеальный порядок — это полное отсутствие пошлости. Существует ли возможность достижения такого идеального порядка? Чехов не дает прямого ответа. В его произведениях есть лишь условные временные и пространственные вехи, указывающие в сторону идеала, и эта условность принципиальна. Она связана с чеховским ощущением силы внешнего, вещного мира, который давит на человека и который может его расплющить. Возникает чувство несвободы человека, его зависимость в мыслях, поступках от чуждой ему косной и слепой стихии. Вещный мир отвлекает человека от его сущности, он не дает ему выразить самого себя, сбивает с толку самым нелепым, обидным, бесцеремонным образом. Поэтика Чехова, по сути дела, представляет собою эстетически оформленную реакцию на такое положение человека в мире, и значение в ней случайностного момента, отказ от торжества сюжета над фабулой, а также отсутствие не связанной вещным миром мысли определяются спецификой чеховского мироощущения. Однако Чехов не ограничивается констатацией пошлости. Пошлость раскрывается и преодолевается в оценке. Человек находится в тюрьме вещного мира, но даже если он и не может ее покинуть, то все равно способен воспринимать свое положение не как свободное и единственно возможное, а как несвободное, угнетенное и мечтать о свободе. Эта мечта о другой, «новой прекрасной жизни» (финал «Дамы с собачкой»), которой одарены избранные чеховские герои, разрывает порочный круг пошлости: грусть становится светлым чувством, возвышающим человека к подлинному миру. По сути дела, каждый герой Чехова находится на том или ином расстоянии от своей подлинности, и каждый раз оценка происходит в результате определения этого расстояния.








