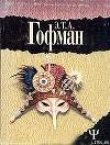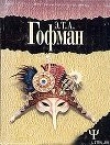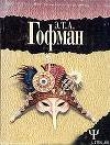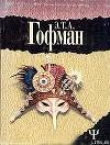Текст книги "Любовь к далекой: поэзия, проза, письма, воспоминания"
Автор книги: Виктор Гофман
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Ты просишь меня открыть тебе душу? Ты, может быть, хочешь, чтобы я подарил ее тебе, эту душу?.. Ты, наверно, думаешь, что моя душа – нежный цветок, который радостно раскрывает свои лепестки, когда ты с любопытством и нежностью смотришь в мои глаза или когда, оторвав от моих свои губы, с упоенной усталостью дышишь в лицо мне? Но душа моя не цветок, душа моя – не такая.
Видела ты груды бумаг в моем столе, эти толстые папки и портфели, что не раз привлекали твое наивное любопытство, эти тетради и записные книги многих годов, все исписанные, все испещренные? Думала ли ты когда-нибудь о том, что заключено в них? Моя душа, моя живая душа заключена в них, та душа, которую ты просишь подарить тебе, как я не раз дарил тебе ароматный весенний цветок. Давай разбирать эти старые, запылившиеся бумаги, эти исписанные и истрепанные книжки и листы. Тебе скучно, ты не хочешь? Ты никогда не узнаешь, какая у меня душа.
Не приходило ли тебе когда-нибудь на мысль, что свои бумаги и книги я люблю, может быть, более, чем тебя со всей твоей радостной нежностью и упоительными поцелуями?
РАЗГОВОР О ВЕСНЕ
Опять весна, золотая, яркая, лучистая весна! Светлое, нежное бледное небо непорочно и радостно чисто. Пахнет весною, пахнет нагретой вешними лучами, влажной, взрыхленной землею, а первая зелень так хороша, так бархатно-изумрудна. Солнце, лучи, – благовест радости, благовест жизни!.. Если и ничего не останется в жизни, все же можно жить, для того лишь, чтоб пить эту благоуханную негу весенних лучей.
Что скажешь ты о весне?
– Я думаю, что с каждым годом все менее яркой я вижу весну, все менее живо ее чувствую. Прежде, как будто все неясные и сладкие впечатления и ощущения мои от весны – были и ярче, и тоньше, и глубже. Теперь все проходит как-то вдали и вне меня, не трогая, не задевая моей, словно чем-то защитившейся души. Мне кажется, что между мною и миром опустилась воздушно-дымчатая вуаль, которая с каждым годом делается все гуще и темнее.
Мир куда-то отходит, отступает, и я остаюсь один. Я – как путник летом, что закутался с головою плащом от веселого, шумного летнего дождя и, защитившись от брызг и перламутровых капель, не может увидеть также и проясняющегося синего неба, и солнца, что так радостно вновь улыбается. Когда я буду белый старик и жизнь выпьет все соки из моих прежде роскошных волос и все силы из моих с каждым годом ослабевающих мышц, тогда я буду закован от жизни в невозмутимое, невидящее спокойствие. Молодая, качающаяся березка вся дрожит от каждого вспорхнувшего ветерка,– старый, высохший ствол давно умершего дуба уже не поколеблет и сильная буря. Я думаю о том, почему глаза любопытного мальчика, что вмещали в такой поразительной яркости весь мир, почему теперь эти глаза равнодушны к жизни? Мне грустно, что я не могу радоваться весне. Я думаю, что жизнь сделала это со мною.
В САДУ ЛЕТНЕГО ТЕАТРА
Вы не знаете, кто там – эта барышня, вся в синем, с блестящими и задумчивыми черными глазами? Вся в синем – я люблю синий цвет, цвет замкнутый и строгий. Я каждый вечер встречаю ее здесь, – среди этой скучающей, разряженной, жаждущей увеселений и жизни толпы,– барышню в синем – здесь, где ленивый разврат и усталое городское веселье празднуют свои бесцельные вечера. Она чужая здесь, и задумчивые глаза ее говорят мне о лесной глуши, о таинственности заповедного леса. Она похожа на ландыш, только что оторванный от влажной земли и тенистого леса и принесенный в шумный, залитый беспокойным электрическим светом ресторан. Я мельком слышал, что зовут ее – Сусанна. Мне нравится это нежное и гармоничное имя, в котором
есть какой-то аккорд – Сусанна.
* * *
В вашей походке есть что-то тихое и вздрагивающее, а в ваших бархатных, черных глазах – что-то пугливо-беспокойное. Мне странно видеть вас здесь, где воздух наполнен дыханием каменных мостовых, стуком извозчичьих пролеток и пьяными звуками кэк-уока. Вы – ландыш, поймите, – вы ландыш и потому расскажите мне о тайнах леса и о вашей подруге – весне. Вы знаете; я сейчас же заметил, что все кусты и деревья в этом грустном, иссушенном электрическим светом саду тихо и загадочно вздрагивают, выпрямляясь, когда входите сюда вы. Они ждут от вас радостной вести от вашей подруги – плененной весны. Они ждут от вас чуда, которое бы рассеяло этот душный и призрачный город, для того, чтобы на месте его снова зацвели вечнозеленые сады освобожденной весны. Вы – ландыш, вы – ландыш, и вы не напрасно приходите каждый вечер сюда. В вашем имени есть какая-то тайна, я люблю ваше имя – Сусанна. В нем – вздох, быть может, вздох освобожденной весны, в нем какой-то нежный, замедленно мягкий аккорд – Сусанна.
ОСЕННЕЕ УМИРАНИЕ
Ты сегодня опять безотчетно грустна: это осень отравила тебя своей мертвенной пышностью. Я давно слежу за тобой: как и все женщины, ты не любишь всматриваться в жизнь природы; спокойно сидя у цветного окна своей тенистой веранды, ты не замечаешь багрового разложения листьев и затаенной трагедии умирающих цветов. Но, как и все женщины, ты безотчетно близка природе, и смутными, непостижимыми настроениями отражается ее жизнь в тебе. А я только что обошел все дорожки нашего сада. Какая грусть, какое безумие! Под ногами хрустят и бессильно влачатся жесткие листья, покрытые желто-красными трупными пятнами. Клумбы разграблены ветром, и умерли, и искалечены наши лучшие цветы. Запах жаркой осени, запах натопленных теплиц, говорящий о мировом разложении.
Дай мне руку свою: знаешь, мне кажется сейчас, что все умирает. Ведь и цветение наших роз было лишь их постепенным умиранием: всякая жизнь – только смена одних частиц другими, отвоевывающими себе место, где умереть. Все, что живет, изменяется, а всякая смена есть смерть. Ведь и клеточки твоей руки вытесняют одна другую, и вот сейчас это, быть может, уже не та рука, которую несколько минут тому назад я с любовью взял с твоего колена. Да и сам я живу и меняюсь, и, значит, я каждую минуту уже не тот, с каждым дыханием я умираю. О, я чувствую его, этот запах осени, запах душных теплиц и мирового разложения! Не шевелитесь листья, вы сорветесь сейчас и упадете на мокрую землю, не цветите цветы… не дыши, не дыши. Не то затопит весь мир это багровое разложение, это исступленное торжество тления и смерти!..
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Подойди ближе, не отходи от меня. Ты одна в этом безмерном, в этом чудовищном городе меня понимаешь, лишь одной тебе не совсем чужд я здесь, не совсем безразличен.
Куда мы пойдем? Покинут вокзал, необъятный, грохочущий, исступленно вознесшийся ввысь – чугунно-каменное преддверие города. Покинут вокзал, но в неустанных отголосках все еще живет в голове рев и гул его поездов, бешено мелькающих своими бесчисленными, ярко освещенными окнами. По каменным ступеням спустились мы вниз, и вот мы уже в городе, в неустанно бьющемся сердце необъятного, державного города. Кидая белые крутящиеся клубы дыма, с мерным грохотом ежеминутно проходят извивающиеся поезда по дрожащим мостам над нашими головами, а внизу, под землей, словно проламывая себе путь среди целого камня, грохочут такие же поезда – длинные и быстрые, похожие на какие-то фантастические, испещренные огнистыми пятнами змеи.
О, в какую даль унеслась эта улица, властная, нарядная, безупречно-прямая, отражающая своим блестящим асфальтом пересекающих ее людей и скользящие по ней автомобили! Не теснят ее даже эти великаны-дома, раскинувшие по обеим сторонам ее свои торжествующие громады…
Гулкий шелест толпы – шелест шагов и слившихся разговоров. Не иссякает толпа – один неустанный поток, весь трепещущий, весь подвижный и шумный…
Город владыка, мне страшно! Ты затмеваешь мне мир, и я не вижу за тобою Бога. Если есть Бог с своей волей, – ты кощунство и вызов Ему, и ты должен быть сметен с чугунною мощью своих вокзалов, с величием улиц и исступленной кипучестью жизни! Но ты стоишь, затмевая весь мир, угрожая самому небу остроконечными верхами своих башен…
Бесконечно тянутся улицы, все новые, все другие, и все причудливее и непостижимее сплетения и сочетания их. Словно кровеносные жилы или напряженные нервы дрожат они кипучим биением, увлекая и нас в пламенный трепет исступленной жизни. Где мы, куда нам идти? Двое нас здесь, – затерянных в сердце державного города. Не отходи от меня, подойди ко мне ближе. Ты одна понимаешь меня, лишь тебе одной не совсем чужд я здесь, не совсем безразличен…
ЗАПАХ СИРЕНИ
На своем письменном рабочем столе я нашел сегодня букет цветущей сирени. Пышный, красивый, стройный букет в прозрачной банке с водою. Когда я сел за стол к своим разбросанным бумагам с начатыми работами, я все время чувствовал нежащий, сладкий, ласково-пьяный запах цветущей сирени. И вся комната была полна этим запахом, запахом весны, возрождения, изумрудного, влажного луга и таинственно зазывающих лесных глубин. О, как сладостен, как желанен этот запах нам, детям города, какие нежные сны он нам навевает…
Странным образом этот запах напоминает мне одну девушку, тонкую девушку с подвижным станом и лучисто-строгими глазами. Я любил ее, как можно любить лишь цветок, ласково, бережно и восхищенно. Я любил ее, как цветок, вблизи которого я снова чувствовал себя близким природе, как цветок, у которого можно учиться гармонии и красоте. Ее душа была открыта всем звукам, всем запахам, всем голосам и лучам цветущего мира, и когда я смотрел в ее глаза, стараясь проникнуть сквозь них вглубь ее ароматной души, мне казалось, что и я делаюсь цветком, что душа моя раскрывается, принимает теплые лучи, что душа моя расцветает…
Проходили годы. Я забыл девушку, похожую на цветок, обещавшую мне возрождение и новую близость к природе. Зимой, при свете электрических ламп и газовых фонарей, я забыл, что где-то живут и жили цветы. Сегодня, вернувшись домой, я нашел на своем столе ароматный букет цветущей сирени. Мягкий, теплый, нежный запах. Как сладостно-желанен он нам, детям темного города, какие нежные сны он нам навевает…
ВО СНЕ
…Ах, да, еще продолжается ночь, я спал сейчас, и вот это тесное и теплое, что сдавило мне шею и заставило меня проснуться, это рука жены, обнявшей меня во сне. Как причудливо озарена наша комната: белые блики на полу и стенах, а от окна растилается и тихо дрожит какая-то молочно-серебристая, прозрачная паутина. Это луна заплеснулась сюда, или это свет фонаря, всю ночь бодрствующего неутомимо на пустынной улице перед средним окном нашей спальни?..
Как таинственно и светло в нашей комнате: выпукло и тяжело громоздятся знакомые предметы над серебристо-лунною паутиной: как-то особенно молчаливы и спокойны они теперь и, быть может, слегка увеличены в своих размерах. Я ясно могу разглядеть даже лицо своей жены, прижавшейся правой щекою к сбитой набок подушке; она спит неподвижно, верхняя губа ее слегка приподнята, и лицо кажется застывшим и в чем-то измененным. Не эти ли темные полумесяцы закрытых ресниц придают ему это чужое и незнакомое выражение? Да, конечно, я только что проснулся, я лежу со своей женой в постели, а все остальное – был сон.
Как крепко спит она и как она мертвенно-спокойна. Она спит и не знает, где был я сейчас, в своем внезапно оборвавшемся сне... Ах, как шумела река, какой дикою, какой суровой и буйной казалась она в зелено-синем сумраке позднего вечера! Падали и вновь взлетали крутящиеся волны, взрывая необозримую даль реки, обращая ее всю в однообразно-мятежный рев, исчерна-серый и синий. Свежий и режущий ветер бил меня в лицо и рвал мои волосы; в ответ на свист его и гул реки хотелось кричать, – примешать и свой голос к дикой песне освобождения. На другом берегу, на мостках, ежеминутно затопляемых волнами, стояла она, мечта моей юности, и длинная шаль на ее плече исступленно билась по ветру. Она наклонилась вперед, повисла над самой водою, она зовет, кричит мне что-то, но ветер с раскатами хохота далеко отбрасывает ее слова. Я кидаюсь в лодку, лодка шатается, холодные брызги ударяют меня в лицо. Я плыву к ней, качаясь в неповинующейся лодке.
Да, я помню, я плыл к ней и я был к ней все ближе и ближе.
Вот опять – эти холодные, тяжелые брызги, это исступление ветра, рвущего одежду и волосы и рассекающего лицо! О, как качается лодка над бешенно подвижными и гневно ревущими провалами и вершинами воды! Но я близок уже к мокрым мосткам и к ней, протянувшейся ко мне, зовущей меня, как она не звала меня тогда, в дни моей юности. Развевается ее синяя шаль, – вот сейчас она ударит меня своим кружевным, намокшим в воде концом. Лодка качнулась – и она уже со мной; мы едем назад, поспешно и плавно; я целую ее в горячие, влажные, в дышащие губы. Она прижалась ко мне, она обнимает меня все крепче, я чувствую тесноту ее теплой руки на своем плече…
Ах, это ты закинула во сне свою руку мне на плечо… Я спал опять. Потухла луна, но все же светло в комнате. Фонарь не горит более, и слева на улице слышится дребезжание извозщичьей пролетки… Почему ты сегодня всю ночь теснилась ко мне и вот опять обвила мою шею рукой? Ты улыбаешься во сне… Скажи мне, с кем ты сейчас и кого ты сейчас обнимаешь?..
СЛЕПАЯ
Все, еще минуту перед тем шумные и веселые, внезапно смутились и замолчали. Всех поразила, что-то больное затронув в душе, эта встреча маленькой слепой девочки в радостный, солнечный день. Даже самая хорошенькая и самая веселая из барышень та, чья голова была окутана в желтую чадру, купленную прошлою осенью у старого татарина в Гурзуфе, – стала вдруг неожиданно серьезной и грустной. Трогательно-красивою нежностью повеяло внезапно от ее грациозного смущения. Заботливо наклонилась она над маленькой девочкой, положив ей на плечо свою руку.
– Ты ничего не видишь? – спросила она, и в голосе ее вдруг зазвучало что-то теплое и матерински-ласковое, чего не было в нем прежде.
Девочка, не отвечая, порывалась идти далее.
– Да как же ты пойдешь? Разве ты знаешь дорогу? Где ты живешь?– спрашивала она с беспомощным испугом.– Знаешь ты дорогу домой? – громче повторила она еще раз.
– Знаю, – как-то рассеянно и равнодушно ответила та и двинулась вперед.
Она шла с помощью палки, придерживаясь время от времени о загородку дачных палисадников. Лицо ее было приподнято кверху, и слепые глаза, словно какие-то белые, слепые цветочки, – тянулись к солнцу. Казалось, солнце указывало ей путь.
– И как это можно пускать слепую одну! – жалостливо промолвила одна из дам.
– Несчастная, – прошептала другая.
Все постояли еще некоторое время, смотря вслед удаляющейся вдоль дачных загородок девочке с приподнятыми прямо ко жгучему, ослепительному солнцу белыми слепыми глазами.
Вошли в лес. Словно какая-то сумрачно-величавая колонада раскинулся лес, чутко оберегая робкую таинственность тишины. Здесь не так жарко, не так жгуче и ослепительно. Расплавленное золото полуденных лучей не проникает сюда, – распластавшись вверху на склонившихся друг к другу вершинах сосен. Лишь несколько блещущих искр и горячих солнечных капель случайно залетело сюда, повиснув на бронзовых стволах сосен и янтарно-желтой скамейке.
– Как хорошо здесь, – сказал пожилой господин в светлом фланелевом костюме, делая глубокий вздох и подымая лицо к голубому, нежно яркому небу. – Как роскошен мир! И всего этого лишены слепые, – добавил он, опять возвращаясь к тому же.
Все вздохнули. Образ слепой девочки еще не исчез. Барышни шли задумчиво и молчаливо, держась под руку. Мужчины рассеянно подбрасывали на ходу своими изящными тросточками нерастоптанные камни темно-краснаго песку вдоль расчищенных дорожек парка.
– Почему, однако, так жалеем мы эту девочку? – вдруг спросил один из молодых людей, тот, что шел возле барышни с желтой чадрою. Все обратились к нему.
– Что, собственно, – слепота? Отсутствие одного из органов восприятия. Но почему, владея нашими жалкими пятью чувствами, мы полагаем, что находимся в обладании всеми возможными способами познания мира, а не воспринимаем от него лишь ничтожнейшую часть, лишь скуднейший намек на его навсегда закрытую для нас роскошь? В сущности, мы жалки не менее этой девочки, ибо мы все такие же беспомощные, тянущиеся к солнцу слепцы…
Лес окончился. Открылся широкий луг, весь до верху затопленный исступленным солнечным сиянием. Неподвижная, зачарованная была тишина. Казалось, горячее золото лучей держало все незримо окованным. Словно какая-то прозрачно яркая, лучистая лава низринулась в мир, погрузив его весь в хрустальное, в золотое оцепенение.
ДОРОЖКА
Был вечер душного, пыльного городского июльского дня. Улицы уже становились заметно пустыннее; те, кто наполнял их днем суетой и движением, спешили теперь покинуть запыленные городские стены, чтобы хотя мельком посмотреть на багряно-желтый закат – где-нибудь там, перед золотым простором безбрежного поля. Все реже и реже сотрясали опускавшуюся над городом тишину – нелепые стуки громоздкой телеги, да четкий мелкий перебой запоздавших пролеток.
Какими усталыми, какими измученными казались чахлые деревца по обеим сторонам городского бульвара. Их слабые ветви тянулись друг к другу, как бы ища поддержки или стремясь рассказать полушепотом что-то важное и неотложное. Не спешили ли они передать друг другу радостную весть, что жаркий, пыльный день, наконец, потухает, что на темнеющем небе прорезаются первые звезды и вечерняя влажность уже близка?
Я был усталым и вместе с деревьями радостно вдыхал свежеющий воздух. Не хотелось идти. Не хотелось в комнату, где я жил уже так давно, что казалось, ничто новое, ничто неожиданное не может создаться в моей жизни, пока я не оставлю этой комнаты. Упасть бы в траву, обратив к ней лицо и грудь, и лежать так до тех пор, пока земля не наполнит тело новыми силами!..
Ясно помню, в эту минуту я внезапно заметил слева узенькую боковую дорожку, казавшуюся темной и тенистой. Деревья, обрамлявшие ее, были как-будто гуще, пышнее и свежее, чем эти поникшие деревца на главном проходе бульвара. Мгновение я колебался, остановившись нерешительно: я так устал, мне больно было идти. Но затем медленно и лениво я все же свернул на боковую дорожку.
Она не была такою тенистой, какою рисовалась сначала, и деревья по бокам ее оказались такими же жалкими и усталыми, как и все деревья, виденные мною в этот вечер. Навстречу мне, как-то неровно и слегка наклонившись вперед, шла женщина. Она была в черном и, видимо, спешила. Помню, приближаясь к ней, я чувствовал, что сердце мое внезапно взволнованно забилось и, чем ближе я к ней подходил, тем оно билось сильнее и сильнее. Поравнявшись с нею, я намеренно взглянул ей в лицо. Она была очень бледна – с большими, черными, мечтательными и слегка безжизненными глазами. Она не отвела своего взгляда, и когда, пройдя мимо, я обернулся, в то же самое мгновение почему-то обернулась и она, и мы почувствовали, что наши взгляды соприкоснулись. Сердце мое забилось неистово, я круто повернулся и пошел следом за ней.
Думали ли вы когда-нибудь о том, что может значить в целой жизни человека узенькая, боковая дорожка, по которой так легко можно было и не пройти или пройти двумя минутами позже?..
УМЕР
Сегодня, после довольно продолжительного разговора о благодетельности летнего отдыха в деревне, между фразой о нестерпимости городской пыли и жалобой на однообразную скудость летних развлечений в городе, меня внезапно спросили: «А слышали ли вы, что умер Федор Федорович?»
Я вздрогнул. Нет, я этого не слышал. Значит, вот что случилось здесь, пока я отдыхал в тихой деревне, вдали от городских шумов и ежедневных новостей. Мне казалось сначала, что я этому не верю, хотя уже в первый миг я почувствовал глухой и мучительный испуг, какое-то острое и возмущенное раздражение, словно совершилось что-то нелепое и чудовищное, чего уже нельзя исправить.
Затем, в ответ на мои поспешные и взволнованные расспросы, мне были переданы подробности, показавшаяся мне столь же возмутительными и ужасными, как и первое сообщение, сделанное равнодушными тоном – между фразой о нестерпимости городской пыли и жалобой на однообразие летних городских развлечений…
* * *
Когда после этого я вышел на улицу, она вся была затоплена ослепительным солнцем. Казалось, солнце пришло в исступление, в какое-то неистовство пламенных ликований.
…Да, ничего не изменилось. Солнце ликует как прежде и даже ярче и исступленнее, и смерть одного ничего не меняет. Пусть даже душа его была полна кипучей избыточной жизни, – мир все так же полон, хотя более и нет его.
Умер… Но ведь он любил жизнь и не хотел умереть. Значит, это совершилось вопреки его воле? Почему же мы говорим, что он умер, а не убит – кем-то более сильным, чем он, не считавшимся с ним и его волей.
А солнце ликует. Не так же ли ликовало оно в тот день, когда обезображенный предсмертною пыткой, беспомощно и мучительно умирал он?..
Но что же делал я в это время? С страстным напряжением старался я воскресить в своей памяти роковой день и даже час, когда совершилось непоправимое. Неужели и я был так же спокоен и равнодушен, как и природа? Неужели не мучила меня бессознательная тоска и не влекла к нему в те минуты? Но я не помнил ничего. По-видимому, это был день, как все, с пустым, спокойным ленивым времяпрепровождением, ничем не отличавшийся от каждого из остальных дней этого летнего отдыха в отдаленной деревне.
И с горьким недоумением вспомнил я наши разговоры с умершим о мировом всеединстве, о едином начале всего сущего, о неразрывной связи душ с миром и между собою…