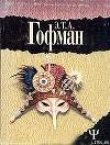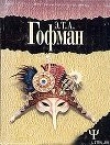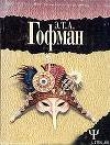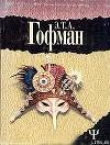Текст книги "Любовь к далекой: поэзия, проза, письма, воспоминания"
Автор книги: Виктор Гофман
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Тихо и жестко шуршат под ногами осенние желтые листья. Широкая аллея сплошь засыпана ими, а здесь – на боковых скатах у дождевых канавок – они слетелись в рыхлые, шелестящие, подвижные кучи. А дальше, в почерневшей траве между обнажившимися стволами деревьев – желтые, золотые, багряные – они рассыпаны везде. Точно пышный ковер разостлался по парку, точно приготовлен земле золотом и пурпуром вышитый погребальный покров.
Их было двое, идущих по аллее. Как-то не ладилась их беседа, и оба чувствовали это. Обращаясь друг к другу, они смотрели в сторону и говорили отрывисто. Немного неловко было после вчерашнего откровенного разговора, обнажившего слишком многое в жизни одного из них. Уныло шелестел над ними облетающий парк. Иногда с разгульным свистом догонял их несущийся по дорогам ветер; тогда с жестким шорохом взлетали с земли свернувшиеся листья, похожие на мертвых бабочек с засохшими и переломанными крыльями. На минуту открывалась крепкая, плотно утрамбованная дорога: виднелся песок, поблескивающий мелкими, прозрачно-белыми камешками, чисто вымытыми дождем. Но уже, дрожа и крутясь, падали новые желтые листья: падали – и казалось, скоро засыплют они собою все.
– Посмотри, – говорит Григорий, – ведь это клен. – Он нагнулся, чтобы поднять с дороги большой красно-бурый лист. – Или нет, орешник. Смерть все делает неузнаваемым.
И весною и летом знал он этот торжественный парк. Поэтому-то так грустно видеть его бессильное умирание. И если бы хоть не теперь, не в эти дни, когда и в собственной жизни такое разрушение. Он принялся смотреть вдаль. Вот сегодня сталь виден отсюда пруд и даже скамейка на том берегу. Раньше все было закрыто зеленью.
Он показал своему спутнику пруд и скамейку.
Внезапно догнал их ветер, шумно ворвался между ними и унес их слова. Григорий что-то говорил, но из всего был слышен только его зов: «Андрей Петрович». Тот обернулся. Губы Григория еще поспешно и как-то странно шевелились.
Пошли дальше. Андрей Петрович только накануне приехал из города, ступал легко и бодро. Осенним свежим воздухом было хорошо дышать. Но уже невольно передавалась и ему тревожность Григория. Послушно следовал он указаниям и жестам своего друга, сгибался над сухими, мертвыми листьями. A вверху, как и они, сгибались и приникали
деревья.
Григорий опять остановился.
– Посмотри, – и он поднял с дорожки несколько листьев. – Разве это не смерть? Разве это не трупные пятна, эти расплывшиеся багровые круги?
Парк спускался к озеру. Деревья здесь стояли еще более обнаженными, жалко растопырив тонкие, словно заострившиеся ветки. Подмокшие листья в траве казались ржавыми и пахли прело. То и дело налетал рассвирепевший ветер, заставляя хвататься за шляпу: голые деревья тогда громко стонали, пригибаясь к земле. Унылое, беспощадное разрушение – и в парке, и там, в доме и жизни его владельца. Андрей Петрович невольно посмотрел на Григория. У него ушла жена. Словно вместе, сговорившись, удалились отсюда красное лето и красивая женщина с бледным лицом и задумчиво-тусклыми глазами.
Вышли к озеру, неприветливо перекатывающему мелкие волны, точно морщины неустанной заботы. У берега торчали почерневшие и обломанные камыши: дул холодный, пронзительный ветер.
Григорий опять схватился за шляпу.
– Ну, что же, пойдем мы в лес, на ту сторону? – спросил он, поддерживая ее рукою. – Или слишком ветрено? А то бы мы могли кругом обойти весь пруд.
Андрей Петрович охотно согласился. Когда через некоторое время они загнули налево, стала видна дача Григория. Невольно вспомнилось, как угрюмо и неуютно там. Унылы опустевшие комнаты с наскоро переставленною и словно недостающею мебелью, с раскрытыми почему-то настежь шкапами. Опять вспомнилась бледная высокая женщина; четко вырисовалось на минуту ее красивое спокойное лицо. Где она теперь, виновница здешнего запустения?
Медленно обходили они пруд по едва видной тропинке, пролегшей через лужайку, насквозь промоченную дождем. Из-под ног выступала вода, затопляя примятую траву. Земля казалась нетвердой: вздрагивала и поддавалась под шагами с жалобным, всхлипывающим всплеском. Вдруг, словно возвращаясь к чему-то только что прерванному, заговорил Григорий.
– Ведь одним этим зачеркнута, уничтожена вся жизнь. Потому что она была для меня самой жизнью: началом и концом всего. И теперь оказывается, все было ложью. Подумай, вся жизнь, каждый час, каждая минута.
Неприютно в лесу, в этом мокром, взъерошенном лесу, приютившемся над озером. А озеро все в бесчисленных, беспокойных морщинах словно лицо, искаженное ужасом и скорбью.
Побродив немного по мокрому, вязкому мху, засыпанному желтыми листьями и иглами, они уселись на прибрежную скамью. На середине ее еще держалась непросохшая дождевая вода. Стали смотреть на озеро.
Неожиданно Григорий чему-то улыбнулся. От улыбки жалко исказилось лицо. Щеки его покраснели от волненья.
Представь себе, я иногда и до сих пор еще ничему не верю. Словно какие-то небылицы мне рассказывают. Так все это нелепо. И за что, главное, за что? Неужели же ничего не значит моя любовь, весь я, вся моя отданная ей жизнь?..
Что-то резко хряснуло сзади. Оба невольно обернулись. Громко треща и ломая на пути встречные суки, быстро летела вниз сухая сорвавшаяся ветка. Вот она глухо успокоилась на земле.
– Знаешь, я люблю ее до сих пор. – Григорий ближе придвинулся к своему другу. – Тоскую о ней невыразимо. Так хотел бы иногда увидеть ее улыбку, потрогать ее руки. Можешь ли ты себе представить, какая это боль? Все прошедшее кажется тогда словно небывшим, как-то непонятным, не использованным до конца. В который раз могу я вспоминать каждую мелочь: как связывала она на ночь вокруг головы свои косы, или какую-нибудь черточку около ее губ.
Андрей Петрович удивленно взглянул на Григория. Зачем он говорит все это? Что-то странное было в его неудержимой откровенности. Вот опять сделал он таинственное лицо.
– Ведь были все ласки, все, что зовется извращенностью, самое интимное, возможное лишь с одной.
– Ну, что же… Это все очень обыкновенно.
– Но если при этом был другой?..
Ветер становился сильные. Вот опять пригнал он приплясывающий ворох сухих, затрепанных листьев. Стало холодно над озером. Андрей Петрович предложил отправиться обратно. Григорий безучастно согласился. Опять пошли по засыпанной сухими листьями аллее, по золотой парче их шуршащих трупов.
– Впрочем, я теперь все знаю. – Григорий произнес эти слова тихо и раздельно… Андрей Петрович с удивлением обернулся к нему.
– Что такое ты знаешь? – не мог он не заинтересоваться.
– Знаю, как все это объяснить. Очень все это просто и грубо. Я думаю… она не была удовлетворена мною, понимаешь… как мужчиной. Вот в жертву чему принесена любовь.
Андрей Петрович был поражен. Это не приходило ему в голову. Что-то дикое и оскорбительное слышалось в этом предположении. И как не вязалось оно с ней, такой изящной, сдержанной и печальной. Неужели же так властно тело?
– Какие нелепости ты говоришь? – смущенно заметил он Григорию. И тотчас же осёкся, потому что не тому ли лучше об этом знать. Но почему же не допустить, что Нина Алексеевна просто увлеклась другим, полюбила?..
Давно уже кончилась шуршащая, обнаженная аллея. Открылся сад с цветочными клумбами, разграбленными и изуродованными ветром. Тихо проходили они по дорожкам, на которых, несмотря на ежедневную очистку, лежали свернувшиеся листья и занесенные ветром чашечки флокуса и петуний. Белые, снежные стволы берез мелькали утомительно часто.
– Не пора ли домой? – заметил Андрей Петрович. – Дождь начинается. – Григорий послушно повернулся. Он молча шел теперь, куда его направляли, изредка придерживая свою шляпу, хотя и не было ветра.
Поднялись на террасу, пустынную и сырую. Громко бились вверху трепещущие фестончики полотна: обыденный стол без скатерти казался забытым и ненужным. На взмокших, шершавых половицах не звучали шаги. Нечего делать на этой угрюмой террасе. Поставив в угол передней свой трости, они прошли несколько опустелых комнат и уселись, наконец, в маленькой гостиной. Пришлось зажечь лампу, потому что сумрак в комнате становился все более густым и тяжелым. Дождь усиливался и скоро полил как то плашмя, падая сплошной, тяжелой, ревущей массой.
За ужином сидели молчаливо. Лишь время от времени Григорий вспоминал что-нибудь из своей только что разрушившейся жизни. Каждый мелкий эпизод казался теперь роковым и значительным. Мало-помалу, однако, он опять пустился в самую безудержную откровенность, с каким-то бесстыдством отчаяния рассказывая все. Андрей Петрович слушал с взволнованным интересом. Эта чужая, беспощадно вскрываемая перед ним жизнь отзывалась в его душе глухим и мучительным угнетением.
В начале второго они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим спальням. Гостю была отведена одна из опустелых комнат, встретившая его печально и загадочно. Он подошел к окну. Ничего нельзя было разглядеть: за слепыми стеклами гудел неустанный дождь. Казалось, над миром стоит ровный, спокойно безнадежный стон, сопровождаемый тихими всплесками и всхлипываниями иссеченной дождями травы.
Спал Андрей Петрович беспокойно. В промежутки между частыми пробуждениями, когда слышался все тот же ровный гул дождя, ему снилась длинная, пронизанная ветрами аллея и мертвые листья, устлавшие всю даль ее. Они шевелились, шелестели, эти зловеще желтые и багровые листья, и все новые падали, падали бесконечно, вот как этот дождь за окном. Затем из-за голых стволов быстро выходила Нина Алексеевна и останавливалась перед ним. Болезненно искривлены ее губы и полузакрыты глаза. Что с нею? Она протягивает перед собою руки, словно ища помощи у него. «Неужели же так властно тело?» – глухо говорит кто-то из-за ветвей. Андрей Петрович быстро оборачивается, но там нет никого. Потом опять падают листья, падают, крутясь и качаясь, сплетаясь в блестящий покров, расстилающийся над землею. Вот уже и его самого засыпают жесткие листья, он слышит их шорох, чувствует их щекочущее падение, их прелый, сырой и горький запах. Андрею Петровичу кажется, он лежит в разоренном парке и погребальный покров протянулся над ним. А вверху еще слышны шаги и кто-то говорит, отрывисто и глухо. Слов не разобрать, они умирают в листьях. Может быть, это Нина Алексеевна позвала его на помощь или Григорий в бессильном отчаянии жалуется кому-нибудь на свою поруганную любовь.
ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
У раскрытого окна сидит девушка. Уже вечер: потянуло сыростью от реки. Солнце потускнело и стало красным. Вот сейчас запрячется оно за лес.
Уже давно она у окна. Так отрадно дышать вечерним свежим воздухом. Она отколола косы – тяжелые, черные косы. Одна из них перекинута на грудь, другая – тяжело висит сзади. Грудь волнуется,– подымается и опадает,– эта странная, непослушная грудь. Пальцы нервно перебирают шелковистую косу, ее незаплетенные пышные концы.
Она думает о нем, об уехавшем. Если бы представить на миг совсем ясно его лицо, услышать его голос Она закрывает глаза – и он с нею. Вот так он целовал ее. Она откидывает голову, чтобы было совсем похоже. Когда она опять открывает глаза, все ей кажется слегка потускневшим и странным. Пред глазами какие-то круги. И уже зашло солнце.
Хорошо как стало. Пахнет чем-то свежим и влажным. Внизу на террасе садятся пить чай. Слышны знакомые голоса. Вот взошли по деревянным ступенькам дядя Коля с Леонидом. Кто-то передвигает там стулья; звенят стаканы. Сейчас позовут ее.
Она отходит от окна. Не сразу как-то осваивается со своей комнатой, словно забыла, где что. После ясного неба низким и темным кажется потолок. Берет в руки зеркало. Не слишком ли красны щеки: они так горят.
В зеркале видно, что у нее красиво блестят глаза. И вся она красива. Не напрасно он любит ее. А он ее любит, любит! Хочется кому-то это рассказать, хочется крикнуть от радости. Ведь она счастлива.
«А где же Дина? Паша, позовите Дину», – слышит она снизу. И прежде чем Паша успевает подойти к лестнице, она сама спускается вниз, бодро стуча по деревянными ступенькам.
* * *
За столом она сидит с молчаливым, задумчивым видом. Все – как всегда. Отодвинув скатерть, дядя Коля с Леонидом играют на одном углу в шахматы. Около них стоят стаканы с простывшим чаем. Оля отпрашивается у матери идти на танцевалку. Кирочка сидит с широко раскрытыми глазами, показывая этим, что еще не хочет спать. Все – как прежде, и лишь у ней, у Дины, все изменилось, стало необыкновенным и важным. Но этого не понимает никто.
– А ты что же, не пойдешь с Олей? – спрашивает ее мать.
Она вдруг темно и густо краснеет.
– Нет, я пойду, собираюсь, – как бы оправдывается она.
Оля смотрит на нее с любопытством.
– Константинов уехал, вот ей и не до танцев, – вдруг громко говорит Леонид.
Дина краснеет еще больше. И в то же время ей неудержимо хочется улыбнуться, потому что заговорили о нем.
– Ох, уж эта любовь. Все любовь да любовь,– бормочет дядя Коля, ни на кого не смотря. И вдруг переставляет коня: гардэ королеве.
– Пожалуйста,– предупредительно отзывается Леонид. – Это мы предвидели.
– Ну, хорошо, – соглашается мама. – Только смотрите, чтобы не слишком поздно. Нельзя каждую ночь беспокоить прислугу.
Дине кажется, что мама ею недовольна. Вообще, ей неловко. Все знают об ее тайне. Но все же ей приятно, что упомянули о нем. Она хотела бы только о нем говорить, чтобы все всегда о нем говорили.
Вдруг ей приходит в голову, что ведь она весь вечер молчит. Это могут заметить.
– Которую партию играете? – обращается она к Леониду. – Третью, – отвечает тот, не поворачивая головы. – А кто выиграл? – робко продолжает допытываться Дина.
Вместо ответа Леонид нерешительно трогает пешку. Вот чуть подвинул ее вперед и опять поставил на прежнее место.
– По правилам, раз тронул фигуру, то уж надо ею ходить, – неожиданно вмешивается Оля.
– Не твое дело, танцорка, – огрызается Леонид. Дядя Коля самодовольно улыбается.
Дина думает, что Леонид сердится на нее, потому что она полюбила Константинова. Поэтому и не отвечает. Ведь он прежде ухаживал за ней, когда приезжал к ним в первый раз. Раз даже поцеловал ей руку – на скамейке в саду, и хотел поцеловать в губы. Он ей тогда нравился. Но это было увлечение, а не любовь.
– А где Жорж? – спрашивает Дина.
– Рыбу ловит. К чаю хотел прийти. А которое сегодня число? – говорит мама из-за самовара.
– Девятое. Девятое июля,– поспешно отзывается Оля.– Послезавтра мои именины.
– Да уж помним,– смеется мама. И потом обращается к Дине: – Ну, если вы хотите идти, то пора вам одеваться.
Дина смотрит на Олю и говорит ей тихо:
– Пойдем…
Не решается встать одна. Оля согласна. И одновременно поднявшись, они опять взбираются к себе наверх по деревянной, гулкой лестнице.
* * *
Дина высоко заложила свои тяжелые косы. Со всех сторон закалывает их шпильками, которые мягко уходят в глубину волос. Смотрится в зеркало. Слева горит лампа, и никак не поставить ее, чтобы было удобно. Опять кажется ей, что она очень интересна. У нее большие глаза с продолговатым разрезом. Он всегда говорил, что у нее необыкновенные глаза. А губы – пунцовые, мягкие. Она полураскрывает их. «На, целуй», – говорит она мысленно. Затем опять старается вспомнить его поцелуи, представить его лицо близко у своего. Какое блаженство, какое безумие – любовь!
Вот она достала из шкафа свое розовое платье, сняла кофточку и осталась с голыми плечами в короткой юбке с кружевными оборками. Надо еще спустить рубашку, засунуть ее за корсет, чтобы она не виднелась сквозь розовые прошивки платья. Вот уже обнажена грудь. Неловко так и сладостно. «Это для тебя, милый, все для тебя, – шепчет она смущенно. Не ревнуй. Ведь я всегда с тобой».
Надела платье и не может его сзади застегнуть. «Оля, застегни мне платье», – зовет она сестру. «Сейчас», – отзывается та из соседней комнаты.
«И ведь никто, никто не знает, как я его люблю, – думает она. – Им это кажется незначительным. А я так страдаю. Больше любить невозможно».
Пришла Оля в расстегнутом белом платье и с распущенной косой. «Что ж это ты распустила косу? Будешь еще перечесываться?» И ей тоже нужно застегнуть платье, стянуть его на спине.
Оля ушла причесываться. Дина опять села к окну. Она уже совсем одета. Стало прохладно и влажно. Внизу слышно, что пришел Жорж и дядя Коля с Леонидом рассматривают его рыбу. Кирочка пристает, чтобы ей объяснили, какую рыбу можно есть.
– Ну, скоро вы там? – вдруг раздается голос дяди. Это он кричит Олечке. – А ты разве тоже пойдешь? – спрашивает его Дина.
– Пойду, пойду, почему мне не пойти, – усмехается дядя и вдруг подбрасывает ей что-то в окно. – Лови!
Дина с удивлением видит, что брошенное им, вместо того, чтобы лететь к ней в окно, повернуло в сторону. – Ах, да это жук, – догадывается она.
– Да, майский жук, – подтверждает дядя. – И сколько их сейчас здесь на лужайке. Так и взлетают, так и наскакивают, слепые!
– Какие же могут быть сейчас майские жуки, когда уже июль месяц, – сентенциозно замечает Оля.
* * *
Вся танцевалка в фонариках, зеленых, красных и желтых. Посередине горит большой, шумящий газовый фонарь. Но все же довольно темно на площадке. Только вблизи можно узнать знакомых и потому кажется, что они вдруг вырастают из-под земли. Сколько белых платьев. Вокруг над скамейками качаются гирлянды сухих листьев и разноцветные флаги.
– Engagez vos dames pour l'hongroise! – кричит распорядитель, коренастый офицер в кителе цвета хаки. И сам уже идет в первой паре с Лидией Власовой.
– Это что за танец? – недоумевает дядя Коля.
– Венгерка. Разве ты не понимаешь по-французски? – удивляется Оля.
– Ах, венгерка. Это мы умеем. – И с подчеркнутой веселостью он обращается к Дине: – Ну, пойдем, красавица.
Та встает с сосредоточенным видом и молча кладет ему левую руку на плечо. Он обнимает ее за талию, и вот они уже пошли вперед – быстро, хотя и не особенно плавно и увлекательно. Дядя все время что-то говорит, но она его почти не слышит. Она думает о нем, об отсутствующем. Она всегда с ним, вся – для него.
– Hongroise la finir.
Музыка сейчас же вяло опадает, словно увядшие цветы или поникшие струи фонтана, лишившегося притока воды. Дядя ведет Дину на место.
Опять что-то заиграла музыка, что-то прокричал распорядитель. Оля пошла танцевать. А Дина больше не танцует: сидит, обмахиваясь веером. Ей жарко. Лицо горит. И высоко, и буйно волнуется грудь – странная, непослушная грудь.
Вот подошел белокурый гимназист и молча раскланялся перед нею. После минутного раздумья она тоже безмолвно подала ему руку. И они уже заскользили в изящных и разбитных па китаянки. Гимназист все время молчит, и на лице его – сосредоточенность и усердие.
– Ну, и танцы пошли! Кикапу, па де зефир. – Дядя разводит руками. – А посмотреть – все одно и то же. Нет, отстал я, отстал совсем… – Оленька насмешливо объясняла ему танцы.
Дина сидит и думает о нем. Все здесь еще так его напоминает. Вот в той аллее они с ним гуляли и там есть заветная скамья. «Милый, милый, я думаю о тебе».
Дяде становится скучно. Он уже два раза ходил пить лимонад и теперь ему нечего делать. Пора бы уже домой. Дина ничего не имеет против, но Олечка еще хочет танцевать. Так упоителен вальс, студент Назарян так властно заставляет ее кружиться. Уже не видно тогда разноцветных фонариков: все смешивается вокруг, все вертится: волны вальса подхватывают и уносят – словно кольца pas de geant. Рядом смуглое лицо – словно в ласковой Дымке: и близко, и далеко. Когда остановились, первое время едва удержишься на ногах.
Вокруг все вертится. Не найдешь, где дядя. А у студента такие жгучие глаза.
– Поправь платье-то, – укоризненно говорит Оленьке Дина. Действительно, вырезное платье сползло с левого плечика. И фонарики все еще кружатся, и деревянный пол тянется куда-то вверх.
Дине немного завидно смотреть на Олю.
– Милый, ты видишь, я не танцую, я верна тебе, – шепчет она про себя. – Я люблю тебя.
– Valse finale! – провозглашает распорядитель. Теперь даже Оленька согласна идти домой.
* * *
У раскрытого окна сидит девушка. Ночь, но не холодно: можно сидеть у окна. Только темно и сыро. Мертвы деревья, все мертво кругом, и точно серебряный песок – бесчисленные звезды.
В даче все спят. Кажется, все вообще спит, – и здесь в Тумановке, и в мире целом. Не спит лишь она, одинокая со своею любовью.
Опять освобождены косы. Две их – и они тяжело упали на плечи. Вот эту косу он держал в своих руках. Удивлялся, какая она пышная и тяжелая.
Дина берет свою косу и задумчиво перебирает ее легкие, распущенные концы. Душно почему-то и сладостно. Где он теперь? Зачем уехал? И опять нет письма.
Она закрывает глаза и старается вспомнить его голос, его слова. Весь он ей кажется как-то непостижимо-очаровательным, трогательным, властным. Можно ли ему сопротивляться?
Ей душно. Она расстегивает платье, поспешно и с досадой стягивает его с себя. Открыты плечи и руки, обнажена вся грудь. Засунутая за корсет рубашка кое-где выбилась наружу. От тесной шнуровки грудь поддалась вверх и кажется высокой и полной.
Она даже не узнает своей груди. С любопытством смотрит на нее. «Все для тебя, милый», – шепчет блаженно. Подходит к зеркалу. Перед зеркалом желто и уродливо горит заплывшая свеча.
Ей опять кажется, что она очень красива. Пылают щеки, загадочно блестят продолговатые глаза. И так резко на белом теле выделяются черные косы. Она трогает рукой свою косу, свои плечи. Как все это непонятно, жутко и сладостно.
Уже светает. Зеленовато бледнеет небо. Делается все холодней. Кожа на руках стянулась от холода и стала неровной. Надо закрыть окно.
Она идет к кровати, в раздумье останавливается перед ней. Буйно и страстно волнуется грудь. Черная коса волнуется вместе с грудью.
Вдруг, откинув голову, она раскрывает объятья. Замирая, шепчет:
– Приди же, милый, ведь я твоя.