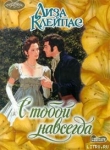Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 82 страниц)
Глаза его сверкали от бешенства и нечистых желаний. Его сладострастные губы впивались в шею девушки, она билась в его руках. Он продолжал покрывать ее бешеными поцелуями.
– Не кусай меня, чудовище! – кричала она. – Гнусный, отвратительный монах! Оставь меня! Я вырву твои гадкие седые волосы и брошу их тебе в лицо!
Он то краснел, то бледнел, наконец выпустил ее из своих объятий и мрачно взглянул на нее.
Она подумала, что победила, и продолжала:
– Я тебе сказала, что принадлежу Фебу, люблю Феба, что Феб красив. А ты священник, ты стар, ты безобразен. Уходи прочь от меня!
Он дико вскрикнул, как преступник, которого прижгли раскаленным железом.
– Так умри же! – проговорил он, заскрежетав зубами.
Увидев его яростный взгляд, Эсмеральда кинулась бежать, но он догнал ее, встряхнул, бросил на землю и быстро зашагал к башне Роланды, волоча ее за руки за собой по камням. Подойдя к башне, он еще раз спросил:
– Последний раз – согласна ты быть моей или нет?
– Нет! – твердо отвечала она.
Тогда он крикнул громким голосом:
– Гудула! Гудула! Вот цыганка! Отомсти за себя!
Девушка почувствовала, как кто-то крепко схватил ее за локоть. Она обернулась и увидала костлявую руку, высунувшуюся из небольшого окошечка в стене; рука эта сжала ее, как в железных тисках.
– Держи хорошенько, – сказал священник, – это беглая цыганка, смотри, не выпусти ее, пока я не приведу солдат. Ты увидишь, как ее повесят.
Гортанный смех раздался из-за стены в ответ на эти кровавые слова: «Ха-ха-ха!..» Цыганка увидела, как священник бегом направился к мосту Богоматери, откуда доносился топот скачущих лошадей.
Девушка узнала злую затворницу. Задыхаясь от ужаса, она попробовала освободиться: извивалась, отчаянно билась и рвалась, но затворница держала ее с нечеловеческой силой. Худые, костлявые пальцы судорожно впились в ее руку. Казалось, они приросли к ней совсем. Это было хуже цепи, хуже аркана, хуже железного кольца – это были одушевленные, сознательные клещи, высунувшиеся из стены.
Обессилев, она прислонилась к стене, и ее охватил страх смерти. Она подумала о прелести жизни, о молодости, о небе, о красоте природы, о любви, о Фебе, обо всем, что миновало и что ждет ее впереди, о священнике, который пошел донести на нее, о палаче, который сейчас придет, о виселице, бывшей у нее перед глазами. Она почувствовала, как у нее от ужаса зашевелились волосы, и услыхала зловещий смех старухи, шептавшей ей: «Ха-ха-ха! Сейчас тебя повесят!»
В смертельной тоске она обернулась к окошку и сквозь решетку его увидела безумное лицо отшельницы.
– Что я вам сделала? – спросила Эсмеральда, почти теряя сознание.
Затворница ничего не ответила и начала бормотать каким-то певучим, злобным и насмешливым голосом: «Цыганка, цыганка, цыганка!» Несчастная Эсмеральда горестно поникла головой, поняв, что имеет дело с безумным существом. Вдруг заключенная воскликнула, как будто вопрос цыганки только теперь дошел до ее сознания:
– Что ты мне сделала, спрашиваешь ты? Ты хочешь знать, что ты мне сделала, цыганка? Так слушай же!.. У меня был ребенок! Ребенок, понимаешь ты! Хорошенькая маленькая девочка… Агнеса моя, – продолжала она как бы в забытьи, целуя что-то в темноте. – Так слушай же, цыганка! У меня отняли моего ребенка, у меня украли моего ребенка, у меня украли моего ребенка! Вот что ты мне сделала!
Девушка отвечала, как ягненок в басне:
– Быть может, меня тогда еще не было на свете!
– Нет, нет, – возразила заключенная, – этого не может быть. Дочь моя была бы твоих лет теперь. И вот пятнадцать лет, как я сижу здесь, пятнадцать лет, как я страдаю, пятнадцать лет молюсь, пятнадцать лет бьюсь головой о стены. Говорю тебе, ее украли у меня цыганки, слышишь ты? Украли и сожрали своими зубами. Есть у тебя сердце? Так представь себе, что это такое – маленький ребенок, который играет, сосет грудь, спит. Что может быть невиннее? И это-то, это они у меня отняли, убили! Про то знает Господь Бог!.. Сегодня мой черед, я сожру цыганку. О, я бы тебя искусала, если бы мне не мешала решетка! Через нее не пролезает голова. Бедная малютка! Ее украли сонную! А если она и проснулась, то она кричала, напрасно меня не было около нее!.. Ага, цыганки! Вы убили моего ребенка, теперь посмотрите, как умрет ваш.
И она принялась хохотать и скрежетать зубами. На этом исступленном лице трудно было отличить одно от другого. Тем временем начало рассветать. Сероватый полусвет озарял эту сцену, и виселица все отчетливее вырисовывалась на площади. С противоположного берега от моста Богоматери все яснее доносился до слуха несчастной осужденной конский топот.
– Сударыня! – воскликнула она, ломая руки и падая на колени, растрепанная, отчаявшаяся, обезумевшая от ужаса. – Сударыня, сжальтесь! Они приближаются. Я вам ничего не сделала. Неужели вы хотите, чтобы я умерла такой ужасной смертью у вас на глазах? Я знаю, в вашем сердце найдется хоть капля жалости. Это слишком ужасно! Дайте мне спастись. Пустите меня! Ради бога! Я не хочу умирать!
– Отдай моего ребенка! – отвечала узница.
– Сжальтесь, сжальтесь!
– Отдай моего ребенка!
– Пустите меня, ради бога!
– Отдай моего ребенка!
Девушка снова упала, измученная, обессиленная, глаза ее уже остекленели, как у мертвой.
– Увы! – прошептала она. – Вы ищете свою дочь, а я ищу своих родителей.
– Отдай мне мою маленькую Агнесу, – продолжала Гудула. – Ты не знаешь, где она? Так умри же! Я тебе все расскажу. Я была распутной, у меня был ребенок, и его у меня отняли. Его украли цыганки. Теперь ты понимаешь, почему ты должна умереть. Когда твоя мать, цыганка, придет за тобой, я ей скажу: «Взгляни на виселицу!» Если не хочешь умереть, отдай мне моего ребенка. Знаешь ты, где моя маленькая дочка? Посмотри, что я тебе покажу. Вот ее башмачок, все, что у меня осталось. Не видала ли ты где другого башмачка? Если видела, скажи, и, будь это хоть на другом конце света, я поползу туда на коленях.
И с этими словами она другой рукой показала цыганке из-за решетки вышитый башмачок. Было уже настолько светло, что легко можно было разглядеть его форму и цвет.
– Покажите мне ближе этот башмачок! – воскликнула цыганка, вся затрепетав. – Боже мой, Боже!
И в то же время свободной рукой поспешно раскрыла ладанку, украшенную зелеными бусами, которую всегда носила на шее.
– Ладно, ладно! – бормотала Гудула. – Хватайся за свой дьявольский талисман! – Вдруг голос ее оборвался, она задрожала всем телом и воскликнула голосом, выходящим из глубины души: – Дочь моя!
Цыганка вынула из ладанки башмачок, как две капли воды похожий на первый. К башмачку был привязан кусочек пергамента, а на нем написаны стихи:
Второй такой же ты найди,
И мать прижмет тебя к груди…
Быстрее молнии затворница сравнила оба башмачка, прочла надпись на пергаменте и припала к оконной решетке лицом, сияющим небесной радостью, крича:
– Дочь моя, дочь моя!
– Мать моя! – отозвалась цыганка.
Перо бессильно описать эту встречу.
Стена и железная решетка разделяли их.
– О, эта стена! – воскликнула Гудула. – Видеть тебя и не иметь возможности обнять. Дай руку! Руку!
Молодая девушка протянула в окошко руку, и затворница жадно прильнула к ней губами – и замерла в этом поцелуе. Она не подавала никаких признаков жизни, только конвульсивные рыдания по временам потрясали все ее тело. Она плакала молча в темноте, и слезы ее текли ручьями, как ночной дождь. Несчастная мать потоками изливала на эту обожаемую руку черное, бездонное море слез, накопившихся в ее душе, капля за каплей собиравшей ее горе в течение пятнадцати лет.
Вдруг она вскочила, откинула с лица длинные пряди седых волос и, не говоря ни слова, принялась с яростью львицы раскачивать железную решетку окна. Но решетка не поддавалась. Тогда она схватила в углу кельи большой камень, служивший ей изголовьем, и с такой силой ударила им в решетку, что один из железных прутьев сломался, брызнув во все стороны искрами. Второй удар окончательно разбил старую крестообразную решетку, загораживавшую окно. Тогда она голыми руками отогнула ржавые прутья сломанной решетки. Бывают минуты, когда руки женщины приобретают нечеловеческую силу.
В одну минуту, расширив таким образом отверстие, она схватила свою дочь за талию и втянула ее в келью.
– Сюда! Я спасу тебя от гибели, – шептала она.
Втащив ее в келью, она тихо опустила ее на пол, потом снова подняла и начала носить на руках, как будто то была прежняя малютка – Агнеса. Она ходила взад и вперед по своей узкой келье, опьяненная, не помня себя от радости. Она кричала, пела, целовала свою дочь, что-то ей бессвязно рассказывала, заливаясь хохотом и слезами в одно и то же время.
– Дочь моя, дочь моя! – повторяла она. – Моя дочь нашлась! Вот она! Милосердный Господь возвратил ее мне. Эй, вы! Идите все сюда! Кто хочет взглянуть на мою дочь? Господи Боже мой!.. Какая она красавица! Ты заставил меня пятнадцать лет ждать, Господи, зато какой красавицей возвратил мне ее! Значит, цыганки тебя не съели? Кто же это выдумал! Дочурка моя! Милая моя дочурка! Поцелуй меня! Добрые цыганки, я люблю цыганок! Так это в самом деле ты? Недаром у меня сердце билось всегда, когда ты проходила мимо. А я-то думала, что это от ненависти. Прости меня, моя Агнеса, прости меня! Ты думала, что я очень злая, ведь правда? Ах, как я тебя люблю! Цела ли у тебя родинка на шее? Покажи-ка. Вот она. Ах, как ты хороша! Это я вам дала ваши чудные глаза, сударыня. Поцелуй меня! Я тебя люблю! Теперь мне все равно, что у других матерей есть дети, мне нечего им завидовать. Пусть они придут сюда, я им покажу свою дочь. Вот ее шейка, глазки, волосы, ручка. Есть ли на свете что-нибудь прекраснее! У нее будет много поклонников, я за это ручаюсь. Пятнадцать лет я проплакала, вся моя красота исчезла – и снова расцвела в ней. Поцелуй меня!..
И много других бессвязных речей говорила она голосом, полным невыразимой нежности. Одежду молодой девушки она привела в такой беспорядок, что та смущенно краснела. Она целовала ее ноги, колени, лоб, глаза, гладила ее шелковистые волосы и всем восхищалась. Молодая девушка отдавалась ее ласкам и лишь изредка шептала с бесконечной нежностью:
– Матушка!
– Вот что я тебе скажу, моя дочурка, – продолжала затворница, прерывая свою речь поцелуями, – вот что я тебе скажу. Я тебя буду очень любить. Мы уйдем отсюда и заживем так счастливо. Я получила в Реймсе, на родине, маленький клочок земли в наследство. Ты помнишь Реймс? Нет, ты, конечно, забыла его! Ты была еще слишком мала! А если бы ты знала, какая ты была хорошенькая, когда тебе было четыре месяца! Ножки у тебя были такие крошечные, что на них приходили полюбоваться из Эпернэ, а ведь это за семь лье от Реймса. У нас будет свой домик, свое поле. Ты будешь спать на моей постели. Боже мой, Боже мой! Трудно даже поверить, – моя дочь со мной!
– Ах, матушка! – отвечала молодая девушка, преодолев наконец свое волнение настолько, что могла заговорить. – Мне это всегда предсказывала одна цыганка. В нашем таборе была такая добрая цыганка, она умерла в прошлом году. С самого детства она заботилась обо мне, как кормилица. Она повесила мне на шею эту ладанку и часто повторяла: «Девочка, береги эту вещицу, это бесценное сокровище, оно поможет тебе найти твою мать. Ты носишь свою мать у себя на шее». Цыганка предсказала верно!
Затворница снова сжала дочь в объятиях.
– Дай я тебя поцелую! Как ты мило рассказываешь! Когда мы вернемся на родину, мы отнесем оба башмачка в церковь и обуем в них статую младенца Иисуса. Надо же нам отблагодарить милосердную Пресвятую Деву. Боже мой, какой у тебя прелестный голос! Когда ты сейчас говорила, это была музыка! О Господи! Я нашла свою дочь! Ну, можно ли этому поверить! Видно, люди ни от чего не умирают, если я не умерла от радости.
Потом она снова принялась хлопать в ладоши, смеясь и крича:
– Ах, как мы будем счастливы!..
В эту минуту в келью донесся звон оружия и топот лошадей, проскакавших, по-видимому, по мосту Богоматери и теперь приближавшихся сюда вдоль по набережной. Цыганка с отчаянием бросилась в объятия затворницы:
– Спаси меня! Спаси меня, матушка! Они едут за мной!
Мать побледнела.
– Боже мой, что ты говоришь! Я совсем забыла! За тобой гонятся! Что же ты сделала?
– Не знаю, – отвечала бедняжка, – но меня приговорили к смертной казни.
– К смертной казни! – проговорила Гудула, пошатнувшись, точно сраженная громом. – К смертной казни! – медленно повторила она, глядя на дочь остановившимся взглядом.
– Да, матушка, – продолжала растерянно молодая девушка, – они хотят меня убить. Вот они идут за мной. Эта виселица приготовлена для меня! Спаси меня! Спаси меня! Они уже близко. Спаси меня!
Затворница несколько мгновений простояла неподвижно как окаменевшая, потом покачала с сомнением головой и наконец разразилась громким хохотом, своим прежним ужасным хохотом:
– Ха-ха-ха! Нет, это ты мне сказки рассказываешь. Как! Я ее потеряла, это длилось пятнадцать лет, потом я нашла ее – и это продлится одну минуту?! Ее хотят опять отнять у меня! Теперь, когда она выросла и стала такой красавицей, когда она говорит со мной, любит меня? Теперь они хотят съесть ее на глазах у меня – у меня, ее матери! Нет, это невозможно, милосердный Господь не допустит этого!
Тут конский топот замолк, отряд, по-видимому, остановился, и издали послышался голос:
– Сюда, мессир Тристан! Архидьякон сказал, что мы ее найдем около «Крысиной норы»…
И конский топот раздался снова.
Затворница вскочила, испустив вопль отчаяния:
– Беги, беги, дитя мое! Теперь я все вспомнила! Ты права! Это идет твоя смерть! О, ужас! О, проклятие! Беги же, беги!
Она высунула голову в окно и тотчас же отшатнулась.
– Оставайся здесь, – отрывисто и мрачно прошептала она, судорожно сжимая руку цыганки, помертвевшей от ужаса. – Оставайся! Не дыши! Солдаты повсюду, тебе нельзя выйти, слишком светло.
Ее сухие глаза сверкали. Она молчала, бегая взад и вперед по келье. По временам она останавливалась, вырывала у себя клок седых волос и разрывала его зубами. Вдруг она заговорила:
– Они приближаются. Я с ними поговорю. Спрячься вон в том углу. Они тебя не увидят. Я им скажу, что ты вырвалась, что я тебя отпустила.
Она отнесла свою дочь, которую все еще держала на руках, в самый дальний угол кельи, куда снаружи нельзя было заглянуть. Там она усадила ее, заботливо осмотрев, чтобы руки и ноги были в тени, распустила ее черные волосы, стараясь ими прикрыть белое платье, поставила перед ней свою кружку с водой и камень, служивший ей изголовьем, – единственные предметы, бывшие в ее распоряжении, – воображая, что кружка и камень могут скрыть дочь. Покончив с этим, она немного успокоилась, встала на колени и принялась молиться.
День едва занялся, и «Крысиная нора» еще тонула во мраке. В эту минуту возле кельи раздался зловещий голос архидьякона, кричавший:
– Сюда, капитан Феб де Шатопер!
Услыхав этот голос, это имя, Эсмеральда, притаившаяся в своем углу, пошевелилась.
– Не шевелись, – прошептала Гудула.
В ту же секунду около самой кельи послышались бряцанье оружия, людские голоса и конский топот. Затворница быстро вскочила и встала у окна, стараясь заслонить его собой. Она увидала большой отряд конных и пеших солдат, выстроившихся на Гревской площади. Их начальник сошел с лошади и направился к отшельнице.
– Старуха, – произнес этот человек со зверским выражением лица, – мы ищем колдунью, чтобы ее повесить. Нам сказали, что она у тебя.
Несчастная мать постаралась принять самый равнодушный вид и отвечала:
– Не понимаю, что вы говорите.
– Черт возьми! – воскликнул другой. – Что же нам наплел этот безумный архидьякон! Где он?
– Монсеньор, – отвечал один из солдат, – он исчез.
– Смотри, старуха, не ври, – заговорил начальник отряда, – тебе поручили стеречь колдунью. Куда она девалась?
Затворница поняла, что, отпираясь ото всего, может навлечь на себя подозрение, и потому отвечала сердито и словно чистосердечно:
– Коли вы ищете высокую девушку, которую мне велели держать, так она меня укусила, и я выпустила ее… и отстаньте от меня.
Начальник отряда скорчил недовольную гримасу.
– Смотри, не вздумай мне врать, старая карга! – пригрозил он. – Я – Тристан Пустынник, кум самого короля, слышишь! – И, посмотрев на Гревскую площадь, прибавил: – Здесь эхо отзывается на мое имя.
– Хотя бы ты был сам сатана Пустынник, все-таки я тебя не боюсь и ничего больше не знаю! – отвечала ободренная Гудула.
– Ах, черт тебя возьми! – воскликнул Тристан. – Вот язык-то! Так колдунья убежала? А куда она побежала?
– Кажется, по улице Мутон, – равнодушно отвечала Гудула.
Тристан обернулся и подал знак отряду отправляться на дальнейшие поиски. Гудула вздохнула с облегчением.
– Монсеньор, – вдруг вмешался один из стрелков, – спросите-ка у старой ведьмы, почему у нее сломана решетка в окне?
Этот вопрос снова наполнил сердце несчастной матери тоской отчаяния. Однако она не потеряла присутствия духа.
– Она всегда была такая, – пробормотала она.
– Ну, нет, – отвечал стрелок, – вчера еще железный крест был цел и наводил на набожные мысли.
Тристан искоса взглянул на затворницу:
– Что это ты, голубушка, путаешь?
Несчастная понимала, что ей нужно сохранить присутствие духа, и, холодея от ужаса, заставила себя расхохотаться; только у матери могло хватить на это сил.
– Неправда, – возразила она, – солдат, верно, пьян. Уже с год тому назад тележка, нагруженная камнями, задела за решетку и сломала ее. Уж как я ругала тогда возчика!
– Правда, – сказал другой стрелок, – я сам видел.
Всегда и повсюду найдутся люди, которые все видели. Это неожиданное свидетельство стрелка ободрило затворницу, испытывавшую во время допроса чувство человека, переходящего над пропастью по лезвию ножа. Но ей, видно, суждено было подвергаться вечным переходам от надежды к отчаянию.
– Если бы решетку сломала повозка, – возразил первый солдат, – то обломки прутьев были бы вдавлены внутрь, а они торчат на улицу.
– Эге! – обратился Тристан к солдату. – Да у тебя нюх, как у сыщика из Шатлэ. А ну-ка, старуха, что ты на это скажешь?
– Боже мой! – воскликнула Гудула, теряя голову, голосом, в котором слышались слезы. – Клянусь вам, монсеньор, что решетку сломала тележка. Вы слышали, вон тот солдат сам это видел. Да и не все ли вам равно, ведь это не касается вашей цыганки.
– Гм! – пробурчал Тристан.
– Черт возьми, – снова заметил солдат, польщенный похвалою начальника, – а ведь трещины на решетке совсем свежие!
Тристан покачал головой, Гудула побледнела.
– И давно, говоришь ты, тележка сломала решетку?
– Да с месяц тому назад, а может, недели с две, монсеньор! Не помню наверное.
– А раньше она сказала, что больше года тому назад, – заметил солдат.
– Да, дело тут нечисто, – сказал Тристан.
– Монсеньор! – воскликнула Гудула, продолжая заслонять собой окошко и дрожа при мысли, что подозрение может заставить их просунуть голову и заглянуть в келью. – Монсеньор, клянусь вам, что решетка сломана тележкой. Клянусь вам в этом всеми святыми ангелами. Если это не тележка, пусть я буду проклята навеки как богоотступница.
– Ты что-то слишком горячо клянешься! – заметил Тристан, окидывая ее инквизиторским взглядом.
Несчастная женщина чувствовала, что теряет самообладание, делает промахи и говорит совсем не то, что нужно. Тут подбежал другой солдат и воскликнул:
– Монсеньор, старая ведьма врет: колдунья не могла убежать на улицу Мутон. Улица всю ночь была загорожена цепью, и часовые никого не видали.
Лицо Тристана с каждой минутой становилось мрачнее.
– Что ты на это скажешь? – обратился он к затворнице.
Та попыталась преодолеть это новое препятствие:
– Не знаю, монсеньор, может, я ошиблась. Кажется, она действительно побежала к реке.
– Да это совсем в другую сторону, – сказал Тристан, – и притом невероятно, чтоб она бросилась назад к Сите, где ее ищут. Ты врешь, старуха!
– А кроме того, – добавил первый солдат, – ни на том, ни на этом берегу нет лодки.
– Она могла перебраться вплавь, – возразила Гудула, отстаивая под собой почву шаг за шагом.
– Да разве женщины умеют плавать? – отвечал солдат.
– Черт возьми! Ты врешь, старуха! Врешь! – гневно воскликнул Тристан. – Пожалуй, вместо колдуньи придется мне повесить тебя. Четверть часика разговора в застенке, верно, развяжут тебе язык. Собирайся-ка с нами в путь.
Она с жадностью подхватила его слова:
– Как вам угодно, монсеньор. Берите меня, берите. Пытка! Я согласна! Ведите меня, скорее, скорей! Идем сейчас же.
«Тем временем дочь моя успеет убежать», – подумала она.
– Черт возьми! – удивился Тристан. – Она так и рвется в застенок. Никак не разберешь этой полоумной.
Тут из рядов выступил старый седой сержант, служивший в ночной страже, и обратился к Тристану:
– Она и впрямь полоумная, монсеньор. Если она выпустила цыганку, то не по своей вине, потому что она ненавидит цыганок. Вот уж пятнадцать лет, как я хожу дозорным, и каждый вечер слышу, как она осыпает цыганок всяческими проклятиями. А если та, которую мы ищем, как я предполагаю, маленькая плясунья с козой, то ту она особенно ненавидит.
Гудула сделала над собой усилие и проговорила:
– Да, да, – эту особенно.
Остальные солдаты единодушно подтвердили слова старого сержанта. Тристан Пустынник, потеряв надежду добиться толку от затворницы, повернулся к ней спиной, и она с невыразимым замиранием сердца смотрела, как он направился к своей лошади.
– Трогай! – приказал он сквозь зубы. – Надо продолжать поиски. Я не усну, пока цыганка не будет повешена.
Подойдя к лошади, он на минуту остановился в нерешительности. Гудула – ни жива ни мертва – наблюдала за тем, как он окидывал площадь беспокойным взором охотничьей собаки, чующей близость зверя и не решающейся уходить. Наконец он тряхнул головой и вскочил в седло. Страшная тяжесть, давившая сердце Гудулы, скатилась, и она прошептала, оглянувшись на дочь, на которую до сих пор ни разу не решалась взглянуть:
– Спасена!
Несчастное дитя все это время просидело в своем углу, притаившись, не дыша, не шевелясь, ожидая смерти каждую минуту. Она слышала весь разговор Тристана с Гудулой, и все треволнения, испытанные ее матерью, переживались и ею. Она слышала, как трещит тонкая нить, на которой она висела над бездной, двадцать раз ей казалось, что нить уже порвалась. Теперь наконец она вздохнула свободнее и опять почувствовала почву под ногами. Вдруг она услыхала знакомый голос, говоривший Тристану:
– Черт возьми! Монсеньор, я – человек военный, и не мое дело вешать колдуний. Чернь усмирена, а с остальным вы сумеете управиться одни. Если позволите, я вернусь к своему отряду, который остался без капитана.
Это был голос Феба де Шатопера. Трудно передать словами, что произошло в душе цыганки. Так он тут, ее друг, ее покровитель, ее заступник, ее убежище, ее Феб. Она вскочила так быстро, что мать не успела ее удержать, и бросилась к окну с криком:
– Феб! Ко мне, мой Феб!
Но Феба уже не было. Он огибал галопом угол улицы Кутельри. Зато Тристан еще не успел удалиться. Затворница с диким воплем бросилась на свою дочь и быстро оттащила ее от окна, впиваясь ей ногтями в шею: ведь матери-тигрицы не церемонятся! Но было слишком поздно – Тристан все видел.
– Ага! – воскликнул он, захохотав и оскалив зубы, что придало его лицу сходство с волчьей мордой. – В мышеловке-то две мыши!
– Я так и думал, – заметил солдат.
Тристан потрепал его по плечу.
– У тебя хороший нюх! – похвалил он. – А ну-ка, где тут Анриэ Кузен?
Из рядов выступил человек, не похожий ни по осанке, ни по одежде на солдата. Платье на нем было наполовину серое, наполовину коричневое, с кожаными рукавами; волосы были гладко зачесаны; в руках у него был пучок веревок. Этот человек всегда сопровождал Тристана, как тот сопровождал Людовика XI.
– Дружище, – обратился к нему Тристан Пустынник, – надо полагать, что это та самая колдунья, которую мы ищем. Повесь-ка ее. Где твоя лестница?
– Лестницу возьмем из-под навеса Дома с колоннами. Не на этом ли «правосудии» нам ее вздернуть? – продолжал он, указывая на каменную виселицу.
– Да.
– Отлично, – воскликнул палач с хохотом, еще более зверским, чем смех Тристана. – По крайней мере, недалеко ходить.
– Живей! – приказал Тристан. – Потом нахохочешься.
С той минуты, как Тристан увидал девушку и последняя надежда была потеряна, затворница не произнесла ни слова. Бросив бедную полумертвую цыганку в угол кельи, она снова стала у окна, вцепившись обеими руками, точно когтями, в углы подоконника. В такой позе она окинула солдат отважным взором, принявшим прежнее дикое и безумное выражение. Когда Анриэ Кузен подошел к келье, лицо затворницы сделалось так ужасно, что тот попятился назад.
– Монсеньор, – обратился он к Тристану, – которую прикажете взять?
– Молодую.
– Тем лучше! Со старухой было бы трудненько справиться.
– Бедная маленькая плясунья с козочкой, – пожалел старый сержант.
Анриэ Кузен снова подошел к окошку и невольно потупил глаза, встретив пристальный взгляд несчастной матери.
– Сударыня… – обратился он к ней довольно робко.
Она перебила его яростным шипящим шепотом:
– Чего тебе нужно?
– Я не за вами пришел, а за другой.
– Какой другой?
– Молодой.
Она принялась трясти головой, крича:
– Здесь нет никого! Нет никого! Нет никого!
– Ну, будет вам притворяться, – сказал палач. – Дайте мне взять молодую, я вам зла не причиню.
Она отвечала, как-то странно посмеиваясь:
– Так ты мне зла не причинишь?
– Дайте мне взять вон ту молодку, сударыня. Монсеньор так приказал.
Она продолжала твердить с безумным видом:
– Здесь нет никого!
– А я вам говорю, что есть, – возразил палач. – Мы видели, что вас было две.
– Ну, посмотри сам! – воскликнула Гудула, посмеиваясь. – Сунь-ка голову в окошко!
Палач взглянул на ее когти и попятился.
– Живей! – крикнул ему Тристан, успевший тем временем выстроить своих солдат полукругом перед «Крысиной норой», а сам подъехал верхом к виселице.
Смущенный Анриэ опять подошел к своему начальнику, положил веревки на землю и спросил, сконфуженно комкая в руках свою шапку:
– Монсеньор, как же туда войти?
– Через дверь.
– Двери нет.
– Ну, через окно.
– Да оно слишком узко.
– Так расширь его, – отвечал сердито Тристан. – Разве нет у вас заступов?
Из глубины кельи несчастная мать все время внимательно наблюдала за ними. Она потеряла уже последнюю надежду и сама не знала, чего добивается. Она только не хотела отдавать свою дочь.
Анриэ Кузен отправился под навес Дома с колоннами, где в ящике хранились разные инструменты. Оттуда он вытащил двойную лестницу и сейчас же приставил ее к виселице. Пять-шесть солдат вооружились кирками и рычагами, и Тристан во главе их снова направился к келье.
– Слушай, старуха! – заговорил он суровым тоном. – Отдай нам эту девушку добром.
Она взглянула на него бессмысленным взором.
– Черт возьми! – воскликнул Тристан. – Какое тебе дело, что эта колдунья будет повешена по приказу короля?
Несчастная захохотала своим безумным смехом:
– Какое мне дело?! Да ведь это моя дочь!
Голос, каким она произнесла эти слова, заставил вздрогнуть самого Анриэ Кузена.
– Мне очень жаль тебя, – продолжал Тристан, – но такова воля короля.
Она воскликнула, продолжая хохотать своим диким смехом:
– Какое мне дело до твоего короля? Я тебе сказала, что это моя дочь!
– Ломайте стену! – приказал Тристан.
Для того чтобы расширить отверстие, достаточно было выломать ряд камней под окошком.
Услыхав удар кирок и рычагов, сокрушавших ее крепость, несчастная мать испустила отчаянный вопль и принялась с ужасающей быстротой кружиться по своей келье; эту привычку дикого зверя она приобрела, сидя в клетке. Она молчала, но глаза ее горели. Солдат охватил ужас.
Вдруг она схватила камень и, захохотав, с размаху бросила его в солдат. Камень, брошенный неловко, дрожащими руками, не задев никого, упал к ногам лошади Тристана. Гудула заскрежетала зубами.
Тем временем, хотя солнце еще не совсем взошло, но было уже совсем светло, и старые дымовые трубы Дома с колоннами озарились нежным розовым отблеском. В этот час раньше других проснувшиеся обыватели уже весело отворяют свои окна, выходящие на крыши. На Гревской площади показалось несколько рабочих, потом несколько торговцев овощами, отправляющихся на своих осликах на рынок. Все они на минуту останавливались перед отрядом солдат, выстроившимся около «Крысиной норы», смотрели на них с удивлением и проходили дальше.
Гудула уселась около дочери, заслоняя ее своим телом, неподвижно глядя вперед и прислушиваясь к тихому шепоту бедной девушки, твердившей не переставая:
– Феб, Феб!
По мере того как работа солдат, ломавших стену, подвигалась вперед, мать невольно откидывалась назад и все сильнее прижимала молодую девушку к стене. Вдруг затворница увидала, что камни, за которыми она наблюдала, не спуская глаз, закачались, и услыхала голос Тристана, подбодрявшего работавших. Охватившее ее на несколько минут оцепенение покинуло ее, и она закричала каким-то странным голосом, то режущим ухо, как звук пилы, то захлебывающимся от проклятий, стремившихся разом вылиться из ее уст:
– Го, го, го! Это ужасно! Разбойники! Неужто вы в самом деле хотите отнять у меня дочь? Я же вам сказала, что это – моя дочь! Ах, подлые! Прислужники палача! Проклятые холуи, убийцы! Помогите, помогите! Пожар! Неужто у меня отнимут дочь! Где же после этого милосердный Господь?
Потом она обернулась к Тристану и заговорила с пеной у рта, с блуждающим взором, стоя на четвереньках и ощетинясь, словно пантера:
– Попробуй-ка отнять у меня дочь! Да ты что, не понимаешь: женщина тебе сказала, что это ее дочь. Да знаешь ли ты, что значит иметь ребенка? Разве ты, волк, никогда не жил с волчицей, не имел от нее волчонка? А если у тебя есть детеныши, неужели у тебя внутри ничего не шевелится, когда они воют?
– Сворачивай камень, – приказал Тристан, – он чуть держится.
Рычаги приподняли тяжелую каменную плиту над окном, бывшую, как мы уже говорили, последним оплотом бедной матери. Она бросилась вперед, хотела удержать камень, вцепилась в него ногтями, но тяжелая каменная глыба, на которую напирало шесть человек, выскользнула у нее из рук и медленно опустилась на землю с помощью железных рычагов.
Мать, увидав, что вход готов, упала поперек отверстия и загородила его своим телом, ломая руки, стукаясь головой о камни и крича чуть слышным голосом, охрипшим от усталости:
– Помогите! Горим! Пожар!
– Теперь берите девушку, – хладнокровно сказал Тристан.
Мать окинула подошедших солдат таким грозным взглядом, что те предпочли бы отступить, чем идти вперед.
– Чего же вы стали! – крикнул Тристан. – Анриэ Кузен, ступай ты вперед!