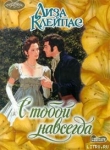Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 82 страниц)
Книга четвертая
I. Добрые душиЗа шестнадцать лет до описываемых нами событий, в одно прекрасное утро в Фомино воскресенье, в соборе Парижской Богоматери после обедни было найдено какое-то маленькое, живое существо. Оно лежало в деревянных яслях, вделанных в пол паперти, налево от того исполинского изображения святого Христофора, на которое так благоговейно смотрела с 1413 года каменная коленопреклоненная фигура рыцаря, мессира Антуана Дезэссара. Статуя стояла вплоть до того времени, когда умные люди нашли нужным убрать и изображение святого, и статую молящегося.
По издавна существовавшему обычаю, в эти ясли клали подкидышей, поручая их общественному милосердию. Отсюда каждый желающий мог взять подкидыша на воспитание. Перед яслями стояло медное блюдо для подаяния.
Подобие живого существа, лежавшее на досках в Фомино воскресенье 1467 года, очевидно, сильно возбуждало любопытство столпившейся вокруг яслей довольно густой кучки людей. Кучка эта состояла большею частью из представительниц прекрасного пола, преимущественно старух.
Среди этих женщин особенно выделялись четыре старухи, стоявшие у самых яслей и низко наклонившиеся над ними. Судя по длинным серым одеяниям монашеского покроя, старухи принадлежали к какой-то благочестивой общине. Я не вижу причин, почему бы не передать потомству имен этих четырех скромных и почтенных особ. Их звали: Агнеса ла Герм, Жанна де ла Тарм, Генриетта ла Гольтьер и Гошер ла Виолет. Они все были вдовы и состояли при обители Этьен-Годри.
С разрешения своей начальницы и согласно уставу Пьера д’Айльи старушки пришли в собор слушать проповедь.
Однако, соблюдая в точности устав Пьера д’Айльи, достойные монахини, с другой стороны, самым бесцеремонным образом нарушали правила Михаила де Браша и кардинала Пизского, жестоко предписывавшие им молчание.
– Что это такое, сестра? – говорила Агнеса своей соседке Гошер, рассматривая маленькое создание, которое с визгом корчилось в яслях, видимо испуганное множеством устремленных на него глаз.
– Что же это будет с нами, если стали появляться на свет такие дети! – сказала Жанна.
– Я не знаю толку в ребятах, – продолжала Агнеса, – но думаю, что на такого ребенка грешно даже и смотреть.
– Да это вовсе и не ребенок, Агнеса.
– Это неудавшаяся обезьяна, – заметила Гошер.
– А по-моему, это какое-то знамение, – произнесла Генриетта ла Гольтьер.
– В таком случае, – подхватила Агнеса, – это уже третье чудо за нынешний месяц. Ведь прошло не больше недели, как обервильская Богородица так чудесно наказала нечестивого странника, который кощунствовал перед ее изображением. А то было вторым чудом в этот месяц.
– Этот подкидыш – настоящее страшилище! – воскликнула Жанна.
– От его крика даже певчий оглохнет! – добавила Гошер. – Замолчи ты, неугомонный ревун!
– И подумать только, что монсеньор архиепископ Реймсский прислал это чудовище в подарок монсеньору архиепископу Парижскому! – ужасалась Гошер, всплеснув руками.
– По-моему, – снова заговорила Агнеса, – это просто какой-то звереныш… что-то вроде помеси жида и свиньи… ему не место в христианском храме, нужно бросить его в огонь или в воду.
– Надеюсь, никто не решится взять к себе это чудовище, – сказала ла Гольтьер.
– Ах, боже мой! – сокрушалась Агнеса. – Как мне жаль бедных кормилиц приюта для подкидышей, который находится в конце переулка, на берегу, рядом с жилищем архиепископа… Каково им будет, если придется кормить такое чудовище!.. Я бы на их месте предпочла кормить своей грудью настоящего вампира…
– Ну и простота же вы, ла Герм! – вскричала Жанна. – Разве вы не видите, что этому маленькому страшилищу по меньшей мере года четыре и что он нуждается не в груди, а скорее в хорошем куске мяса?
И действительно, маленькое «страшилище» (мы и сами затруднились бы назвать его иначе) не было новорожденным. Это существо представляло собой угловатую, очень подвижную массу, завязанную в мешок, помеченный начальными буквами имени мессира Гильома Шартье, тогдашнего парижского архиепископа. Из мешка выглядывала одна только голова, отличавшаяся поразительной уродливостью. На ней ничего нельзя было различить, кроме щетины рыжих волос, одного глаза и зубастого рта. Глаз плакал, рот кричал, а зубы, казалось, так и искали, во что бы им вонзиться. Существо это изо всей силы билось в своем мешке, к немалому изумлению окружавшей ясли всё растущей толпы.
В эту толпу вмешалась и госпожа Алоиза Гондлорье, богатая и знатная дама, которая вела за руку хорошенькую девочку лет шести и тащила за собой длинное покрывало, прикрепленное к золотому рогу ее головного убора. Дама остановилась, чтобы тоже взглянуть на злополучное маленькое существо, корчившееся и кричавшее в яслях, между тем как ее дочь, прелестная Флёр де Лис, разодетая в шелк и бархат, водила своим крохотным пальчиком по прибитой к яслям надписи: «Подкидыши».
– Фу, какая гадость! – с отвращением проговорила дама. – Я думала, что сюда кладут только детей.
И она поспешно пошла дальше, бросив на блюдо серебряный флорин, гордо звякнувший между лежавшими там медяками. Бедные сестры общины Этьен-Годри вытаращили глаза при виде такой небывалой щедрости.
Вслед за этим подошел кичившийся своей ученостью Роберт Мистриколь, королевский протонотариус, державший под мышкою одной руки толстый молитвенник, а под другой – руку своей супруги Гильометы, урожденной ла Мерес. Таким образом он имел при себе оба свои регулятора: духовный и светский.
– Подкидыш! – проговорил он, рассмотрев метавшееся в мешке существо. – Гм… По всей вероятности, его нашли на берегу реки Флегетона.
– У него виден только один глаз, а другой закрыт каким-то желваком, – заметила бывшая девица ла Мерес.
– Это не желвак, – возразил мэтр Роберт Мистриколь, – это – яйцо; оно содержит в себе другого такого же демона с таким же яйцом, в котором тоже сидит демон. И так далее… до бесконечности.
– Откуда ты это знаешь? – спросила Гильомета.
– Знаю, вот и все! – ответил протонотариус.
– Господин протонотариус, – обратилась к нему Гошер, – что, по вашему мнению, предвещает этот странный найденыш?
– Величайшее бедствие, – изрек мэтр Мистриколь.
– Ах ты, господи! – вскричала одна старуха в толпе. – Неужели мало того, что у нас в прошлом году была такая сильная чума, а теперь, говорят, еще англичане собираются высадиться в Гарфле?
– Еще, чего доброго, – подхватила другая старуха, – королева не приедет в Париж в сентябре. А торговля и без того идет так плохо.
– По-моему, – сказала Жанна де ла Тарм, – для парижских бедняков было бы лучше, если бы этот маленький колдун был положен на костер, а не в ясли.
– Да, на хорошенький пылающий костер! – подхватила первая старуха.
– Действительно, это было бы благоразумнее, – подтвердил и Мистриколь.
В толпе уже несколько минут стоял молодой священник, внимательно прислушиваясь к тому, что говорили монахини и протонотариус. У него были широкий лоб, глубокий взгляд, суровое выражение лица. Он молча отстранил толпу, посмотрел на «маленького колдуна» и положил на него руку. Да и пора было, потому что все эти старые ханжи уже начали предвкушать наслаждение при мысли о «хорошеньком пылающем костре».
– Я беру этого ребенка к себе, – произнес молодой священник.
И, завернув подкидыша в свою сутану, он быстро ушел с ним, провожаемый полными ужаса взглядами присутствующих. Через минуту он уже скрылся за Красной дверью, соединявшей в то время церковь с монастырем.
Когда первое изумление прошло, Жанна де ла Тарм наклонилась к уху Генриетты де ла Гольтьер и прошептала:
– Разве я не говорила вам, сестра, что этот молодой клирик, Клод Фролло, колдун?
II. Клод ФроллоКлод Фролло действительно не был обыкновенною личностью.
Он принадлежал к одному из тех семейств среднего состояния, которые на грубом языке прошлого столетия причислялись то к высшей буржуазии, то к низшему дворянству. Семейство это унаследовало от братьев Паклэ ленный земельный участок Тиршап, зависевший от епископа Парижского; двадцать один дом, расположенный на этом участке, были в тринадцатом столетии предметом бесконечных судебных тяжб. В качестве владельца этого лена Клод Фролло принадлежал к числу тех феодалов, которые имели притязание на взимание сборов в Париже и его предместьях. Его имя долгое время красовалось между леном Танкарвиль, принадлежавшим мэтру Франсуа ле Рец, и леном Турского коллежа в списке упомянутых феодалов, хранившемся в архиве монастыря Сен-Мартен-де-Шан.
Родители Клода Фролло со дня рождения сына предназначили его к духовному званию. Читать его учили по-латыни и очень рано привили ему привычку держать глаза опущенными и говорить тихим голосом. Совсем еще маленьким он был отдан отцом в коллеж Торши, в квартале Университета. Там он и вырос над молитвенником и словарем.
Впрочем, Клод и от природы был ребенком серьезным, тихим и задумчивым. Он отлично учился, быстро запоминал, никогда не шумел во время рекреаций, не участвовал в вакханалиях улицы Фуар, не знал, что такое dare alapas et capilos laniara[51]51
Давать пощечины и вырывать волосы (лат.).
[Закрыть], и никак не обнаружился в том мятеже 1473 года, который был занесен летописцами в хронику под громким названием «шестой университетской смуты». Лишь изредка он позволял себе вместе с другими осмеивать бедных учеников коллежа Монтегю за их capettes (плащи с капюшонами), по которым они получили свое прозвище, или бурсаков коллежа Дормана за их тонзуры и трехцветные кафтаны из зеленовато-синего, голубого и фиолетового сукна – «azurini coloris et bruni», как сказано в хартии кардинала «Четырех корон».
Зато он был самым ревностным посетителем всех больших и малых учебных заведений улицы Сен-Жан-де-Бове. Начиная свою лекцию канонического права в школе Сен-Вандржезиль, аббат Сен-Пьер де Валь всегда видел первым лицо Клода Фролло, который, сидя как раз против кафедры, у одного из столбов аудитории, и, вооруженный пером и чернильницей, готовился записывать слова лектора в лежавшую у него на коленях тетрадь, для чего зимою он должен был отогревать дыханием окоченевшие от холода пальцы. На лекции мессира Миль-Дилье, читавшего по понедельникам в школе Шеф-Сен-Дени, первым, весь запыхавшись, прибегал Клод Фролло. Ни разу не случалось, чтобы он не поспел туда к тому моменту, когда растворялись двери школы. Благодаря этому Клод уже шестнадцати лет смело мог бы потягаться в мистической теологии с любым из отцов Церкви, в канонической – с любым из членов соборов, а в схоластической – с кем угодно из докторов Сорбонны.
Изучив до тонкости богословие, он с жадностью набросился на декреталии. От «Свода сентенций» он перешел к капитуляриям Карла Великого. Затем, при такой неутолимой жажде знания, он последовательно поглощал одни декреталии за другими: Теодора, епископа Гиспальского, Бушара, епископа Вормского, Ива, епископа Шартрского, потом декреталии Грациана, затем сборник Григория IX и послание Гонория III super specula, последовавшие за капитуляриями Карла Великого. Этим путем он вполне разобрался в том обширном и смутном периоде борьбы канонического права с гражданским, происходившей среди хаоса Средних веков, который был начат епископом Теодором в 618 году и закончен Папою Григорием в 1227 году.
Переварив декреталии, Клод Фролло ухватился за медицину и за свободные искусства. Он изучил науку о целебных растениях и о составлении мазей, основательно ознакомился с различными способами лечения лихорадок, ушибов, нарывов, ран и т. п. Знаменитый Жак д’Эпар не задумался бы дать ему диплом доктора медицины, а Ришар Геллэн с удовольствием вручил бы ему диплом доктора хирургии. С тем же успехом он прошел и все ученые степени в изящных науках: лиценциата, магистра и доктора. Он изучил языки: латынь, греческий и древнееврейский – тройную святыню, мало кого привлекавшую. Его пожирала горячка знания, и он накапливал его с ненасытностью скряги. Восемнадцати лет он уже прошел все четыре факультета. Казалось, что этот юноша видел в жизни только одну цель: знание.
Как раз в это время, то есть в знойное лето 1466 года, и разразилась та страшная чума, которая в одном Парижском округе унесла около сорока тысяч человек, в том числе, как выразился Жан де Труа, и «мэтра Арну, королевского астролога, человека добродетельного, мудрого и приятного в обращении». Вдруг в университете распространился слух, что эпидемия с особенной силою свирепствует на улице Тиршап. На этой улице, в своем ленном владении, проживали родители Клода Фролло. В страшном испуге юноша бросился туда. Он застал отца и мать уже мертвыми. В одной комнате с едва остывшими трупами родителей лежал и плакал в колыбели покинутый разбежавшимися слугами грудной младенец, брат Клода. Это было все, что осталось от семьи. Молодой человек взял ребенка на руки и задумчиво вышел. До этой страшной минуты он жил только в мире науки, а теперь внезапно оказался брошенным в водоворот настоящей, «живой» жизни.
Эта катастрофа произвела коренной переворот в жизни Клода. Внезапно осиротев и сделавшись на двадцатом году жизни главою семейства, он вдруг был низведен из мира школьных мечтаний в мир грубой действительности. Но, охваченный жалостью к своему маленькому беспомощному брату, он с жаром отдался заботам о нем и страстно к нему привязался. Это чувство было необычно и сладостно для юноши, питавшего раньше любовь только к книгам.
Любовь к брату развивалась в нем с изумительною быстротою и силою, всецело охватывая его девственную душу. Это было похоже на первую любовь. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых поэтому он едва знал, зарывшийся всецело в книги, жаждавший только знания, заботившийся исключительно о развитии своего ума посредством науки и питавший свое воображение лишь изящною словесностью, бедный студент до сих пор не имел времени почувствовать, что у него бьется сердце. Маленький осиротевший брат, свалившийся к нему вдруг точно с неба, преобразил его и сделал другим человеком. Он понял, что наряду с умозрениями Сорбонны и стихами Гомера в мире есть еще кое-что, что человеку свойственны и живые привязанности, что без любви и нежности жизнь не что иное, как мертвый, ржавый, скрипучий и безобразный механизм. Но, будучи еще в тех годах, когда одна иллюзия сменяется другою, он был уверен, что человеку нужны одни родственные, основанные на узах крови привязанности и что любви к брату вполне достаточно, чтобы сделать жизнь полной.
Таким образом, он весь отдался любви к Жану, своему маленькому брату, отдался со всей страстью своей глубокой, сосредоточенной души. Это крошечное, хрупкое существо с розовыми щечками и светлыми кудрявыми волосиками, этот сиротка, не имевший другой опоры, кроме него, бывшего таким же сиротой, трогал его до глубины души. Серьезный мыслитель, Клод подолгу размышлял и над этим существом, в то же время окружая его нежнейшей заботливостью. Он был для Жана больше чем братом, – он сделался его второй матерью.
Жан лишился матери в то время, когда еще был грудным ребенком, поэтому Клод был вынужден приискать ему кормилицу. Кроме лена в улице Тиршап он унаследовал от отца еще другой ленный участок – мельницу, стоявшую на холме, близ Винчестерского дворца (Бисетра). У мельничихи был здоровый грудной ребенок. Мельница находилась недалеко от университета, и Клод сам отнес туда Жана.
С того времени, чувствуя, что на него возложено бремя, Клод стал относиться к жизни с серьезностью человека зрелых лет. Забота о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и единственною целью его научных занятий. Он решил посвятить себя всецело этому существу, за будущность которого обязан был отвечать перед Богом, и дал обет, что никогда не женится и что все свои радости, все свое счастье будет искать только в брате. Это еще более побудило его избрать духовное поприще, к которому он чувствовал такую склонность с детства. Кстати, его прекрасные свойства, его знания и положение в качестве вассала парижского архиепископа широко открывали ему церковные двери.
Двадцати лет от роду он с особого разрешения Папы был уже священником, и его назначили младшим капелланом в тот придел собора Богоматери, в котором служилась поздняя обедня и алтарь которого поэтому назывался altare pigrorum[52]52
Алтарь лентяев (лат.).
[Закрыть].
На этом месте он, еще более прежнего погруженный в любимые книги, которые покидал только затем, чтобы сходить ненадолго на мельницу навестить брата, не по годам серьезный и ученый, быстро завоевал удивление и уважение всего монастыря. Отсюда слава о его учености проникла и в народ, который, как это водилось в доброе старое время, смешивал научные знания с колдовством.
В то памятное Фомино воскресенье Клод шел к себе домой после того, как отслужил позднюю обедню в упомянутом приделе, находившемся направо от главного алтаря, у входа на хоры, возле изображения Богоматери, как вдруг его внимание было привлечено группою старух, так возбужденно работавших языками вокруг яслей для подкидышей.
Так случилось ему подойти к тому злополучному маленькому существу, на которое из уст окружающих сыпалось столько ненависти и угроз. Вид этого брошенного, беспомощного, обиженного природою и людьми создания, воспоминание о брате внушили ему мысль, что если он, Клод, внезапно умрет, то и его маленький Жан может быть так же безжалостно брошен в ясли подкидышей. Эта ужасная мысль возбудила в его сердце чувство бесконечной жалости к уродцу в мешке и заставила его унести к себе несчастного ребенка.
Вынутый из мешка подкидыш действительно оказался уродливым до чудовищности. Левый глаз бедняжки был закрыт желваком, голова совершенно уходила в плечи, позвоночник выгибался в виде дуги, грудная кость сильно выпячивалась, а ноги были кривые. Тем не менее этот уродец казался живучим. Между прочим, о его здоровье и силе свидетельствовал громкий голос, все время выкрикивавший что-то непонятное. Уродливость ребенка только усилила сострадание к нему Клода и заставила его дать обет воспитать подкидыша из любви к своему брату. Этим милосердием он как бы искупал будущие грехи маленького Жана. Клод словно заботился о том, чтобы припасти брату капитал добрых дел на случай, если тот сам окажется не в состоянии накопить себе таких денег – единственных, которые в ходу в раю.
Клод окрестил своего приемыша и назвал его Квазимодо, не то в память того дня, в который он его нашел, не то потому, что хотел этим нечеловеческим именем охарактеризовать его как существо, представляющее собою не полного человека, а лишь черновой набросок его. Ведь кривой, горбатый и кривоногий Квазимодо действительно мог считаться только подобием человека[53]53
Quasimodo – «как бы», «наподобие» (лат.).
[Закрыть].
Страж страшных тварей – страшнее их сам (лат.).
[Закрыть]
В 1482 году Квазимодо был уже взрослым. Он уже несколько лет исправлял должность звонаря собора Богоматери. Эту должность он получил по милости своего приемного отца Клода Фролло. Последний имел теперь сан жозасского архидьякона, полученный им по милости своего начальника Луи де Бомона, сделавшегося в 1472 году парижским архиепископом по смерти Гильома Шартье, по милости своего покровителя, Оливье ле Дена, бывшего по милости Божьей цирюльником Людовика XI.
Итак, Квазимодо был звонарем собора Богоматери.
С течением времени между звонарем и собором образовалась какая-то таинственная связь. Навсегда отрешенный от мира тяготевшим над ним двойным несчастьем – неизвестностью происхождения и уродливостью, – с детства заключенный в этот двойной круг, через который невозможно было перешагнуть, злополучный подкидыш не привык видеть ничего другого, кроме этих священных стен, приютивших его под своей сенью. По мере того как Квазимодо рос, собор Богоматери представлял для него сначала яйцо, потом – гнездо, дом, отечество, а под конец и всю Вселенную.
И действительно, это существо было соединено с собором Богоматери какой-то особенной извечной гармонией.
Когда Квазимодо, будучи еще совсем маленьким, с мучительными усилиями, вприскочку, на четвереньках, пробирался под мрачными сводами этого собора, то он, со своим получеловеческим лицом и чудовищным телосложением, казался пресмыкающимся, возникшим прямо от того сырого и сумрачного помоста, на который капители романских столбов бросали свои причудливые тени.
Впоследствии, в тот день, когда Квазимодо в первый раз уцепился за веревку колокольни и, повиснув на ней, раскачал колокол, он произвел на своего приемного отца Клода Фролло такое впечатление, точно у этого странного ребенка развязался наконец язык и он начинает говорить.
Таким образом, постепенно развиваясь сообразно окружавшей его обстановке собора, безвыходно живя в этом здании и постоянно подвергаясь его таинственному влиянию, Квазимодо в конце концов почти сросся с собором, сделался как бы его инкрустацией, неотделимою от него частью. Выступающие углы его тела (да простят нам это сравнение!) вполне соответствовали вогнутым углам здания, так что он казался не только обитателем, но прямо частью этого здания. Можно было сказать, не впадая в особенное преувеличение, что он принял форму собора, как улитка принимает форму своей раковины. Собор был его жилищем, его норою, его оболочкою. Между ним и старым храмом существовала такая глубокая коренная симпатия, было столько, так сказать, органического сходства, что он как бы целиком прирос к собору, как прирастает черепаха к своему панцирю. Шероховатые стены собора были действительно как бы его чешуей.
Было бы лишним предупреждать читателя, чтобы он не придавал буквального значения сравнениям, к которым мы были вынуждены прибегнуть, чтобы дать понятие об этом странном, симметричном, непосредственном, почти однородном по своему вещественному составу сочетании человека с зданием. Бесполезно также было бы распространяться о том, до какой степени Квазимодо освоился со всем собором в продолжение долгого и близкого своего общения с ним. Собор был зданием, построенным точно нарочно для него. В этом здании не было ни одной щели, в которой не побывал бы Квазимодо, ни одного возвышения, на которое он бы не влезал. Сколько раз взбирался он на собор прямо по фасаду, пользуясь одними выступами скульптурных украшений! Не раз видали его пробирающимся ползком по наружным краям башен, подобно ящерице, скользящей по отвесной стене. Эти два каменных близнеца-исполина, грозные и недоступные для других, не внушали ему страха; карабкаясь по ним, он не испытывал ни головокружения, ни боязни, ни приступов растерянности. Видя их такими податливыми, можно было подумать, что он приручил их. Постоянно лазая, прыгая и кувыркаясь над бездною, зиявшею со всех сторон у подножия гигантского собора, Квазимодо сделался чем-то средним между обезьяной и серною, напоминая калабрийского ребенка, который начинает плавать раньше, чем ходить, и, совсем еще маленький, точно играет с грозным морем.
Наконец не только его тело, но и сама его душа сформировалась по подобию собора. В каком состоянии находилась его душа? Как она складывалась, какую приняла форму в этой угловатой оболочке, в этой невозможной жизненной обстановке? Определить это очень трудно. Квазимодо явился на свет кривым, горбатым и колченогим. Даже выучить его говорить Клоду Фролло удалось с громадным трудом и терпением. Но, очевидно, над бедным подкидышем тяготел рок. Сделавшись четырнадцати лет от роду звонарем собора Богоматери, он подвергся новому несчастью, довершившему его физическое убожество: от колокольного звона у него лопнули барабанные перепонки, и он оглох. Этим для него закрылась навсегда и та последняя дверь, которую оставила было ему природа для общения с внешним миром.
Закрывшись, эта дверь пресекла доступ единственному лучу света и радости, до тех пор кое-как проникавшему в душу бедного звонаря, и эта душа очутилась в полном мраке. Злополучного калеку охватила глубокая меланхолия, такая же полная и неизлечимая, как и его телесное уродство. Глухота сделала его отчасти и немым. Почувствовав себя оглохшим, он, чтобы не быть мишенью лишних насмешек, обрек себя на молчание, которое нарушал только наедине с самим собою. Он добровольно вновь наложил узы на свой язык, развязать который стоило стольких трудов его приемному отцу. Последствием этого было то, что, когда перед ним возникала неизбежная необходимость говорить, язык его поворачивался тяжело и неуклюже, как дверь на ржавых петлях.
Если бы мы попытались проникнуть в душу Квазимодо сквозь покрывавшую ее толстую и корявую оболочку; если бы мы могли прощупать всю глубину этого уродливого организма; если бы нам была дана возможность заглянуть за эти грубые органы и исследовать сумрачную внутренность этого загадочного существа, пройти по всем углам и своеобразным изгибам этой темной пропасти и осветить томившуюся на ее дне психику, мы, наверное, нашли бы ее в самом жалком положении: скорченною и захирелою, подобно тем несчастным узникам венецианских свинцовых тюрем, которые доживали до старости, согнутые в три погибели в каменных ящиках, слишком узких, коротких и низких для того, чтобы можно было в них выпрямиться.
В уродливом теле дух не может не атрофироваться. Квазимодо лишь смутно мог чувствовать в себе присутствие души, похожей на его тело. Впечатления окружавших его предметов должны были подвергаться множеству преломлений, прежде чем дойти до его сознания. Мозг его представлял совсем особую среду: проходившие через него мысли были чудовищно извращены. Мысль, подвергавшаяся стольким преломлениям, естественно, должна была получаться до невозможности расплывчатой, туманной.
Это порождало бесчисленное множество зрительных обманов, ложных суждений и уклонений блуждавшей мысли, и Квазимодо казался то сумасшедшим, то форменным идиотом.
Первым следствием такой роковой организации было то, что она совершенно затемняла взгляд Квазимодо на окружающее. Не получая никаких непосредственных впечатлений, это злополучное существо было несравненно дальше от внешнего мира, чем всякое другое. Вторым следствием его уродства являлась злость. И действительно, Квазимодо был зол, потому что был дик, а диким он стал оттого, что был безобразен. Его натура, как и всякая другая, была последовательна. Его необычайно развившаяся телесная сила тоже немало способствовала увеличению в нем злости. Гоббс недаром сказал: Malus puer robustus[55]55
Сильный юноша – зол (лат.).
[Закрыть].
Впрочем, по справедливости следует сказать, что злость, пожалуй, у него не была врожденной. Не нужно забывать, что с первых же шагов среди людей он почувствовал себя – а впоследствии и отчетливо осознал это – оплеванным, забросанным грязью, отверженным. Человеческая речь была для него не чем иным, как проклятьями или насмешками. Пока он рос, он видел вокруг себя одну лишь ненависть и сам проникся ею. Он лишь подобрал оружие, причинившее ему столько глубоких, неизлечимых ран.
Впрочем, он всегда с крайнею неохотою обращался к людям. Ему было вполне достаточно его собора, населенного мраморными изображениями королей, святых, епископов и проч. Эти изображения, по крайней мере, не смеялись ему прямо в лицо и смотрели на него лишь взглядом, полным благоволения и величавого бесстрастия. Правда, там были изображения демонов и чудовищ, но и те смотрели на него без всякой ненависти. Он сам был слишком на них похож. Если он и подмечал в них оттенок насмешливости, то разве только по отношению к другим. Святые благословляли его, и он поэтому считал их своими друзьями. Чудовища охраняли его, он и в них видел своих друзей. Он не стеснялся изливать перед ними свои чувства. Иногда он по целым часам сидел на корточках перед какою-нибудь статуей, ведя с ней задушевную беседу. Если кто-нибудь заставал его, он поспешно убегал, точно влюбленный, которого застали поющим серенаду.
Собор заменял для Квазимодо не только общество людей, но и всю вселенную, всю природу. Ему не нужно было других украшений, кроме разноцветных и ярких красок, сверкающих на оконных стеклах собора; другой тени, кроме той, которая отбрасывалась каменною, усаженною птицами листвою, густо украшавшей саксонские капители; других гор, кроме исполинских башен собора; другого океана, кроме того, который представлял Париж, бурливший у подножия этих башен.
Но что он более всего любил в этом родном здании, что пробуждало его душу и заставляло ее хоть изредка расправлять свои бедные крылья, так безжалостно сжатые ее тесным помещением, – это колокола. Он их любил, лелеял, разговаривал с ними и понимал их. Он относился нежно ко всем ним, начиная с маленьких колоколов средней стрельчатой башенки и кончая большим колоколом портала. Средняя колоколенка и обе боковые башни были для него тремя громадными клетками, в которых воспитанные им птицы услаждали своим пением только его одного. А между тем эти самые колокола были причиною его глухоты. Но ведь матери обыкновенно любят сильнее именно тех детей, которые заставляли их больше страдать.
Да, голос колоколов был единственный, который он мог еще слышать. Поэтому он больше всех остальных любил большой колокол; он относился к нему с особенным вниманием и отличал его из всей этой шумной семьи, так весело заливавшейся вокруг него по праздничным дням. Этот большой колокол звали «Марией». Он висел один в южной башне, рядом со своей сестрой «Жакелиной», заключенной в клетку меньших размеров. «Жакелина» была названа этим именем в честь жены Жана Монтегю, пожертвовавшего этот колокол собору, что, кстати, не помешало ему быть потом обезглавленным на Монфоконе. Во второй башне висело шесть колоколов, на средней башенке помещалось тоже шесть колоколов, поменьше, в обществе деревянного колокола, в который звонили только на Страстной неделе, начиная с полудня чистого четверга и кончая утром субботы. Таким образом, в распоряжении Квазимодо было пятнадцать колоколов, из которых самым любимым была все-таки «Мария».
Невозможно описать радость, какую он испытывал в дни большого благовеста. Как только архидьякон приказывал ему идти на свое место и начинать звон, он бросался на винтовую лестницу и взбирался по ней скорее, чем другой стал бы спускаться. Запыхавшись, он вступал в воздушное помещение большого колокола. С минуту он проводил в благоговейном созерцании своего любимца, потом нежным голосом что-то говорил ему и гладил его рукою, точно доброго коня, которому предстоит длинный путь. Казалось, он жалел колокол за предстоявший ему труд. После этих первых ласк он кричал своим помощникам, дожидавшимся в нижнем ярусе башни, чтобы они начинали. Помощники повисали на канатах, раздавался скрип ворота, и громадная медная масса медленно начинала раскачиваться. С замирающим сердцем Квазимодо следил за нею глазами. Вот вздрогнули бревенчатые балки под первым ударом колокола, под первым звуком медного языка. Квазимодо сам вибрировал вместе с колоколом.