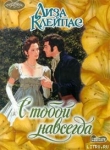Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 82 страниц)
Вернувшись в монастырь, архидьякон встретился у дверей с братом, Жаном де Муленом, который, поджидая его, заполнял скуку ожидания, рисуя на стене углем профиль старшего брата и украшая его огромным носом.
Клод едва взглянул на брата. Он был занят иными мыслями. Веселое лицо повесы, не раз заставлявшее своим радостным видом проясняться мрачную физиономию священника, оказалось на этот раз бессильным разогнать туман, все более и более сгущавшийся над этой сломленной, гниющей и разлагающейся душой.
– Братец, – робко начал Жан, – я пришел к вам.
Архидьякон даже не поднял глаз.
– Ну и что ж?
– Братец, – продолжал лицемер, – вы так добры ко мне и даете мне всегда такие хорошие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам…
– Дальше!
– Увы, братец, я убедился, что вы были правы, говоря мне: «Жан! Жан! Cessat doctorum doctrina, discipulorum disciplina…[133]133
Иссякает ученость ученых, послушание учеников (лат.).
[Закрыть] Будь благоразумен, Жан, учись, не отлучайся из коллежа без законной причины и без позволения наставника! Не бей пикардийцев, noli, Joannes, verberare Picardos. Не покрывайся плесенью, лежа на школьной соломе, как безграмотный осел, quasi asinus illiteratus. Жан, подчиняйся наказанию, налагаемому наставником; ходи каждый вечер в часовню и пой там каноны, стихи и молитвы Пресвятой Деве Марии…» Ах, какие то были превосходные советы!
– Ну а дальше что?
– Братец, вы видите перед собой виновного, преступника, развратника, чудовище! Дорогой братец, Жан потоптал ногами, как солому и навоз, ваши советы. Я жестоко за это наказан, и Господь необычайно справедлив. Пока у меня были деньги, я гулял, кутил, делал глупости… О, как привлекателен разгул сначала и как отвратительна его оборотная сторона! Теперь у меня уж нет ни гроша, я спустил скатерть, последнюю рубашку и полотенце! Теперь конец веселью! Яркая свеча догорела, и остался один сальный огарок, от вони которого приходится затыкать нос. Девчонки смеются надо мной. Приходится пить только воду. Раскаяние и кредиторы преследуют меня.
– Ну и вывод из всего этого? – спросил архидьякон.
– Увы, братец! Мне очень хотелось бы начать лучшую жизнь. Я прихожу к вам, полный раскаяния. Я приношу покаяние, исповедуюсь и бью себя в грудь кулаками. Вы были совершенно правы, высказав желание, чтобы я стал лиценциатом и сделался помощником наставника в коллеже Торши. Именно теперь я почувствовал глубокое к этому призвание. Но у меня нет даже чернил – надо купить новый запас; нет перьев – и их надо купить; нет ни бумаги, ни книг – все надо купить! Для этого мне необходимо немного денег. Вот я и пришел к вам, братец, с сердцем, полным раскаяния.
– Это все?
– Да… – отвечал студент. – Немного денег.
– У меня их нет.
Тогда Жан заявил серьезно и решительно:
– В таком случае, братец, мне очень прискорбно, но я должен заявить, что мне делают весьма выгодные предложения совершенно с другой стороны. Вы не хотите дать мне денег?.. Нет?.. В таком случае я становлюсь бродягой.
Произнося это ужасное слово, Жан принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния. Архидьякон отвечал холодно:
– Становись бродягой.
Жан низко поклонился и, посвистывая, спустился с монастырской лестницы.
В ту минуту, как он проходил монастырским двором под окном кельи брата, он услыхал, что окно отворилось.
Подняв голову, он увидал, что в окно высунулось строгое лицо архидьякона.
– Убирайся к черту! – крикнул dom Клод. – Вот тебе последние деньги, которые ты получаешь от меня.
Говоря это, священник бросил вниз кошелек, посадивший студенту большую шишку на лоб. Жан ушел, огорченный и вместе с тем довольный, как собака, которую забросали мозговыми костями.
III. Да здравствует веселье!Читатель, может быть, еще не забыл, что оградой части Двора чудес служила старинная городская стена, большинство башен которой уже начинало в то время разваливаться. Одну из этих башен бродяги приспособили для своих увеселений. В нижнем этаже помещался кабак, а все прочее – в верхних этажах. Эта башня была самым оживленным, а следовательно, и самым отвратительным местом в резиденции бродяг. Это был словно огромный улей, жужжавший день и ночь. Ночью, когда большинство нищих спало, когда уже не светился огонь ни в одном окошке домишек, окружавших площадь, когда уже ни один крик не доносился из этих бесчисленных лачуг, кишевших ворами, проститутками, незаконными и крадеными детьми, – веселую башню можно было узнать по ее шуму, по красному свету, лившемуся из ее окон, отдушин, трещин рассевшихся стен, словом, вырывавшемуся из всех ее пор.
Итак, в подвальном этаже помещался кабак. В него спускались через низенькую дверь по лестнице, крутой, как классический александрийский стих. На двери вывеску заменяла мазня, изображавшая новые монеты и зарезанных цыплят, с каламбуром внизу: «Кабачок похоронных звонарей».
Однажды вечером, когда на парижских колокольнях давали сигналы к тушению огней, ночные сторожа – если бы им только дано было право входить в страшный Двор чудес – могли бы заметить, что в притоне бродяг было еще шумнее, чем обыкновенно, что там пили больше и бранились крепче. Перед дверью толпились многочисленные группы, разговаривавшие вполголоса, словно обсуждая какой-то важный проект, а местами оборванцы, сидя на корточках, оттачивали старые железные ножи о камень.
Между тем в самой таверне вино и игра так отвлекали бродяг от мыслей, занимавших в этот вечер все умы, что трудно было бы догадаться из отрывков речей пирующих, о чем, собственно, шла речь. Заметно было только, что они веселее обыкновенного и что у всех сверкает какое-нибудь оружие, зажатое между колен: кривой нож, топор, тяжеловесный палаш или приклад старой пищали.
Зал круглой формы был очень обширен, но столы стояли так тесно и пьющих было так много, что все, находившееся в таверне, – мужчины, женщины, скамьи, пивные кружки, все, что тут пило, спало, играло, здоровые и калеки, – все перемешалось в беспорядке, как устричные раковины в куче. Кое-где на столах горели сальные свечи; но главное освещение, заменявшее в таверне люстру оперной залы, было пламя очага. Подвал был настолько сыр, что даже летом в огромном камине со скульптурным навесом, заваленным тяжелыми железными щипцами и кухонными принадлежностями, всегда ярко пылали дрова и торф, и это был такой огонь, какой в кузнице дает ночью яркое отражение ее окон на стенах противоположных домов деревенской улицы. Большая собака, важно восседавшая на куче золы, поворачивала перед горящими угольями вертел с мясом.
Однако, несмотря на весь хаос, оглядевшись, можно было различить в этой толпе три группы, толпившиеся вокруг трех человек, уже знакомых читателю. Один из них, в странном наряде из каких-то пестрых восточных лохмотьев, был Матиас Хунгади Стукали, герцог египетский и цыганский. Бродяга восседал на столе, скрестив ноги, подняв указательный палец кверху, и громким голосом посвящал своих слушателей в тайны белой и черной магии, а те только рты разевали от удивления.
Другая кучка толпилась вокруг нашего старинного приятеля, храброго короля тунского, вооруженного до зубов. Клопен Труйльфу очень деловито, тихим голосом, руководил расхищением лежащей перед ним огромной бочки с выбитым дном, наполненной оружием. Топоры, сабли, кольчуги, наконечники для стрел, копий и алебард, луки и вертящиеся стрелы сыпались оттуда, как яблоки и виноград из рога изобилия. Каждый брал из кучи, что хотел, – темляк, шпагу или меч с крестообразной рукояткой. Даже дети вооружались, а безногие калеки заковывались в броню и латы и, точно огромные жуки, ползали между ног пирующих.
Наконец, третья группа, самая многочисленная, шумная и веселая, занимала скамьи и столы вокруг какого-то человека, звонкий голос которого, ораторствуя и ругаясь, раздавался из-под тяжелых доспехов, дополненных каской и шпорами. Человек, навьючивший на себя эти рыцарские доспехи, совершенно исчезал под своим вооружением, так что от всей его особы виднелись только дерзкий красный короткий нос, прядь белокурых волос, румяный рот и смелые глаза. За поясом у него было заткнуто несколько ножей и кинжалов, справа болтался большой меч, а слева – заржавленный самострел. Перед ним стояла объемистая кружка вина, а рядом с ним сидела толстая, неряшливая девушка. Все вокруг хохотали, бранились и пили.
Прибавив еще групп двадцать второстепенных, слуг и служанок, бегавших с кружками пива, игроков, нагнувшихся над шарами и костями, игравших в мельницу, палочку и другие азартные игры; перебранка в одном углу комнаты, поцелуи – в другом, можно составить себе некоторое понятие об общем виде этой картины, освещенной колеблющимся светом яркого огня, пылавшего в камине и заставлявшего плясать на стене множество огромных уродливых теней.
Шум, царивший в таверне, придавал ей сходство с внутренностью колокола во время трезвона.
Сковородка, на которой шипело сало, наполняла своим неумолкаемым треском промежутки между разговорами, перекрещивавшимися во всех направлениях.
Среди всего этого гама, в глубине таверны, на скамье возле очага, положив ноги на пепел и устремив взор на горящие уголья, сидел философ, погруженный в свои мысли. Это был Пьер Гренгуар.
– Ну, скорей! Вооружайтесь живей! Через час выступать! – говорил Клопен Труйльфу своей компании.
Одна из женщин запела:
Доброй ночи, отец мой и мать,
Уж последние тухнут огни.
Двое картежников спорили.
– Валет! – кричал, весь разгоревшись, один из них, показывая кулак другому. – Покажу я тебе трефы! Ты можешь самого Мистрижи заткнуть за пояс в карточной игре у короля!
– Уф! – рычал нормандец, которого можно было узнать по его гнусавому произношению. – Здесь напихано столько народу, сколько святых в Кальювилле!
– Дети мои, – говорил фальцетом герцог египетский, обращаясь к своей аудитории. – Французские ведьмы летают на шабаш без метлы, без сала, не на каком-либо звере, а только при помощи магического слова. Итальянских колдуний у дверей всегда ждет козел. Но все обязательно вылетают в трубу.
Голос юноши, вооруженного с головы до ног, покрывал весь гам.
– Ура! Ура! – кричал он. – Я сегодня впервые ношу оружие! Бродяга! Я теперь бродяга. Черт побери самого Иисуса! Налейте мне вина! Друзья, меня зовут Жан Фролло де Мулен, и я дворянин. Я уверен, что, если бы у Бога было оружие, Он стал бы разбойником! Братья! Мы предпринимаем славную экспедицию. Мы храбрецы. Мы осадим собор, выломаем двери, выведем красавицу, спасем ее от судей, от священников, разнесем монастырь, сожжем епископа в его доме и сделаем все это в меньший срок, чем надо бургомистру, чтобы съесть ложку супу. Наше дело правое; мы ограбим собор Богоматери – и баста! Квазимодо повесим! Знаете вы Квазимодо, сударыни? Видали ли вы, как он, весь запыхавшись, трезвонит в большой колокол в Троицын день? Красивое зрелище! Словно сам дьявол сел верхом на жерло… Послушайте меня, друзья, я в душе бродяга, я родился бродягой. Я был очень богат и прожил все свое состояние. Мать желала, чтобы я был офицером, отец – чтобы я сделался дьяконом, тетка – секретарем королевства, бабушка – королевским прокурором, а внучатная бабушка – казначеем. Я же сделался бродягой! Я сказал это отцу, и он мне ответил проклятием, мать расплакалась и распустила нюни, как это полено в камине. Да здравствует веселье! Трактирщица, голубушка, другого вина! У меня есть еще чем заплатить. Вина! Только не сюренского! Оно дерет глотку! Лучше уж глотать прутья, черт побери!
Компания с хохотом рукоплескала ему, и, видя, что гам вокруг него усиливается, школяр продолжал:
– Ах, какой славный шум! Populi debacchantis populosa debacchatio![134]134
Беснующегося народа – разнообразное беснование! (Лат.)
[Закрыть] – И он принялся петь, закатывая глаза, тоном каноника, начинающего служить вечерню: – Quae cantica! Quae organa! Quae cantilenae! Quae melodiae hic sine fine decantantur! Sonant melliflua hymnorum organa, suavissima angelorum melodia, cantica canticorum mira!..[135]135
Какие песнопения! Какие трубы! Какие песни! Какие мелодии здесь без конца звучат! Поют медоточивые трубы, раздается нежнейшая ангельская мелодия, дивная песнь песней! (лат.)
[Закрыть]
Он перебил сам себя:
– Чертова трактирщица! Подай мне ужин!
Наступила минута затишья, среди которого вдруг зазвучал резкий голос герцога египетского, поучавшего своих цыган:
– Ласку зовут Адуиной, лисицу – голубой ногой или лесным бродягой, волка – серой или золотой ногой, медведя – стариком или дедушкой. Колпак гнома делает невидимым и позволяет видеть невидимые вещи. Всякую жабу, которую хотят окрестить, следует одеть в красное или черное бархатное платье и привязать ей к шее и ногам по колокольчику. Крестный отец держит голову, крестная мать – задние ноги… Злой дух Сидрагасум властен заставлять девушек плясать нагими.
– Клянусь обедней, хотел бы я быть злым духом – Сидрагасумом! – перебил Жан.
Между тем бродяги продолжали вооружаться, перешептываясь в другом конце таверны.
– Бедняжка Эсмеральда, – говорил один цыган. – Ведь она наша сестра; надо вытащить ее оттуда.
– А разве она все еще в соборе? – спросил один из бродяг с еврейским лицом.
– Да, черт возьми!
– Ну, так идем на собор, товарищи! – крикнул бродяга. – Тем более что в часовне Святых Ферреоля и Ферруциона есть две статуи – одна святого Иоанна Крестителя, а другая – святого Антония – обе из чистого золота и вместе весят семь золотых марок пятнадцать унций; а серебряные золоченые пьедесталы их весят семнадцать марок пять унций. Я это знаю; я ведь золотых дел мастер.
В эту минуту Жану подали его ужин. Он воскликнул, положив голову на грудь девушки, сидевшей рядом с ним:
– Клянусь святым Вульфом Люком, которого народ называет святым Гоглю, я вполне счастлив! Передо мной торчит какой-то дурак с рожей гладкой, как у эрцгерцога; а у соседа слева зубы такие длинные, что закрывают весь его подбородок. А сам я похож на маршала Жиэ при осаде Понтуаза. Я так же, как он, опираюсь на холм. Черт возьми, приятель, ты с виду похож на торговца, а усаживаешься рядом со мной. Я, любезный, из дворян. Торговля несовместна с дворянством. Убирайся отсюда!.. Эй, вы там, перестаньте драться! Как, Баптист Крок-Уазон, у тебя такой великолепный нос, а ты рискуешь подставлять его под кулак этого быка! Дурак! Non cuiquam datum est habere nasum[136]136
Не всякому дано иметь нос (лат.).
[Закрыть]. А ты, право, божественна, Жаклина Ронж-Орейль, жаль только, что у тебя нет волос. Эй! Меня зовут Жан Фролло, и брат мой – архидьякон. Черт его побери! Все, что я говорю вам, – правда. Делаясь бродягой, я с легким сердцем отказался от половины дома в раю, которую брат сулил мне: dimidiam domum in paradiso. Привожу его подлинные слова. У меня есть владение на улице Тиршап, и все женщины влюбляются в меня. Это так же верно, как верно то, что святой Илия был хорошим золотых дел мастером, что пять цехов славного города Парижа – это дубильщики, сыромятники, ременщики, кошелечники и седельщики, а святого Лаврентия сожгли на костре из яичных скорлуп. Клянусь вам, товарищи:
Посмотри, моя милая, светит луна. Взгляни в отдушину. Как ветер мнет облака! Вот и я так твою косынку. Эй, вы, бабы, смотрите, как текут сопли из детских носов и со свечей! Христос и Магомет! Что это я ем, Юпитер! Эй, хозяйка! На голове у твоих девок волос нет, зато их находишь в яичнице. Старуха! Я люблю лысую яичницу. Ах, чтоб тебя черт схватил за нос! Чертовски хороший кабак, где девки причесываются вилками!
Говоря это, он разбил тарелку об пол и запел во все горло:
Между тем Клопен Труйльфу окончил раздачу оружия. Он подошел к Гренгуару, который, поставив ноги на перекладину камина, казался погруженным в глубокое раздумье.
– Друг Пьер, – начал тунский король, – о каком ты черте думаешь?
Гренгуар обернулся к нему с меланхолической улыбкой:
– Люблю я огонь, ваше величество. Я люблю его не по той тривиальной причине, что он согревает нам ноги или варит наш суп, но люблю его за его искры. Иногда я по целым часам смотрю на них. Я открываю тысячу вещей в этих звездах, усеивающих черный фон очага. Эти звезды – тоже миры.
– Гром и молния, если я тебя понимаю! – сказал бродяга. – Знаешь ли ты, который час?
– Не знаю, – отвечал Гренгуар.
Клопен подошел к герцогу египетскому.
– Друг Матиас, неудачное мы выбрали время: говорят, король Людовик Одиннадцатый в Париже?
– Тем более нужно извлечь из его когтей нашу сестру, – ответил старый цыган.
– Ты молодец, Матиас, – сказал тунский король. – К тому же мы живо обделаем. Сопротивления в соборе нечего бояться. Каноники – зайцы, а мы сильны. То-то удивятся парламентские прислужники, когда придут завтра за ней. Клянусь кишками Папы, я не допущу, чтобы повесили нашу красавицу.
Клопен вышел из кабака.
Между тем Жан крикнул хриплым голосом:
– Я пью, я ем, я пьян, я Юпитер! Ей, Пьер-душегуб, если ты еще раз посмотришь на меня такими глазами, я щелчком смахну у тебя пыль с носа.
Гренгуар, выведенный из задумчивости, со своей стороны, начал всматриваться в происходившую вокруг него бурную и крикливую сцену, бормоча сквозь зубы: «Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebreitas[139]139
От вина распутство и буйное веселье (лат.).
[Закрыть]. Увы! хорошо я делаю, что не пью, и прав святой Бенедикт, говоря: “Vinum apostatare facit etiam sapientes”»[140]140
«Вино доводит до греха даже мудрецов» (лат.).
[Закрыть].
В эту минуту вернулся Клопен и закричал громовым голосом:
– Полночь!
При этом слове, вызвавшем такой же эффект, как приказание седлать, отданное отдыхающему полку, все бродяги – мужчины, женщины и дети – толпой бросились вон из кабака, гремя оружием и звеня железом.
Двор чудес погрузился в полный мрак. Нигде ни одного огонька. Однако двор не опустел: на нем стояла толпа мужчин и женщин, переговаривавшихся шепотом. Слышен был гул, и в темноте отсвечивало разнообразное оружие. Клопен стал на большой камень.
– Стройся, бродяги! – скомандовал он. – Стройся, цыгане! Стройся, галилеяне!
В темноте началось движение. Огромная толпа, по-видимому, строилась в колонну. Через несколько минут тунский король еще раз возвысил голос:
– Идти тихо во время шествия по Парижу! Пароль – «Огонек горит!» Факелы зажечь только перед собором. Марш!
Через десять минут ночные сторожа бежали в ужасе перед длинной процессией одетых в черное людей, молча двигавшихся по направлению к мосту Шанж по извилистым улицам, пересекающим по всем направлениям огромный Рыночный квартал.
IV. Медвежья услугаВ эту самую ночь Квазимодо не спал. Он только что в последний раз обошел собор. Запирая дверь, он не заметил, что архидьякон прошел мимо него, и выразил неудовольствие, видя, как он тщательно запирал все засовы и замки тяжелых дверей с железной обшивкой, придававшей этим дверям прочность каменной стены. Клод казался еще более озабоченным, чем обычно. Вообще со времени ночного приключения в келье он обращался с Квазимодо очень дурно. Но напрасно он был груб с ним, даже иногда бил его, – ничто не было в состоянии поколебать терпения, покорности, преданности верного звонаря. Он сносил от архидьякона все: брань, угрозы, побои – без слова, без малейшей жалобы. Разве только глаз его с беспокойством следил за Клодом, когда тот поднимался по лестнице в башню. Но архидьякон и сам уже не показывался на глаза цыганке.
Итак, в эту ночь, бросив мимоходом взгляд на свои колокола, которые он совсем забросил, – на «Жаклину», «Марию», «Тибо», – Квазимодо взошел на вершину северной башни и, поставив на крышу наглухо закрытый фонарь, стал смотреть на Париж. Ночь, как мы уже сказали, была очень темная. Париж, который в то время не освещался, представлялся глазу смутной темной массой, перерезанной местами беловатыми изгибами Сены. Квазимодо не видел света нигде, кроме окна отдаленного здания, темный профиль которого вырисовывался над крышами, в стороне Сент-Антуанских ворот. Там тоже кто-то не спал.
Оглядывая своим единственным глазом этот темный, туманный горизонт, Квазимодо чувствовал в душе какую-то необъяснимую тревогу. Уже несколько дней он был настороже. Он замечал, что вокруг собора постоянно бродят какие-то люди зловещего вида и не спускают глаз с убежища девушки. Он подозревал, что, быть может, против несчастной составился какой-нибудь заговор. Он воображал, что народ преследует ее своей ненавистью так же, как его, и что, следовательно, можно ожидать всего. Поэтому он стоял на колокольне настороже, «мечтая в своем укромном уголке», как говорит Рабле, и устремляя взгляд то на келью, то на Париж, полный недоверия, зорко сторожил, как хорошая собака.
Вдруг в ту минуту, как он всматривался в Париж одним глазом, который природа как бы в вознаграждение снабдила такой зоркостью, что он почти заменял Квазимодо все недостающие у него органы, ему показалось, что набережная Виейль-Пеллетри приняла какой-то странный вид, что там что-то движется, и линия парапета, черневшая на светлой поверхности вод, не так пряма и спокойна, как на прочих набережных, а как будто колеблется, подобно речной волне или головам движущейся толпы.
Это показалось ему странным. Он удвоил внимание. Движение, казалось, шло со стороны Сите. Однако – ни малейшего огонька. Движение несколько времени происходило на набережной, затем оно мало-помалу улеглось, будто волна вошла внутрь острова. Затем все исчезло, и линия моста снова сделалась прямой и неподвижной.
В ту минуту, как Квазимодо терялся в догадках, ему показалось, что движение возобновилось на улице, идущей от площади по Сите, перпендикулярно к фасаду собора. Наконец, несмотря на всю густоту мрака, он увидел, как у выхода из этой улицы показалась голова колонны, и вслед за тем всю площадь наводнила толпа, в которой ничего нельзя было рассмотреть впотьмах, кроме того, что это – толпа.
Это зрелище было страшно. Вероятно, эта странная процессия, которая, по-видимому, хотела скрыться под покровом темноты, хранила глубокое молчание. Все же оттуда должен был доноситься кое-какой шум – хотя бы шум шагов. Но эти звуки не долетали до нашего глухого, и масса людей, которую он едва различал, которой не слыхал, хотя она волновалась и двигалась так близко от него, производила на него впечатление сонма мертвецов, безмолвного, неосязаемого, теряющегося во мгле. Ему казалось, что на него надвигается туман, полный людей, что он видит, как в тени движутся тени.
Тогда к нему вернулись его опасения, мысль о покушении на цыганку снова возникла в его мозгу. Он смутно чувствовал, что наступает решительная минута. В эту критическую минуту он все обдумал так основательно и быстро, как того мудрено было ожидать от его слабо развитого мозга. Разбудить ему цыганку? Дать ей возможность бежать? Каким ходом? Улицы все заняты, а задний фасад собора выходит на реку. Нет ни лодки, ни выхода… Оставалось одно: пасть мертвым на пороге собора, сопротивляться, по крайней мере до тех пор, пока не придет помощь, если только она придет, но не нарушать сна Эсмеральды. Несчастную всегда еще успеют разбудить для смерти. Приняв такое решение, он начал более спокойно приглядываться к врагу.
Толпа на площади, по-видимому, росла с каждой минутой. Он понял, что она производила очень мало шума, потому что окна, выходившие на улицы и площадь, оставались закрытыми. Вдруг сверкнул огонь, и над головами замелькало во мраке колеблющееся пламя семи или восьми факелов. При свете их Квазимодо ясно рассмотрел на площади чудовищную, волнующуюся толпу оборванцев, мужчин и женщин, вооруженных косами, пиками, кривыми ножами и палашами, острия которых сверкали. Местами черные вилы торчали, как рога, над этими безобразными лицами. Квазимодо неясно припомнилась эта чернь, и ему даже казалось, что он узнает и лица этих людей, провозглашавших его несколько месяцев тому назад папой шутов. Один человек с зажженным факелом в одной руке и дубиной в другой встал на тумбу и, по-видимому, держал речь. В то же время странная армия сделала несколько эволюций, как бы размещаясь вокруг собора. Квазимодо взял фонарь и спустился на площадку между башнями, чтобы видеть все поближе и придумать средства обороны.
Действительно, Клопен Труйльфу, дойдя до дверей собора, построил свою армию в боевом порядке. Хотя он и не ожидал сопротивления, однако, по свойственному ему благоразумию, хотел сохранить порядок, который позволил бы ему встретить внезапную атаку ночной стражи или отряда королевских войск. Он расположил свой отряд так, что издали и сверху он напоминал римский треугольник в битве при Экноме, кабанью голову Александра или знаменитый клин Густава-Адольфа. Основание этого треугольника упиралось в глубину площади, преграждая доступ на нее с улицы, а одна из сторон была обращена к Отель-Дьё, другая – к улице Сен-Пьер-о-Беф. Клопен Труйльфу стал во главе толпы с герцогом египетским, нашим другом Жаном и самыми смелыми из бродяг.
Нападения, подобные тому, которое бродяги намеревались совершить на собор Богоматери, не составляли редкости в Средние века. Того, что мы теперь называем полицией, тогда не существовало. В населенных городах, особенно в столицах, не было одной центральной, охраняющей порядок власти. Феодализм построил эти большие общины странным образом. Город являлся собранием множества отдельных феодальных владений, разделявших его на части, разнообразные по форме и величине. Это создало множество противоречивых организаций, другими словами – никакой организации. В Париже, например, независимо от ста сорока одного владельца, имевших право взимать пошлину, было еще двадцать пять владельцев, пользовавшихся и правом собирать подати и судебной властью, начиная с парижского епископа, которому принадлежало сто пять улиц, и кончая приором монастыря Богоматери в полях, который владел четырьмя улицами. Все эти феодалы лишь номинально признавали авторитет своего сюзерена – короля. Все пользовались правом собирать дорожные пошлины. Все были хозяевами у себя дома. Людовик XI, этот неутомимый труженик, начавший разгром феодального здания, который потом продолжали Ришелье и Людовик XIV в интересах монархии, а Мирабо завершил в интересах народа, – попытался было пробить брешь в этой сети независимых владений, покрывавшей Париж, и издал без всякой последовательности два или три указа, касавшихся общей полиции. Так, в 1465 году им был издан приказ, чтобы граждане, под страхом смертной казни, при наступлении ночи ставили зажженные свечи на окнах и запирали собак. В этом же году было приказано запирать улицы железными цепями и запрещено носить при себе ночью кинжалы или вообще какое-либо оружие. Но все эти попытки введения общих законов быстро сводились к нулю. Граждане позволяли ветру гасить свечи на их окнах, а собакам бродить на свободе. Цепи протягивались только при осадном положении, а запрещение носить кинжалы повело лишь к переименованию улицы Перерезанной глотки в улицу Перерезанного горла – очевидный прогресс! Старинное сооружение феодального законодательства продолжало существовать. Независимые и арендные владения в городе переплетались, сцеплялись, мешали друг другу, вытесняли одно другое. Стражи, помощники стражей, сыщики образовали бесполезную заросль, через которую пробивались во всеоружии разбой, грабеж и подкуп. Таким образом, подобное вооруженное нападение одной части населения на дворец, на особняк, на дом в одном из наиболее населенных мест города отнюдь не представляло ничего необыкновенного при существующем повсюду беспорядке. В большинстве случаев соседи вмешивались в дело только тогда, когда грабеж касался их самих. При выстрелах из мушкетов они зажимали уши, закрывали ставни, баррикадировали двери, предоставляя нападению разыграться при участии стражи или без нее, и на следующий день по всему Парижу толковали: «Сегодня ночью разгромили дом Стефана Барбетта», «На маршала Клермона произведено нападение» и т. п. Поэтому не только королевские резиденции – Лувр, Дворец правосудия, Бастилия, Турнель, – но и дворцы вельмож, как, например, Малый Бурбонский, особняк де Сане, особняк герцога Ангулемского и т. д., были обнесены зубчатыми стенами и над воротами имели бойницы. Церкви охраняла их святость. Однако некоторые из них – собор Парижской Богоматери не принадлежал к числу последних – бывали тоже укреплены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре было обнесено такими же зубчатыми стенами, как резиденция какого-нибудь барона, и истратило на пушки много больше меди, чем на колокола. Еще в 1610 году видны были эти укрепления. Теперь там едва сохранилась только церковь.
Вернемся же к собору Богоматери.
Когда первые маневры были окончены – и, к чести дисциплины бродяг, мы должны сказать, что приказания Клопена были исполнены в полной тишине и с поразительной точностью, – достойный предводитель шайки взобрался на парапет паперти и возвысил свой хриплый, грубый голос, повернувшись в сторону собора и потрясая факелом, свет которого, колеблемый ветром и застилаемый собственным дымом, то озарял, то оставлял в тени багровый фасад храма.
– Тебе, Куи де Бомон, епископ Парижский, член парламента, я, Клопен Труйльфу, король тунский, князь бродяг, епископ шутов, говорю: «Наша сестра, несправедливо осужденная на смерть за колдовство, нашла убежище в твоей церкви. Ты должен был дать ей приют и покровительство. Однако парламент хочет извлечь ее оттуда, и ты на это согласился, так что ее повесили бы завтра на Гревской площади, если бы девушке не помогли Бог и бродяги. Вот мы пришли сюда, епископ. Если церковь твоя неприкосновенна, то неприкосновенна и наша сестра. Если наша сестра не неприкосновенна, то твоя церковь – тоже нет. Поэтому мы предлагаем тебе выдать нам нашу сестру, если ты хочешь спасти церковь, иначе же мы силой возьмем девушку и разграбим церковь. Вот и все! В доказательство я водружаю здесь свое знамя, и да хранит тебя Господь, епископ Парижский!»
К несчастью, Квазимодо не мог слышать этих слов, произнесенных с мрачным, диким величием. Один из бродяг подал Клопену знамя, и он торжественно водрузил его в щели между двумя плитами. То были вилы, на зубьях которых висел окровавленный кусок падали.
Совершив это, король тунский обернулся и оглядел свою армию – мрачную толпу, где взгляды сверкали почти так же, как пики. После минутной паузы он крикнул:
– Вперед, дети! За дело, молодцы!
Тридцать здоровенных молодцов с железными мускулами, по-видимому слесаря, выступили из рядов с молотами, клещами и железными полосами на плечах. Они направились к главному входу в собор, взошли по ступеням и, вскоре очутившись под сводом, принялись рычагами и клещами взламывать двери. Толпа бродяг последовала за ними, чтобы посмотреть или помочь, и запрудила все одиннадцать ступеней лестницы.
Однако дверь не поддавалась.
– Черт возьми, какая крепкая! – сказал кто-то.
– Стара, и оттого хрящи у нее окостенели, – подхватил другой.
– Смелей, товарищи! – ободрял Клопен. – Ставлю голову против старого башмака, что вы взломаете дверь, похитите девушку и ограбите главный алтарь, прежде чем успеет проснуться хоть один из церковных сторожей. Вот, кажется, замок уже подался.