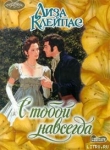Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"
Автор книги: Виктор Гюго
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 82 страниц)
Тем временем общественная молва о чудесном спасении цыганки дошла до слуха архидьякона. Узнав об этом, он не мог понять, что с ним происходит. Он свыкся с мыслью о смерти Эсмеральды. Он был спокоен. Он испытал всю глубину страдания. Человеческое сердце (Клод размышлял на этот счет) может вынести только известную долю страдания.
Когда губка насыщена, целое море может прокатиться по ней, не прибавив ни одной капли воды.
Эсмеральда была мертва, губка насыщена, все было кончено на свете для Клода. Но узнать, что и она, и Феб живы, – это было возобновление пытки, потрясений, страданий, жизни. А Клод устал от всего этого.
Когда священник узнал эту новость, он заперся в своей монастырской келье.
Он не являлся ни на собрания капитула, ни на службы. Дверь его была заперта даже для епископа.
Так провел он несколько недель. Думали, что он болен. И это была правда.
Что делал он взаперти? С какими мыслями бился? Быть может, вел последний бой со своей роковой страстью? Или обдумывал последний план смерти для нее и гибели для себя?
Жан, его любимый брат, его балованный ребенок, стучался в его дверь, умолял, заклинал, десятки раз называл свое имя. Клод не впустил его.
Он проводил целые дни, прислонив лицо к стеклу окна. Из этого окна в монастыре он видел келью Эсмеральды, он часто видел ее с козочкой, иногда с Квазимодо. Клод видел ухаживание за нею глухого, его внимание, его послушание цыганке. У него была хорошая память, а память – мучительница ревнивцев, и он вспоминал странный взгляд, брошенный как-то звонарем на танцовщицу. Клод спрашивал себя, какая причина могла заставить Квазимодо спасти ее. Он был свидетелем коротких встреч цыганки с глухим, и ее жесты, дорисованные его страстным воображением, издали казались ему нежными. Он не доверял женщинам. И в нем пробудилась ревность, которой он не ожидал и которая заставляла его краснеть от стыда и негодования. «Пусть бы еще капитан, – с возмущением думал он, – но этот!» Мысль эта терзала его.
Ночи его были ужасны. С тех пор как он узнал, что цыганка жива, его страхи перед призраком и могилой исчезли, но возвратилась физическая страсть. Он корчился на своей постели при мысли, что молодая смуглянка была так близко от него.
Каждую ночь его воспаленное воображение рисовало ему Эсмеральду в позах, заставлявших кипеть его кровь. То он видел ее склонившейся над заколотым капитаном, с закрытыми глазами, с белой грудью, окрашенной кровью Феба, в ту блаженную минуту, когда он запечатлел на ее бледных губах поцелуй, огонь которого несчастная почувствовала, хотя была полумертва. То представлялась она ему полураздетой в руках мучителей, когда винты испанского «сапога» охватили ее маленькую ступню, ее стройную, округлую ножку, ее гибкое, белое колено. Он еще видел ее словно выточенное из слоновой кости колено, выглядывавшее из ужасного орудия пытки Тортерю. Наконец он воображал ее в рубашке, с веревкой на шее, с обнаженными плечами, босыми ногами, почти всю обнаженную, какой видел ее в последний раз. При этих сладострастных образах он сжимал кулаки, и дрожь пробегала у него по спине.
Одну ночь эти образы так разожгли в его венах кровь девственника и священника, что он кусал свою подушку. Наконец он встал, накинул плащ поверх сорочки и, с лампой в руках, безумный, полураздетый, с воспаленными глазами, вышел из своей кельи.
Клод знал, где найти ключ от Красной двери, соединявшей монастырь с собором, а ключ от башен, как известно, всегда был с ним.
VI. Продолжение рассказа о ключе от Красной двериВ эту ночь Эсмеральда заснула в своей келье, полная забвения, надежд и сладких грез. Она спала уже некоторое время, видя во сне, как всегда, Феба, как вдруг услыхала около себя шум. У нее был легкий беспокойный сон птицы: малейший шорох пробуждал ее. Она открыла глаза. Было темно. Тем не менее она увидала в своем окне смотрящее на нее лицо. Лампа освещала это видение. Заметив, что Эсмеральда увидела его, призрак задул лампу, но Эсмеральда успела разглядеть его. Веки девушки опустились от ужаса.
– О, – сказала она упавшим голосом, – священник!
Все минувшее горе, как молния, охватило ее, и она, похолодев, упала на постель.
Через мгновение она почувствовала прикосновение к своему телу, прикосновение, от которого она встрепенулась и хотела в ярости вскочить.
Священник был около нее и крепко обхватил ее руками. Она хотела закричать, но не могла.
– Уйди, изверг! Уйди, убийца! – шептала она дрожащим от негодования и ужаса голосом.
– Сжалься надо мной! – говорил священник, целуя ее плечи.
Она обеими руками схватила за остатки волос его плешивую голову и старалась отдалить от себе его поцелуи, как будто то были ядовитые укусы.
– Сжалься! – повторял несчастный. – Если б ты знала мою любовь к тебе! Это огонь, растопленное олово, тысяча ножей в сердце!
Он с неестественной силой схватил ее руки.
– Пусти меня, – растерянно промолвила она, – пусти, или я плюну тебе в лицо.
Священник отпустил ее.
– Унижай меня, бей меня, будь злой, делай со мной, что хочешь, но только сжалься! Полюби меня.
Тогда она начала бить его с яростью ребенка. Своими прекрасными ручками она била его по лицу.
– Уходи, дьявол!
– Люби меня, люби меня! Пожалей меня! – кричал священник, прижимаясь к ней, отвечая ласками на удары.
Вдруг она почувствовала, что он сильнее ее.
– Пора кончить! – прошептал он сквозь зубы.
Она была побеждена, разбита. Дрожащая, она была в его руках, в его власти. Она чувствовала, как сладострастная рука блуждает по ее телу. Сделав последнее усилие, она закричала:
– Спасите! Сюда! Вампир! Вампир!..
Никто не являлся на помощь, одна Джали проснулась и жалобно заблеяла.
– Молчи! – повторял, задыхаясь, священник.
Вдруг, борясь с ним, ползая по земле, цыганка нащупала что-то холодное, металлическое. Это был свисток Квазимодо. Она схватила его с порывом надежды, поднесла к губам и дунула в него из последних сил. Свисток издал пронзительный, резкий, чистый звук.
– Что это? – проговорил священник.
Почти в то же мгновение его приподняли вверх сильные руки. В келье было темно. Он не видел, кто держал его, но слышал бешеный скрежет зубов и разглядел поднятое над ним лезвие ножа.
Священнику показалось, что это Квазимодо, это не мог быть никто другой. Он вспомнил, что, входя, чуть не наступил на какую-то массу, лежавшую снаружи у двери. Но так как явившийся на зов не произносил ни слова, Клод не знал, что и подумать. Он схватил руку, державшую нож, и закричал: «Квазимодо!» – забыв в этот ужасный момент, что Квазимодо глух.
В одно мгновение священник был брошен на пол и ощутил железное колено у себя на груди. По этому острому колену он узнал Квазимодо. Но как поступить, чтобы Квазимодо мог узнать его? Ночь превращала глухого в слепого.
Ему грозила гибель. Молодая девушка, безжалостная, как разъяренная тигрица, не думала спасать его. Острие кинжала приближалось к его голове. Минута была критической. Вдруг его враг поколебался.
– Кровь не должна коснуться ее, – сказал он глухо.
Это действительно был голос Квазимодо.
Сильная рука выволокла священника за ноги из комнаты. Там должен был он умереть. На его счастье, в это время взошла луна. Когда они очутились за дверью кельи, ее бледный луч упал на лицо священника. Квазимодо взглянул на него, задрожал, бросил его и попятился.
Цыганка, подошедшая к порогу своей кельи, увидела с удивлением, что роли переменились. Теперь священник грозил, Квазимодо умолял.
Священник, осыпавший его жестами гнева и упрека, властно приказал ему удалиться.
Глухой опустил голову, потом стал на колени перед дверью цыганки.
– Ваше преподобие, – сказал он покорным, но торжественным голосом, – вы сделаете все, что вам будет угодно, но прежде убейте меня.
Говоря это, он подал священнику свой нож. Взбешенный священник хотел схватить нож, но молодая девушка оказалась проворнее. Она вырвала нож из рук Квазимодо и злобно расхохоталась.
– Подойди! – сказала она священнику.
Она подняла нож. Священник остановился. Без всякого сомнения, она ударила бы его.
– Ты не смеешь подойти, трус! – закричала она. Потом прибавила безжалостно, так как знала, что это каленым железом пронзит сердце священника: – Я знаю, что Феб жив!
Священник отшвырнул Квазимодо ногой и, дрожа от бешенства, скрылся на лестнице.
Когда он ушел, Квазимодо поднял свисток, который спас цыганку, и подал его ей, говоря:
– А то он было совсем заржавел!..
С этими словами он оставил ее одну. Молодая девушка, измученная этой бурной сценой, упала в изнеможении на свою постель и разразилась рыданиями. Ее горизонт снова затягивался тучами.
Священник ощупью вернулся в свою келью. Свершилось: Клод ревновал цыганку к Квазимодо. Он задумчиво повторял роковые слова:
– Она не достанется никому.
Книга десятая
I. У Гренгуара на Бернардинской улице появляется несколько блестящих идейС тех пор как Гренгуар увидал, какой оборот принимает дело, и понял, что оно, наверное, для главных действующих лиц комедии кончится веревкой, виселицей и другими неприятностями, он уже старался не вмешиваться. Бродяги, с которыми он продолжал жить, рассуждая, что в конце концов это все же лучшие люди в Париже, не переставали интересоваться цыганкой. Он находил это очень естественным со стороны людей, у которых, как у нее, не было впереди ничего, кроме господ Шармолю и Тортерю, и которые не летали подобно ему в фантастических сферах на крыльях Пегаса. Из их разговоров Гренгуар узнал, что его супруга, обвенчанная с ним разбитой кружкой, нашла себе приют в соборе Богоматери, и был этому очень рад, но у него даже не явилось искушения разыскать ее. Изредка он вспоминал о козочке – вот и все. Днем он давал атлетические представления, которыми кормился, а ночью корпел над обличительной статьей против епископа Парижского, так как не мог забыть, что однажды был обрызган колесами его мельниц, и затаил против него месть. Кроме того, он был занят составлением комментариев к прекрасному сочинению Бодри ле Ружа, епископа Нойонского и Турнейского, «De cupa Petrarum»[130]130
«О тесании камней» (лат.).
[Закрыть], вследствие чего он сильно заинтересовался архитектурой, и это искусство вытеснило из его сердца страсть к герметике. Впрочем, одно увлечение проистекало из другого, так как между герметикой и зодчеством существует тесная связь. Гренгуар перешел от своего увлечения идеей к увлечению формой этой идеи.
Однажды он остановился близ церкви Святого Германа Оксерского, на углу здания, называемого Фор л’Эвек и находившегося напротив другого, по имени Фор ле Руа. Около этого Фор л’Эвек была прелестная часовня четырнадцатого столетия, фасад которой выходил на улицу. Гренгуар благоговейно рассматривал внешние украшения часовни. На него нашла одна из тех минут эгоистического, всепоглощающего высшего наслаждения, когда художник видит во всем мире одно только искусство и весь мир только в одном искусстве. Вдруг он почувствовал, что на его плечо опустилась чья-то тяжелая рука. Он обернулся. Это был его бывший друг, бывший наставник – господин архидьякон.
Гренгуар был поражен. Он уже давно не встречался с архидьяконом, а Клод принадлежал к числу тех величавых и страстных личностей, встреча с которыми всегда нарушает равновесие в душе философа-скептика.
Архидьякон несколько минут хранил молчание, и Гренгуар за это время успел его рассмотреть. Он нашел, что dom Клод сильно изменился. Тот был бледен, как зимнее утро; глаза у него впали, и волосы почти совсем поседели. Священник первый прервал молчание, говоря спокойным, но ледяным тоном:
– Как поживаете, мэтр Пьер?
– Как поживаю? – переспросил Гренгуар. – Да так себе. Но вообще еще ничего. Я очень умерен. Вам ведь известен гиппократовский секрет вечного здоровья? Id est: cibi, potus, somni, venus – omnia moderata sint[131]131
Он таков: в пище, в питье, во сне, в любви – во всем воздержание (лат.).
[Закрыть].
– Значит, у вас нет никакой заботы, мэтр Пьер? – спросил архидьякон, пристально смотря на Гренгуара.
– И то правда – нет.
– А что вы теперь делаете?
– Видите, учитель, рассматриваю, как обтесаны эти камни и изваяны эти барельефы.
Священник улыбнулся той горькой улыбкой, которая только приподнимает один из углов рта.
– И это вас занимает?
– Это для меня рай, – отвечал Гренгуар и, нагнувшись над изваяниями, с восхищенным видом человека, демонстрирующего живых феноменов, продолжал: – Разве вы не находите, например, что изгибы этого барельефа исполнены с чрезвычайным искусством, тщательностью и терпением? Взгляните на эту колонну. Где вы видали капитель, обвитую листьями, более нежными и тоньше изваянными? Вот три фрески Жана Мальевена. Это еще не самое совершенное произведение его великого гения. Тем не менее наивность, мягкость выражения лиц, красота поз и складок одежды и какая-то неизъяснимая прелесть примешиваются даже к самым недостаткам, придают фигурам необыкновенно приятный и изящный, может быть, даже слишком изящный характер. Вы не находите это очень интересным?
– Нет, отчего же? – заметил священник.
– А если бы вы видели внутренность часовни! – продолжал поэт, окончательно разболтавшись. – Всюду изваяния! Густо, как капустный кочан! Особенно хоры выдержаны в таком строго религиозном и оригинальном стиле, какого мне нигде не приходилось видеть!
Клод прервал его:
– Стало быть, вы счастливы?
Гренгуар отвечал с увлечением:
– Честное слово, да! Сначала я любил женщин, потом животных. Теперь я люблю камни. Они не менее интересны, чем женщины и звери, но далеко не так коварны.
Священник поднес руку ко лбу. Это был его привычный жест.
– Правда?
– Убедитесь сами, какое это удовольствие!
Он взял священника за руку и повел его под свод башенок, откуда начиналась лестница Фор л’Эвека.
– Вот лестница! Каждый раз, как я вижу ее, я бываю счастлив. Это одно из самых простых и вместе с тем редких сооружений Парижа. Все ступеньки скошены книзу. Ее красота и простота заключаются в красоте именно этих ступеней, имеющих в ширину около фута, они сплетаются, набегают одна на другую, вделаны одна в другую, как бы впиваются друг в друга, твердо и вместе с тем изящно.
– И вы ничего не желаете?
– Ничего.
– И ни о чем не жалеете?
– У меня нет ни желаний, ни сожалений. Я наладил свою жизнь.
– Что люди устраивают, то обстоятельства расстраивают, – сказал Клод.
– Я философ школы Пиррона и стараюсь во всем сохранять равновесие, – отвечал Гренгуар.
– А чем же вы живете?
– Пописываю кое-какие эпопеи и трагедии. Но больше всего мне приносит мое ремесло, которое вам известно, учитель, – умение носить пирамиды из стульев в зубах.
– Грубое ремесло для философа.
– Оно тоже требует равновесия, – сказал Гренгуар. – Когда человека занимает одна мысль, он находит ей применение повсюду.
– Знаю, – отвечал архидьякон. Помолчав, священник продолжал: – Однако у вас довольно жалкий вид.
– Жалкий, да; но не несчастный.
В эту минуту послышался стук лошадиных копыт, и собеседники увидали, что на улицу въезжает рота стрелков королевского конвоя с поднятыми вверх пиками, с офицером во главе. Кавалькада имела блестящий вид, и звон копыт гулко отдавался по мостовой.
– Что это вы так смотрите на этого офицера? – сказал Гренгуар архидьякону.
– Мне кажется, я его узнаю.
– Как его зовут?
– Мне думается, это Феб де Шатопер, – отвечал Клод.
– Феб! Редкостное имя! Есть еще один Феб – граф де Фуа. Я знал одну девушку, у которой имя Феб не сходило с языка.
– Пойдемте со мной, – сказал священник. – Мне надо кое-что вам сказать.
Со времени появления отряда сквозь холодную наружность архидьякона стало пробиваться какое-то волнение. Он пошел. Гренгуар последовал за ним по привычке повиноваться ему, как все, кому случалось приближаться к этому человеку, обладавшему удивительным влиянием на людей. Они молча дошли до Бернардинской улицы, довольно пустынной. Клод остановился.
– Учитель, что вы хотите мне сказать? – спросил Гренгуар.
– Не находите ли вы, что мундиры этих всадников, которых мы только что видели, куда красивее моей рясы или вашего одеяния? – сказал архидьякон с видом глубокого размышления.
Гренгуар покачал отрицательно головой:
– Мне куда больше нравится мой красно-желтый казакин, чем их железная и стальная броня. Удивительное удовольствие производить на ходу такой шум, как чугунная набережная при землетрясении!
– И вы никогда, Гренгуар, не завидовали этим красавцам в военных доспехах?
– Чему же завидовать, отец архидьякон? Их силе, вооружению, их дисциплине? Философия и независимость в лохмотьях стóят дороже. Я предпочитаю быть головкой мухи, чем хвостом льва.
– Удивительно! – задумчиво проговорил священник. – А все же мундир очень красивая вещь.
Гренгуар, видя, что он задумался, отошел, чтобы полюбоваться фасадом соседнего дома. Он вернулся, хлопая в ладоши.
– Если бы вы не были так заняты красивыми мундирами военных, отец архидьякон, я попросил бы вас взглянуть на эту дверь. Я всегда говорил, что дверь дома сеньора Обри самая красивая в мире.
– Пьер Гренгуар, – спросил архидьякон, – куда вы девали ту маленькую плясунью-цыганку?
– Эсмеральду? Какой резкий переход в разговоре!
– Она, кажется, была вашей женой?
– Да, нас повенчали разбитой кружкой. На четыре года. Кстати, – прибавил Гренгуар, смотря на архидьякона не без лукавства, – вы ее еще не забыли?
– А вы – неужели забыли?
– Почти… У меня столько дела… Боже мой, что за прелесть была ее козочка!
– Ведь цыганка, кажется, спасла вам жизнь?
– Черт возьми, это правда!
– Ну, так что же сталось с нею? Что вы с ней сделали?
– Не могу вам сказать. Ее, кажется, повесили.
– Вы думаете?
– Я не вполне уверен в этом. Когда я увидал, что дело пахнет виселицей, я поспешил убраться.
– Это все, что вы знаете?
– Постойте! Мне говорили, что она нашла убежище в соборе Богоматери, что там она в безопасности. Я очень рад этому, не знаю только, спаслась ли козочка вместе с ней? Вот и все, что я знаю.
– Я скажу вам больше, – закричал dom Клод, и голос его, до тех пор тихий, медленный и почти глухой, загремел как гром. – Она действительно нашла убежище в соборе. Но через три дня правосудие снова овладеет ею, и ее повесят на Гревской площади. Это уже постановлено парламентом.
– Это досадно, – заметил Гренгуар.
К священнику в одно мгновение вернулось его ледяное спокойствие.
– Какому дьяволу понадобилось добиваться вторичного ее ареста? – спросил поэт. – Неужели нельзя было оставить парламент в покое? Кому убыток от того, что бедная девушка скрывается под стрельчатыми сводами собора, там, где ласточки вьют себе гнезда?
– Есть на свете такие демоны, – отвечал архидьякон.
– Все это чертовски досадно, – заметил Гренгуар.
Архидьякон помолчал и затем снова спросил:
– Итак, она спасла вам жизнь?
– Да, у моих друзей, бродяг… Я уже почти болтался на виселице. Пожалели бы теперь!
– Вы не желаете сделать что-нибудь для нее?
– Очень бы желал, господин Клод, только боюсь, не нажить бы себе хлопот.
– Подумаешь!
– Да! Подумаешь! Вам-то хорошо, учитель! Ну а у меня начаты две большие работы.
Священник ударил себя по лбу. Несмотря на все его старания казаться спокойным, по временам резкий жест выдавал его душевные муки.
– Как ее спасти?
Гренгуар сказал ему:
– Я вам отвечу, наставник: «Il padelt», что значит по-турецки: «Бог наша надежда».
– Как спасти ее? – задумчиво повторил Клод.
Гренгуар в свою очередь ударил себя по лбу:
– Послушайте, у меня бывают минуты вдохновения. Я найду способ. Не попросить ли помилования у короля?
– Помилования – у Людовика Одиннадцатого?
– Отчего же нет?
– Отнимите кость у тигра!
Гренгуар начал придумывать другой исход.
– Ну, вот, слушайте! Хотите, я обращусь к повивальным бабкам с заявлением, что эта девушка беременна?
Впавшие глаза священника сверкнули:
– Беременна! Дурак! Разве ты имеешь основания утверждать это?
Вид его испугал Гренгуара. Он поспешил сказать:
– Я не имею никакого основания. Наш брак был настоящим forismaritagium[132]132
Фиктивный брак (лат.).
[Закрыть]. Я тут ни при чем. Но таким образом можно добиться отсрочки.
– Безумство! Позор! Замолчи!
– Напрасно вы сердитесь, – пробормотал Гренгуар. – Отсрочка никому бы не принесла вреда, а повивальные бабки – бедные женщины – заработали бы сорок парижских денье.
Священник не слушал его.
– Ее надо как-нибудь вывести оттуда! – говорил он. – Приговор должен быть приведен в исполнение через три дня. Но если б даже не было приговора… этот Квазимодо… У женщин такой извращенный вкус!.. – Он повысил голос: – Мэтр Пьер, я рассудил, что есть только одно средство спасти ее.
– Именно?.. Я его не вижу.
– Послушайте, мэтр Пьер, вспомните, что вы обязаны ей спасением жизни. Я вам изложу свой план. За церковью наблюдают день и ночь. Из нее выпускают только тех, кого видели входящими. Вы, стало быть, можете войти. Вы придете. Я проведу вас к ней. Вы поменяетесь с ней платьем. Она наденет ваш казакин, вы – ее юбку.
– До сих пор все идет отлично, – заметил философ. – А дальше?
– Дальше? Она уйдет в вашем платье; вы останетесь в ее. Вас, может быть, повесят, но она будет спасена.
Гренгуар почесал у себя за ухом с очень серьезным видом.
– Да, вот мысль, которая ни за что не пришла бы мне в голову самому.
При неожиданном предложении Клода открытое, добродушное лицо поэта омрачилось, как веселый итальянский пейзаж, когда принесенное порывом ветра облако закрывает собою солнце.
– Ну, что же вы скажете о моем плане, Гренгуар?
– Я скажу, что меня повесят не «может быть», а наверное.
– Это уж вас не касается.
– Черт возьми! – воскликнул Гренгуар.
– Она спасла вам жизнь. Вы только уплатите ей свой долг.
– Есть за мной и другие долги, которых я не плачу.
– Мэтр Пьер, это необходимо.
Архидьякон говорил повелительным тоном.
– Послушайте, dom Клод, – отвечал совершенно сбитый с толку Гренгуар. – Вы настаиваете на выполнении вашего плана, и совершенно напрасно. Я не вижу причины, почему мне идти на виселицу за кого-нибудь другого.
– Что же вас так привязывает к жизни?
– Тысяча причин.
– Какие, например?
– Какие? Воздух, солнце, утро, вечер, лунный свет, мои друзья-бродяги, покойники, чудные произведения парижского зодчества, которые я изучаю, три толстые книги, которые я намереваюсь написать, между прочим, одну против епископа и его мельниц. Да мало ли еще что!.. Анаксагор говорил, что он живет для того, чтобы любоваться солнцем. Кроме того, я имею счастье проводить все дни с утра до вечера с гением, то есть с самим собой, что весьма приятно.
– Пустозвон! – пробормотал архидьякон. – Ну а кто сохранил тебе жизнь, которую ты находишь такой приятной? Кому ты обязан тем, что дышишь этим воздухом, что видишь небо и что твой птичий ум еще тешится пустяками и глупостями? Без этой девушки где бы ты был? И ты, обязанный ей своей жизнью, хочешь, чтобы она умерла? Ты хочешь смерти этого прелестного, кроткого, очаровательного создания, без которого, кажется, и свет померкнет, более божественного, чем сам Бог. А ты, полусумасшедший, пустой набросок чего-то, какое-то растение, воображающее, что оно думает и движется, ты будешь пользоваться жизнью, которую украл у нее, которая так же бесполезна, как свеча в яркий полдень! Пожалей ее, Гренгуар! Будь теперь ты великодушен! Она показала тебе пример.
Священник говорил пылко. Гренгуар слушал его сначала равнодушно, затем растрогался, и наконец, на лице его появилась трагическая гримаса, сделавшая его похожим на новорожденного, у которого резь в желудке.
– Как вы увлекательно говорите! – сказал он, отирая слезу. – Ну, хорошо; я подумаю… Оригинальная вам пришла мысль… В конце концов, – продолжал он, помолчав, – кто знает? Может случиться, что меня и не повесят. Ведь не всегда женится тот, кто посватался. Найдя меня в келье в таком смешном наряде – юбке и чепце, – они, может быть, только расхохочутся… Ну а если даже и повесят? Разве смерть от веревки не такая же смерть, как всякая другая, или, лучше сказать, не похожа на всякую другую? Смерть на виселице – смерть, достойная мудреца, который колебался всю свою жизнь. Эта смерть – ни рыба ни мясо, как ум истинного скептика, смерть, носящая отпечаток пирронизма и нерешительности, смерть между небом и землей, парящая в воздухе. Это смерть, приличная философу, и мне она, может быть, предопределена. Великолепно умереть так, как жил.
Священник прервал его:
– Значит, решено?
– Что такое смерть, в конце концов? – продолжал Гренгуар с увлечением. – Одно неприятное мгновение, необходимая дань, переход от ничтожества к небытию. Когда кто-то спросил философа Церцидаса, охотно ли бы он умер, тот ответил: «Отчего и не умереть, раз я в загробной жизни увижу великих людей – Пифагора среди философов, Гекатея среди историков, Гомера среди поэтов, Олимпия среди музыкантов?»
Архидьякон протянул ему руку:
– Итак, решено? Вы придете завтра.
Этот жест возвратил Гренгуара к действительности.
– Ах нет, – ответил он тоном человека, только что проснувшегося. – Быть повешенным! Это ни с чем не сообразно! Я не хочу.
– В таком случае прощайте! – И архидьякон прибавил сквозь зубы: – Я доберусь до тебя!
«Не хочу я, чтобы этот человек добрался до меня», – подумал Гренгуар и побежал за Клодом.
– Стойте! Отец архидьякон! Зачем ссориться старым друзьям? Вы принимаете участие в этой девушке, то есть в моей жене, – хорошо! Вы придумали план, чтобы вывести ее невредимой из собора, но предлагаете средство, весьма неприятное для меня, Гренгуара. А что, если я вам предложу свой план?.. Предупреждаю вас, что у меня сию минуту мелькнула блестящая мысль. Что вы скажете, если я придумал средство вывести ее из затруднительного положения, не подвергая своей шеи опасности свести знакомство с петлей? Что вы на это скажете? Ведь вы этим удовлетворитесь? Разве для вашего удовольствия необходимо, чтоб меня повесили?
Священник с нетерпением рвал пуговицы своей сутаны.
– Вот болтун!.. Говори, что ты такое придумал!
– Да, – продолжал Гренгуар, разговаривая сам с собой и поднося указательный палец к носу в знак размышления, – так! Бродяги – славные ребята… Цыгане любят ее… Они пойдут по первому зову… Нет ничего легче… Одним ударом. В сумятице ее легко будет похитить… Хоть завтра вечером… Они будут очень рады.
– Говори же, что ты придумал? – настаивал священник, тряся его.
Гренгуар величественно повернулся к нему.
– Оставьте! Видите, я сочиняю. – Он подумал еще несколько секунд, затем зааплодировал своей мысли, крича: – Великолепно! Успех верный!
– Говори же! – гневно закричал Клод.
Гренгуар сиял.
– Идите сюда, я буду говорить шепотом. Презабавная выдумка, которая всех нас выведет из затруднения. Черт возьми! Надо согласиться, что я не дурак.
Он сам прервал себя:
– Да! А козочка с нею вместе?
– Да! Черт тебя побери!
– Ведь и ее они бы повесили?
– А мне какое дело?
– Да, наверное, повесили бы. Вот в прошедшем месяце повесили же свинью! Палачу это выгодно. Он съедает потом мясо. Повесить мою прелестную Джали? Бедную маленькую козочку!
– Проклятие! – вскричал Клод. – Ты сам палач! Ну, что же ты придумал, чудак? Надо, что ли, вытаскивать из тебя мысль щипцами?
– Тише, учитель, слушайте!
Гренгуар наклонился к уху архидьякона и стал говорить шепотом, бросая тревожные взгляды вдоль улицы, где, впрочем, в это время не видно было ни души. Когда он кончил, Клод пожал ему руку, сказав холодно:
– Хорошо… До завтра.
– До завтра, – повторил Гренгуар.
И когда архидьякон направился в одну сторону, Гренгуар пошел в другую, бормоча вполголоса:
– Важно ты это придумал, мэтр Гренгуар. Что же такое! Из того, что ты маленький человечек, еще не следует, что ты станешь бояться большого дела. Битон носил большого быка на плечах; вертихвостки, малиновки и каменки перелетают через океан.