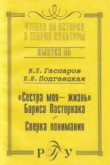Текст книги "Тщета: Собрание стихотворений"
Автор книги: Вера Меркурьева
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
«Ну, стихов, разумеется, не писала – впору с чужими управиться, не до своих. А хотелось временами» (М. Слободскому, 10 октября 1935). Когда кончаются переводы из Шелли, подступает нищета, но подступают, пусть редко, и стихи. Почти все – к друзьям, больше всего – Кочеткову с женой, которые бережно заботятся о больной Меркурьевой, она почти чувствует себя членом их семьи. Им еще нет сорока, их молодость побуждает в Меркурьевой чувства собственной молодости («я всю жизнь входила в других людей…»). Такое пробуждение проходит через цикл «Под снегом» <…>. О том же самом – о «жизни и других» – надпись Кочеткову на книге Шелли; заглавие «Иные» <…>. О том же – о тех, «кто любит другого» – стихотворение на пороге неведомого 1941 года. «Учуять ветр с цветущих берегов» – цитата из Фета, которого в эти годы особенно любил Кочетков. Напряженнее стал стих, прерывистее синтаксис, перехватывающий фразу на переломах от строки к строке: здоровье становится слабее, голос сильнее. Заглавие – «Пришелец» <…>.
У Кочеткова был любимый жанр: драматические сцены в стихах. В 1939 его драма «Коперник» была поставлена на сцене. Может быть, это подтолкнуло Мерурьеву к единственной в ее жизни попытке большой стихотворной формы: весной 1941 она пишет пьесу-сказку «Двенадцать месяцев» (таким же угловатым стихом, звучащим то прозаизированно, то напряженно-энергично). На фоне скажи про падчерицу в лесу («русский стиль» вновь оживает у Меркурьевой) в пьесе чередуются сцены с бабушкой и внуками-пионерами, с приемной девочкой, которую приводит в семью отец-летчик, с разговорами между отцом и матерью – о том, что нет чужого, все друг другу родные, вплоть до каштановых листьев, и правда мужская и женская сливаются в правде человеческой. Потом, уже в эвакуации, она признается (К. Архипповой, 23 февраля 1942): «Я год назад написала пьесу – полусказку, полу современную быль. Никому, кроме Кочетковых, ее не показала, а в ней 2 тысячи строк. Евгению она бы не понравилась, а я в нее влила и сводку своих 65 лет, и пристрастие к русской песне, и сказочно-колдовское ремесло, и попытку новаторства в стихе, и тягу мою к новой жизни. <…> Нет у меня охоты показывать кому бы то ни было: всё кажется – уже устарело, уже никому не нужно. Я ведь очень к себе недоверчива, Вы знаете. Странно это: ничего во мне здорового нет, я вся развалилась, а вот “песен дивный дар” не умер, как-то по временам оживает».
Оживала в дружеском кругу и веселость. В 1936 летом, проездом в Старки заехала Клавдия Архипова – сразу захотелось позвать из Владикавказа и Евгения; Меркурьева и Кочетков посылают ему «Теле-сонет»:
Зовем Старки благословенья Клоди.
Река, погосты, средне-русский вид.
Шервинских Дина Атова гостит.
Читаем Фауст новом переводе…
Десятидневку вырвитесь свободе.
Зухирамур сестра посторожит.
Подобный поэтический магнит
Большая редкость северной природе.
Ответьте телеграфом кратко: да.
Потом подробней встретим вас вокзале.
Ждем (восклицательный). Всё ерунда.
Искусство вечно (точка). Так сказали:
Меркурьева (тире) душа Старков.
Архиппова. Шервинский. Кочетков.
15 июля 1936, Старки
«Зухирамур» – это сокращение кличек архипповских кошек (которых Меркурьева не раз нежно поминала в письмах); «Фауст в новом переводе» – недоизданный перевод Брюсова, который в свое время редактировал Шервинский. Главной приманкой была «Анна Атова» – об этом «лете с Ахматовой» написал потом Шервинский в своих воспоминаниях (От знакомства к родству. Ереван, 1986. С. 244-261). Именно тогда Ахматова зашла в избу к Меркурьевой и Кочетковым, и Меркурьева искренне убивалась, что нет ничего красного – подстелить под ноги такой гостье. Лев Горнуш; друг Шервинского, фотографировал Ахматову (сфотографировал потом, в Москве, и Меркурьеву – за столом, перед догорающей свечой). Ахматова подарила Меркурьевой свою фотографию с надписью: «Чудесной и мудрой Вере Александровне Меркурьевой в знак благодарности. 22 июня 1936. Ахматова. “Старки”». («Чудесной и мудрой» – Ахматова не бросалась зря такими словами.) Потом Меркурьева писала Архилпову: «Жизнь не полна у тех, кто не видел ее в лицо. <…> ни с кем, ни к кому у меня не было того, что к ней: полное признание, полное отречение от себя, – нет меня, есть только она. Встреться мы 20 лет назад – была бы, вероятно, “дружба до гроба”, – а сейчас – мое преклонение и ее отклонение. Так и должно быть, несбыточного не бывает» (3 октября 1936). Это была третья встреча ее с Ахматовой. Первая, осенью 1933, была без слов: Меркурьева зашла к Мандельштамам, их не было дома, дверь отворила неожиданно приехавшая Ахматова – «и ослепила». «Я смотрела на нее и молчала <…> она тоже. <…> …я стала уходить не прощаясь, молча – онемела, она закрыла за мной дверь со словами: “До свиданья”. Вот всё» (К. Архипповой, 16 ноября 1933). Потом «видела Анну Ахматову, слышала ее, читала ей» уже в феврале 1934 (К. Архипповой, 28 февраля). Потом пошли стихи: «Из тусклой створки голос пел протяжный…», «За то, что в ней».
И все-таки вспомним: на вопрос анкеты Е. Архиппова «Кто Вам ближе: А. Ахматова или Марина?» – Меркурьева написала: «Боюсь – вторая». Чуткий читатель сам расслышит цветаевские интонации в меркурьевском «Как все», сходство между «Пробоиной» и «Лебединым станом», стихами к В. Иванову и стихами к Блоку, между, наконец, стихами к Ахматовой и у той и у другой. Волошин, как известно, говорил молодой Цветаевой, что ее хватило бы на несколько поэтов; одним из этих поэтов могла бы быть Меркурьева. Сделаем опыт по психологической арифметике: вычтем из стихов Цветаевой самое броское – ее пафос самоутверждения, представим себе, что самое программное для нее стихотворение – «Пройти, чтоб не оставить следа, / Пройти, чтоб не оставить тени…» – и в остатке такого психологического вычитания получится Вера Меркурьева.
С Цветаевой Меркурьева была отдаленно знакома еще по Москве через Иванова или через Эренбурга. Когда в 1939 Цветаева вернулась в Россию, одинокая и бездомная, то Меркурьева написала ей; Цветаева откликнулась (20 февраля 1940): «Я помню – это было в 1918 г., весной, мы с вами ранним рассветом возвращались из поздних гостей. И стихи Ваши помню – не строками, а интонацией, – мне кажется, вроде заклинаний? Эренбург мне говорил, что Вы – ведьма и что он, конечно, мог бы Вас любить. …Мы всестарые – потому что мы раньше родились! – и все-таки мы, в беседе с молодыми, моложе их, – какой-то неистребимой молодостью! – потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней – оборвался». Это первое из трех сохранившихся цветаевских писем к Меркурьевой, а в третьем (31 августа 1940) Цветаева пишет: «Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. <…> …Москва меня не вмещает. Мне некого винить. И себя не виню, потому что это была моя судьба. Только – чем кончится?? <…> … меня– всё меньше и меньше <…> Остается только мое основное нет». Меркурьева с Кочетковым откликаются на это самым человеческим образом: приглашают Цветаеву с сыном на лето 1941 к себе в Старки. В 10-х числах июня они списываются, а 22-го начинается война. «Она прожила у нас в Старках перед отъездом 2 недели и была такая сама не своя, что чувствовалось что-то недоброе», – писала потом Меркурьева уже из эвакуации (К. Архипповой, 23 февраля 1942).
Местом эвакуации был Ташкент, ехали туда 24 дня, Меркурьева – с воспалением легких. В Ташкенте – голод, холод, темнота, теснота, нервы, ссоры, письма в Москву, каких было так много в войну: «помогите, вы ведь можете что-нибудь сделать!» Жили втроем с Кочетковыми, Александром Сергеевичем и Инной Григорьевной.«…на цены рынка нет подъемности, получки за работу у Ал. С. затяжные и неравномерные, живем тем, что снимаем с себя и продаем, и этого хватает на черный хлеб по карточкам, кипяток, часто без молока, и капусту с редькой <…> Конечно, жаловаться дико – во время войны должны все иметь свою долю тяжести, несправедливо было бы укрыться за фронтом и жить припеваючи. Это нормально и правильно, что пока нет покоя там, не должно быть его и здесь. Но мне просто трудно выносить то, что могут другие, так что я не думаю, чтобы могла выжить и дождаться хорошего» (К. Архипповой, 23 февраля 1942). «Ал. Серг. мрачен и патологически раздражителен, Инна Гр. измотана непосильной физической работой. Я – в каком-то полусознательном состоянии от удушья (тяжелая астма, скорей грудная жаба), истощения и, главное, беспросветности. Живое одно – газеты, начинаешь дышать, читая, как вытесняют немцев и с ними ту тяжесть, тот гнет, что 7 месяцев навис над нами. <…> до благополучного конца этой войны я не доживу – силы мои убывают с каждым днем. Но за других я рада, кому доведется участвовать в подъеме всех сил жизни после победы. Это будет небывалый расцвет страны и личности» (Е. Шервинский, 1 марта 1942). Через пять месяцев: «… сама не знаю, как вынесла жару, верно, судьба еще бережет меня для новых ударов. <…> Продано всёвозможное и даже невозможное. <…> совместная жизнь делается пыткой. <…> Выход один – мне уехать в Москву <…> Неужели же я лучшего не заслужила? Я много страдала, добро – делала, зла – никому, работала как могла, всю жизнь до 66 лет. За всё прошу одного: кончить жизнь в своем углу <…> Знаю, сейчас не время для личного устройства, вся страна в огне. Но мы же часть страны, спасая себя, мы для нее сможем жить. Я вот сейчас начала цикл стихов о войне – и не могу писать в моих условиях, а у себя в Москве – чувствую – могла бы» (ей же, 9 августа 1942).
Цикл стихов о войне она дописала – это венок сонетов «На подступах к Москве», последняя ее вещь. Трудно представить, что это написано женщиной на пороге смерти. <…>
Перед смертью, говорят, в сознании человека проносится вся его жизнь. Как представлялась она в эти месяцы Вере Меркурьевой, мы знаем из неожиданного источника – из ее письма она даже не была знакома, – к другому ташкентскому постояльцу, Корнею Чуковскому (8 декабря 1942). «Протаясь всю долгую жизнь, почему приоткрываюсь к концу? Именно потому – под конец. <…> …Вы понятливый, и Вы насмешливый и нежный – редкая, мною особо любимая смесь». В письме – шесть «картинок», по ее выражению:
I. 1916 г., январь. Белый домик с колоннами балкона, из окна – снежные горы, Казбек. Нетопленая комната, мебель 60-х годов. С книжкой и папиросой 4-я сестра Чеховских Трех сестер. 40 лет, «некрасива, но интересна», плохо слышит, дико застенчива. Дочь гражданского чиновника, не из крупных, мать – крестьянка. Образование – 8 классов женской гимназии, английский и французский языки, запойное чтение – Таухниц вперемежку с Владимиром Соловьевым. Окружение – офицеры пехотинцы, студенты медики. Стихи читает страстно, своих не пишет, кроме шуточных и на случай. Веселая, грустит для порядка. «В Москву, в Москву» наезжает изредка.
На западе догорает империалистическая бойня. Андрея Белого «Петербург».
II. 1917 г., декабрь. Кабинет Вячеслава Иванова на Зубовском бульваре. 4-я сестра с тощей тетрадкой – уже своих – стихов. Признана, увенчана. Все поэты и философы Москвы и Петрограда – пэресса среди пэров. Выступает на вечерах меценатов, печатается в Салоне поэтов, газетках и журнальцах, о ней пишет Эренбург, ее пародируют в «Кафе поэтов».
(1918 г.) Гражданская война. Голод и холод.
«Двенадцать» Блока, «Зимние сонеты» Вяч. Иванова, громит Маяковский. Своя книга «Тщета».
Первый день Пасхи в ее комнате на Староконюшенном переулке, пришли поздравить А. Толстой, И. Эренбург, М. Цейтлин, Вячеслав Иванов, входит его красивая жена: «да у вас салон поэтов». Переводы для Госиздата – Жорес и др. В 20-м году отъезд «домой».
III. 1932 г., октябрь. Тот же белоколонный дом перед горами. Миновали 10 лет уюта, покоя, восстановившегося здоровья, доверия к жизни. Книга: «Дикий колос». Рухнуло всё. Отъезд окончательный в Москву. Судорожные поиски работы.
IV. 1935 г., октябрь. Хатка на Кубани. Улицы, поросшие травой. Диккенсовские старички-хозяева – брат с женой. Перевод Шелли – первый в жизни перевод стихов (не считая микроскопических), без консультантов, без редакторов, без пособий – единственное – толковый словарь Annandale. За год – 6000 строк (изуродована Шенгели 1-я половина книги, кончая Элладой).
V. 1940 г., август. Подмосковная дача. Река – большая, широкая, гудки пароходов, равнина, окаймленная лесами.
«Двенадцать месяцев» – сказка для сцены. Закончен «Дикий колос».
VI. 1942 г., октябрь. Ташкент. Койка, на ней – развалина, «тень своей тени», 66 лет, все болезни, лютый холод временами, всегда впроголодь, беспомощность, безвыходность, близкая неминучая смерть. Оглядывает «свой дивный горький век». И – воля к жизни, жажда преодолеть, «подняться над».
Венок сонетов «На подступах к Москве».
Встреча с Чуковским не состоялась, помочь ей он не мог, только ответил ей отчаянным письмом, она ему – таким же: «… если Вы не увидели моей катастрофы, значит, Вам дела нет до меня. А почему ему быть-то? <…> Никогда никого не молила, Вас умоляю и верю, дойдет до Вас мольба…». Письмо помечено 30 января 1943: жить ей оставалось меньше месяца.
В Ташкенте были последние встречи Меркурьевой с Ахматовой. «Приходит иногда к нам, внося с собою, нет – собою “ветр с цветущих берегов”, читала стихи новые, до меня долетавшие чудесными звуками (Е. Шервинской, 1 марта 1942). «Была недолго, как всегда, ушла, накинув на голову черное кружево. Оставила, как всегда, черту невероятного, неправдоподобного – единственно реального. Моя ташкентская мука оправдана ею. А жить трудно, не жить легче. <…> от кровати до стола еле додвигаюсь. <…> Вообще, последняя глава книги о Вере Меркурьевой – лучше Вам ее не писать: сварливая, поедом едящая всех Яга, сгорбленная, вся в морщинах, уродливая калека – и злая» (Е. Архиппову, 4-5 апреля 1942). Это не рисовка: Е. Юрченко, ее младшая подруга еще по Владикавказу, эвакуированная со своим институтом в тот же Ташкент, пишет тому же Архиппову: «Последние полгода она бродила по всему двору в поисках папирос, кофе и т. п., т. к. никогда не хотела считаться с тем, что есть, чего нет и что может быть. А между тем Вы отлично знаете, что Кочи никогда ей ни в чем не отказывали. <…> Последнее время В.А. очень досадовала на отсутствие света, т. к. мы жили целый месяц при фитильках <…> И в таких случаях она всегда обвиняла нас всех в этом и сердилась на всех. <…> …невероятно ссорилась с А.С. и за последнее время совсем постарела <…> может, и лучше, что она теперь успокоилась ». Успокоилась: Вера Меркурьева умерла 20 февраля 1943, подруга пишет об этом два дня спустя. «У нее было воспаление легких, и за 2 дня до смерти она потеряла сознание. Звала Машу, но называла ее Маня». Здесь, в Ташкенте, за 15 лет до того умерла в ссылке Е. Васильева – Черубина де Габриак – которой так нравились стихи Меркурьевой. «21-го ее похоронили на одном кладбище с Черубиной и, по-моему, недалеко от Черубины, тоже над городом. Там чудесный вид на горы, целую цепь гор. Был ясный солнечный день, и горы были как на ладони». Ни могила Черубины, ни могила Веры Меркурьевой не найдены.
ВЕРА МЕРКУРЬЕВА: ТЕХНИКА СТИЛИЗАЦИИ
<…> Зима 1917-1918 г., одухотворенная встречами с Вячеславом Ивановым, была самым плодотворным временем в творчестве Меркурьевой: стихи писались почти ежедневно. Можно думать, что толчок к написанию цикла «С чужого голоса» был подан разговорами с Ивановым: вопрос «пол ли я, самостоятельна ли я» возникал в них и устно и письменно («Лица», с. 19). Тогда этот цикл является, так сказать, упражнением по выявлению индивидуальности поэта. Внешние, стиховые приметы индивидуальных стилей переданы легкоузнаваемо. «Романтика 30-х гг.»: вторая строфа – онегинская, первая – начинается и кончается как онегинская и выбивается из нее лишь в ст. 9-10. «По Вячеславу Иванову»: сонет (впрочем, с перекрестной рифмовкой в катренах, а не с более удобной охватной). «По Анне Ахматовой»: 3-стопный ямб подсказан такими стихами, как «И на ступеньки встретить…», «Ни в лодке, ни в телеге…». «По А. Блоку» – первое стихотворение имитирует «Стихи о Прекрасной Даме» с их запоминающимся дольником («Вхожу я в темные храмы…», перебой ритма в конце – как в «Осень поздняя. Небо открытое…»), второе – ямбы II—III тома. «По М. Кузмину» – образцом была секстина «Не верю солнцу, что идет к закату…» из «Осенних озер» (впрочем, порядок повторения строк у Меркурьевой не соблюден, и в коде собраны не 6, а лишь 3 ключевых слова). «По В. Брюсову» – терцины у него были (циклом) только в «Tertia vigilia». «По Игорю Северянину» – имитируется размер «Из лепестков цветущих розово-белых яблонь…» или «Я прикажу оркестру где-нибудь в людном месте…». «По В. Меркурьевой» – не очень характерный для нее размер, но характерные густые рифмы (в том числе неравносложные), особенно на цезуре.
Стилистические приметы еще менее подчеркнуты. В «Романтике» – архаизмы «огнь», «озлати», согласование «сквозь пелены»; контраст – обрат древоточца, для романтиков слишком низкий. В «Вячеславе Иванове» – «зане», «влеки», игра корнем слова «личина», два мифологических имени; контраст – прозаизм «пик» и низкий стиль «измокла» (подсказан пародической пушкинской одой Хвостову с рифмой «взмокла – Фемистокла»). В «Ахматовой» только «ах» усиливает романсную традицию выбранного размера. В первом стихотворении «Блока» поэтический язык ровный, во втором – с перебоями на неблоковских словах «черный трап» и «как-нибудь» (конечно, от пушкинского «плетется рысью как-нибудь»). В «Кузмине» индивидуальных языковых примет нет («остеклела», «таимы», «ответны» – это общесимволистский языковой стиль, а «казаться безучастну… бесчувственну…» архаизм, нехарактерный ни для кого в эпохе, кроме разве Вячеслава Иванова). В «Брюсове» индивидуальной может считаться гиперболическая напряженность и, может быть, обилие прилагательных («поэтом прилагательных» называл его К. Чуковский). В «Северянине», конечно, бросается в глаза накопление неологизмов (не менее шести) и повторов; кульминация с «иксом» и «принцем Air-fix'oM» (олицетворением оттепели) кажется чрезмерной даже для Северянина. За этим не замечаются более тонкие стилистические приемы («недавний принц»).
Заданная общая тема «Оттепель ночью» предполагает не действие, а описание, поэтому картина у всех статична: прилагательных больше, чем глаголов (только в «Романтике» и в «Блоке»-1 глаголов немного больше). В русской поэзии это редкость: даже в статичной лирике и поэме пушкинского времени число глаголов едва-едва сравнивалось с числом прилагательных. Больше всего перевес прилагательных над глаголами у «Вячеслава Иванова», «Блока»-2 и «В. Меркурьевой». Больше всего существительных снабжено прилагательными, как сказано, у «Брюсова» и еще у «Ахматовой».
В заданную общую тему входят существительные следующих семантических полей: небо и земля (всего 8 упоминаний), ночь и туман (7), луна (9), снег и лед (20), таянье (13), фонарь, извозчик, сани (15), разные (улицы, ворота, пешеход, пес… – 8). Из общего числа 315 существительных эти тематические составляют в среднем 25%. (Если исключить длинную и поэтому мало насыщенную темой секстину «Кузмина», то этот процент повысится до 29.) Все остальные существительные принадлежат другим темам, привлекаемым по сходству, смежности или контрасту. Выше всего процент общей темы у «Вячеслава Иванова» (86%) и «Северянина» (64%), ниже всего у «Кузмина» (13%) и «Брюсова» (29%).
И в общей теме и в индивидуальных темах присутствуют как слова с прямым значением, так и с переносным – в метафорах, метонимиях, сравнениях. Например, в «Романтике» лунаприсутствует реально, а кругметонимически (точнее, синекдохически: серебрится, конечно, сама луна, а не ее круг); небореально, а пеленаметафорически (по сходству); воспоминаниереально, а древоточец стен– лишь в сравнении. В среднем в общей теме две трети существительных употреблены в прямом значении, одна треть – в переносном. Выше всего процент переносно употребленных слов общей темы – у «Вячеслава Иванова» (63%) и «Северянина» (50%); именно за счет метафор и метонимий разбухает у них словарь общей темы (как мы видели, до 86% и 64%). Меньше всего процент переносно употребленных слов общей темы у «Ахматовой» (ни одного; пламя, вода, местои рольотносятся не к общей, а к вспомогательной теме), у «Кузмина» и «Блока»-1 (11%). Заметим, что не всегда можно однозначно сказать, реально или вспомогательно присутствует в стихотворении тот или иной образ: значит ли слова «Ахматовой» я…как иней, холодна, что «иней» присутствует не только в сознании говорящего, но и в его оттепельном окружении? следует ли представлять героя «Блока»-2 воином в латах и с факелом или только похожим на воина в латах и с факелом?
Таким образом, для развертывания общей темы есть две возможности: через умножение ее образов метафорами, метонимиями, сравнениями (так – у «Вячеслава Иванова» и «Северянина») и через дополнение ее образами вспомогательных, оттеняющих тем, индивидуальных для каждого поэта (так – у всех остальных).
У «Вячеслава Иванова» принцип подбора вспомогательных образов – «две стороны единой сути» – взят, конечно, из сонета «Любовь» («Мы – два грозой зажженные ствола…»), ставшего магистралом венка сонетов в «Cor ardens». В общей теме «его» сонета прямыми можно считать значения слов Селена, небес, душа миров, миры души, вода и снег по колено, возничий во сне, переносными – вериги плена, рог серпа, зерно и колос снопа, двойник – пик хребта вечности, личина, лик двуличий, и величий, на колеснице Патрокла над праматерью–Геей; во вспомогательной теме (душевная жизнь) прямые: воспоминанья упованьям смена, переносные: удар цепа. Украшенную таким образом тему можно сформулировать: «“Луна”, она же Душа миров, замкнулась от людской души, людская же душа без нее видит двойственным всё, что едино, даже самое себя».
У «Северянина» общей, светлой теме принадлежат прямые значения слов протень, проталь, темнеем, лунарь, сторож, дровни-автолети переносные – прорезь, хрусталины(метафоры), не икс, звездами на небо(сравнения), принц Эрфикс(олицетворение); вспомогательной, контрастной, темной теме – кошмар, нота, грязьи отвратительно-повторное время: вчера, сегодня(дважды), завтра, раз.
Игра вспомогательными темами проще всего представлена в первом, самом наглядном стихотворении «Романтика»: все 12 слов общей темы сосредоточены в первой строфе (все, кроме круга, в прямом значении), а во второй строфе последовательно сменяются три вспомогательные темы: «душа» (11 слов, в том числе древоточец стен– в переносном), «любовь» (7 слов, в том числе огнь в грудии крылья– в переносном), «путь» (4 слова). Последняя тема возвращает читателя к образу возницы в начальной теме.
У «Блока»-1 общая тема занимает 9 существительных из 23 (из них одно метафорическое, звонпроталин), остальное – дополнительная тема утопающих «зыбкого» и «юной» с точки зрений «лунных» (редкое нагнетание субстантивированных прилагательных), объединяющий образ – «хляби» в оттепельном мире, в сердце и в слезах. Образы воды и, тем более, утопания не так уж часты у Блока, так что этот выбор ассоциативной темы – индивидуальная особенность Меркурьевой.
У «Блока»-2 общая тема занимает 9 существительных из 26 (из них три метафорических, чернь с отблеском стали), остальное – дополнительная тема «я иду» (в сравнениях – не властитель и не раб, в метафорах – золото и сталь песен, черта круга; о неясности факелаи латуже говорилось). Ассоциация общей темы с дополнительной темой – через образ Девы Снеговой – проясняется только в конце. Любопытно, что дополнительная тема подавляет главную: из главной исчезает оттепель, остается ключ, скованный льдом.
У «Ахматовой» общая тема теряет образы «таянья» и «возницы» и сводится к теме «ночь» ( улица, снег, луна, фонарный луч у двери); первая вспомогательная тема – «я» ( сердце, печаль, боль, боль; переносные роль, место, в пламя и воду), вторая – «кто-то» (только слово тень).
У «Брюсова» общая тема покрывает 12 слов из 42 (из них три переносных – окофонаря и грань солеи, рубеж здешнего и иного мира). Первая вспомогательная тема, контрастная – Рок, тоже 12 слов (из них только два, мироубийцаРок, в прямом значении, остальные – переносные атрибуты: кольца, извивы, бичи, жалаи т. д., из которых читатель реконструирует олицетворенный образ змея-Рока: слово «змей» не названо). На фоне этой большой вспомогательной темы опять-таки контрастно выступают две малые: «я» (два слова, «иду к истокамчерез межудвух миров») и «мы» (16 слов, из низ 8 переносных: поля под градинами, кубок стража, указ, девизи пр.). За таким иерархическим нагромождением вспомогательных тем почти теряется основная (29%), хоть в ней есть все заданные образы, кроме только луны. Тема борьбы с Роком не чужда поэзии Брюсова и близка самой Меркурьевой, отсюда ее выбор.
У «Кузмина» общая тема покрывает 9 слов из 70: небо, шальтумана (метафора), луна, снег, струйка льдинкой, фонарь, очертанья саней. Заданные образы все налицо; однако так как форма секстины требовала большого объема (39 строк 5-стопного ямба), то они едва видны за толщей вспомогательных тем. Первая из них – точка зрения (одно слово: взор); за ней вторая – сердце (7 слов, из них три переносных); за ней третья – содержимое сердца, то есть любовь (53 слова, основной массив стихотворения). Кузмин как певец любви – образ традиционный, от первых критиков до наших дней. Тема любви развертывается через (по крайней мере) десять перифразов: 1) влага жизни(застывающая льдинкой), 2) пыл страсти(в плену у лавы), 3) моря любви(а в них остров, зримый оку и свету), 4) голубка, летящая под кров(от слова – льдинки), 5) жемчужина в раковине, 6) снопы огня под золой(грозящие льдинкой утраты), 7) узор мороза(для взора), 8) лед– игра(для взора), 9) игра луча со льдинкой, 10) узор на ткани жизни. Мы видим, что к основным словам перифраза сплошь и рядом присоединяются вспомогательные, складывающиеся во второй слой этой темы любви; по большей части они подтягивают основной перифрастический образ к тем словам, которые по правилам секстины должны повторяться ( льдинка, взор). Можно сказать, что у «Кузмина» в самом длинном из оттепельных стихотворений, соединяются оба приема разворачивания темы, которыми пользуется Меркурьева: она вводит вспомогательную тему (как для «Блока» и «Ахматовой») и наполняет ее метафорами, метонимиями, сравнениями (как для «Вячеслава Иванова» или «Северянина»).
Наконец, «В. Меркурьева» старается восстановить равновесие между метафоризацией заданной темы и метафоризацией а вспомогательной темы. В основной, общей теме у нее занято 21 слово (тема упрощена: нет фонаря и извозчика, оставлены только стихийные явления), из них 6 переносных (дважды осколки, дважды иголки, глаза, губы, может быть – крупки).
Повторяющихся слов в этом стихотворении больше, чем в любом другом, – видимо, Меркурьева видела в этом примету своего стиля, который недаром сравнивался со стилем заговоров и заклинаний. Во вспомогательной теме у нее 25 слов, из них на первом плане 13: тайна(целых 9 раз!), чудо и вечность конца и срока. Остальные 12 слов переносным образом характеризуют эту Тайну: она – сердце(дважды), ад, невольница, зольница, дорога и тропа от мертвых к мертвым, она ищет солнца полудня, но находит лишь невстреченность. Так ей удается добиться, чтобы развернутая вспомогательная тема не заслоняла основную. Что «тайна» и «чудо», действительно, ключевые слова для художественного мира Веры Меркурьевой (наряду с «убожеством» и «жертвенностью»), ясно даже по тем ее стихотворениям, которые опубликованы.
Так воспринимала Меркурьева творчество поэтов-образцов и свое собственное, так соединяла их индивидуальные темы с той общей темой, которая своей невинной городской пейзажностью была, казалось, далека от них от всех.