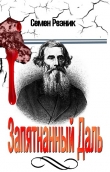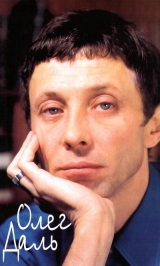
Текст книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"
Автор книги: Вениамин Каверин
Соавторы: Эдвард Радзинский,Виктор Конецкий,Василий Аксенов,Людмила Гурченко,Михаил Анчаров,Валентин Гафт,Виктор Шкловский,Михаил Козаков,Татьяна Лутохина,Григорий Козинцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
– Я пою только в своей роли, голосом своих героев – только там, где ДОЛЖЕН петь.
Но думаю, что, когда собиралась хорошая компания, и Олег принимал для раскрепощения рюмочку-две, и ему вдруг хотелось петь, он себя особо не сдерживал.
ИЗ ПОЧТОВОГО АРХИВА
…Алечка очень тебя любит, может быть, больше, чем меня. А вот письмо написать – это ему не под силу. Так что вся корреспонденция на мне: пишу Павле Петровне, Ире, Кашиным и девкам на работу. Все, кроме девок, исправно отвечают.
Лиза. Письмо из Таллина.Сентябрь 1973 г.
Дорогие мои дети!
Раз уж вы попались в сети
жизни брачной,
Пусть она не будет мрачной!
И во дни, нам предстоящие,
Будем жить по-настоящему,
Набирая высоту, разрывая темноту.
ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
Оля
31. XII – 1970 г.Мы на пленэре. Будем после захода солнца.
Дали. <1971>
Крым. Алушта. Почта. До востребования. О. И. Далю.
Ленинград, 7 сентября 1971 г.Дорогой Олег!
Посылаю тебе свой патрет – в жизни я лучше! Прошу тебя, пришли мне свою фоту с овтогрифом!
* * *
Алушта, 8 сентября 1971 г.Дорогая Оля! Ку-ку!!!
Как Ваша п-ень? Не ешьте остр-о, не пейте ал-го и т. д. Получите телеграмму – запомните и сожгите! Содержанию не удивляйтесь: мы пытаемся с юмором воспринять удары хамства.
Поддержите нас как-нибудь… Так, чтоб и они могли прочесть. Лобызаю Вам…
* * *
Крым, г. Алушта, Главпочта,
До востреб. Далю О. И.
Ленинград 10.IX – 1971 г.Олежечка!
Спасибо за открытку! Насчет «ку-ку» – ты прав! Но «ку-ку» бывают разные, и самое главное, чтобы «ку-ку» каждого из нас не мешали бы личному, своему «ку-ку».
Будь здоров, мой хороший, не обижай жену, люби ее и т. д.
Я уже соскучиваюсь.
Ку-ку!
Москва 5.Х. 71 г.Здравствуйте, милейшая и добрейшая Ольга Борисовна!
Дорогая Оленька, вот видите, как годы бегут – Вам уже и семсиматьцать! Это уже взрослый возраст. Шалости уходят, и приходит некоторая степенность. Но горевать не приходится: на свете все кончается – и ситро, и леденец. Ну, ничего, на смену буйным девчачьим радостям приходят радости спокойные, тихие.
Жила в городе
Женщина Оленька
Жила милая
С дочкой Лизанькой
И была в душе
Оленька тоненькой
Радость милую
Пряча низенько
Под ступенями
За решеткою
Ольга Борисовна, дорогая, поздравляю Вас, желаю здоровья и счастья, целую.
Ваш Олег.
P. S. Как Ваша дочурка? Поклонитесь ей от меня низко и крепко-крепко поцелуйте.
Горький, г-ца «Россия»
№ 243. Далям.
24 июля 1972 г.Оленька!
Здоров я, как олень! Открылись какие-то неведомые мне тайники, куда я сложил свои нервы. Тьфу! Это я на все плюнул!
Отдыхаю! Далюшку, то бишь жену свою, на зарплату поставил, как ВЕЛИКОГО СЕКРЕТАРЯ! Гениальный ум! Живем прекрасно в мире и согласии. За сим целую!
О.Д.
Евпатория – Ленинград, сентябрь 1972 г.Для Оли (строго секретно).
Список вещей, которые Олечка даст с собой Алечке:
1. Маска для подв. плавания
2. Трубка
(п.п. 1, 2 находятся в ванной).
3. Маникюрные щипчики
(местонахождение покрыто глубокой тайной).
4. Закрывалку для бутылки с мин. водой.
(Если в наличии – две.)
5. Какую-нибудь губку.
(Имеется в виду имеющаяся дома какая-нибудь губка для мытья.)
6. Синий свитер или синюю куртку киноартиста Даля для утепления жены его (на всякий случай).
7. Подстаканник (непременно).
Спасибо.
Целую.
Дочь.
P. S. Зонтик.
Спасибо.
18 декабря 1972 г.Здраствуй Оля!
Пишит тибе Алег, каторого ты навернае уже забыла.
Ай яй яй яй яй яй яй яй.
Вабще та я жив и здаров. Ухажу в море на крайнем судне. Так что цалую. Не гарюй.
Крым, Ялта, г-ца «Ореанда»№ 325 Далям Е. А., О. И.
ЛенинградБудьте, Бога ради, здоровы и счастливы!
22. XII – 1972 г.
1 + 9 = 10
7 + 3 = 10
_________
Всего: 1973 год.
Оле.
ЛенинградКак мой зятюнчик, зятеныш, зятюшечка – как его здоровье, как он спит? Как кушает, помнит ли еще меня? Целую!
Олечка.15. VII – 73 г.
ТаллинМамочка, жду писем. Целую тебя крепко. Будь здорова. Вот тебе признание Даля:
I love you!
О. Даль.(перевод: Я люблю Вас)
31/VIII-73 г.
Ленинград, 24 ноября 1973 г.Дорогой Олег Иванович!
Пишет Вам любящая Вас особа, которая очень соскучилась, очень хочет опять увидеть Вас, мечтает с Вами пообщаться, поговорить о том о сем; как бы хорошо было, если бы Вы появились и осветили бы все вокруг сиянием Ваших голубых глаз.
Ленинград, 4. XII —74 г.Алечка!
Вот приехать бы сюда, обалдевшим от цивилизации, хоть ненадолго!
А статью Б.М., если будет время, пробеги – некоторые места.
Целую.
Оля.
Ленинград.Аличка!
Ты не очень уж огорчайся! Ты должен знать, что ты не М. и не Н. Куда тебе до них и им до тебя! Ты помни о том, что талантливым людям всегда было трудно жить и творить. Талант требует мужества и жертв. И юмора тоже! И обидно бывает, и зло берет, но… делай свое дело, люби жену, если она того стоит, люби тещу, если она того стоит, люби мать и люби, извини, свою страну, даже если она не всегда того стоит.
Я прожила с отцом рядом очень трудные годы, когда его били наотмашь, а он не мог ответить. И все же он был веселый, легкий, смех и шутки были его оружием.
Я просто тебе хочу сказать: не думай, что вонючий М. или сопля Н. – счастливые люди! Они всем надоели (под всеми я имею в виду 1-й сорт людей).
Ничего, поживем – увидим!
А вот что тебе надо бы сделать – это добиться постановки или написать сценарийчик – не торопясь, с умом подойти к этому делу!
Надо иногда брать в свои руки инициативу или стараться это делать.
Не сердись, если я и пишу прописные истины, так именно потому, что знаю – иногда мы о них забываем. А они хоть и прописные, а все же истины.
А ведь главное-то у нас есть. Самое главное. Любовь, дружба, извини опять же, взаимопонимание.
И еще нам очень нужен, говоря словами Райкина, «личный покой»! А он у нас будет, когда мы будем вместе!
Итак, по коням, вперед, к победе!
Целую крепко моего славного и умного зятя!
Поцелуй мою дочь!
Оля.30. XII – еще 1974 г.
Ленинград.Бедный мой, маленький!
Так хорошо отдохнул в Авангарде и вдруг такое! Да! Нужна своя корова! А с едой сейчас, в такую жару, надо быть предельно осторожными. Я тут тоже немножко отравилась, но не так сильно и скоро с этим справилась. Я бы очень хотела, чтобы ты, приехав в Ленинград, питался бы у нас, особенно если ты будешь в «Октябрьской». Будешь есть «пульон», курочку и т. д. Вот кофе здесь нет совсем!
Ну, целую крепко вас обоих! Будьте здоровы!!!
Ешьте продукты, ешьте продукты, ешьте осторожно!
Оля.5. VIII – 77 г.
Прости за несовершенство этого экспромта.
Цереза Бубалус
Посвящаю О. Б. Эйхенбаум в день ее рождения.
О. И. Даль
Ах, в октябре. Ах, в октябре…
Рябина в сумерках сгорает
И день янтарной свечкой тает
Ах, в октябре. Ах, в октябре…
И желтизна твоя дорога,
И синева твоя печаль…
Ты проплываешь недотрогой,
Забыв и пристань и причал.
И дробность каблучков твоих
Подобна ходу славного брегета,
Лицо под тенью яркого берета,
Воинственность волос стальных.
Ты баркентина… ты сестра морей.
Дочь вольности и ветра слова.
И над тобою небо в перекрестье рей…
И вечность под тобой – всего основа!
8. Х. 80. В канун сего дня.О. Даль
ЦЕРЕЗА БУБАЛУС
Читаю «дробность каблучков твоих», и сразу возникает воспоминание…
Я шла по Садовому кольцу, по той стороне. У меня действительно были туфли, которые очень стучали, а походка моя тогда еще была довольно быстрая и легкая, да и сейчас – тоже. Когда я дошла до перехода, машин не было совершенно, но горел красный свет. Я сделала шаг, думая: что же я буду стоять, когда ни одной машины нет? В это время мне на плечо легла рука Олега, который стоял позади меня. Он шел за мной довольно долго – от Смоленской площади. Так что эта строка точно оттуда, потому что я так «отчеканивала» шаг, что он, наверное, это запомнил. И он мне сказал:
– Стой! И никогда не иди на красный свет! Это мой приказ.
И действительно, когда у меня теперь возникает желание пойти через пустое Садовое кольцо, когда нет никаких машин, он всегда стоит и держит меня за плечо. Так вот…
Точно так же, всего двумя словами, Олег отучил меня от беготни за транспортом. Вечно мимо тебя к остановке проносится троллейбус или автобус… Бежишь, отдуваясь, с умоляющим выражением на лице и всегда на какую-то секунду к нему не поспеваешь. Когда Олежечка однажды стал свидетелем того, как я это делаю, он сказал мне лишь одно:
– Это – унизительно!!!
После этого я раз и навсегда перестала так поступать.
…Конечно, это стихотворение было для меня очень приятно и неожиданно, потому что отношения у нас вообще были интересны: я забывала свой возраст и забывала, что я – теща. Начисто.
А про Церезу Бубалус ничего не знаю… По-моему, мы задавали ему вопрос. Он очень загадочно улыбался – и все. Он никогда нам ничего не говорил о том, что это такое, хотя мы и давали наводящие вопросы. Он не считал нужным объяснять, и откуда это пошло – я не знаю. Что это? Шутка или действительно реальное существо? Очень странное название. Так это загадкой и осталось. Пока неразгаданной.
НАША ПОЧТА
Олег доверял моему вкусу, читал всякие мои литературные опыты, отрывочки, поэтому считал, что я могу как-нибудь «подчистить» его рукопись и не особенно старался сам. Рецензию на «Сто дней…» он делал для Высших режиссерских курсов, куда должен был тогда поступать. В числе других документов, подаваемых в приемную комиссию, нужно было представить рецензию на кинокартину – вот он ее и сделал. Отнесся к этому довольно безразлично, хотя фильм ему очень понравился, поэтому он все написал честно. Но ему лень было это как-то отшлифовывать. Он понимал, что это не для опубликования, никто это всерьез читать не будет, поэтому и дал мне такое задание: выправить на свое усмотрение. Такое доверие мне было, конечно, очень приятно, но я совершенно ничего не стала делать, считая, что у него и так все очень хорошо написано.
Вообще, его теплота, и даже какая-то нежность ко мне всегда были мною ощутимы. Сейчас, по прошествии долгого времени, могу сказать, что столь близких духовно людей у меня в жизни было всего трое – отец, Лиза. Олег. Больше никогда ни с кем таких отношений не было.
С Олегом у нас получилось так: мы друг друга понимали. Мало того – очень любили друг друга. Мало того, что любили, – мы очень хорошо понимали настроение другого. Поэтому, когда он чувствовал, что я огорчена, что он доставил какую-то горечь, он, во-первых, сразу это замечал, а во-вторых, старался это как-то скрасить и снять. Так всегда у нас было, и я это страшно ценила, потому что в нашей семье культура человеческих отношений во все времена вообще была на очень высоком уровне. Я часто вспоминаю и отца, и мать, знаю, что у них не все было гладко в семье – бывали трудности (читая дневники отца, я это особенно поняла), но все это всегда было настолько интеллигентно, настолько по-человечески правильно… Не надо было никаких сцен, никакой брани, никаких ссор никогда не бывало. Случались какие-то тяжелые минуты…. Жизнь была очень сложная, и нельзя сказать, что у нас была такая семья, где все ну прямо гладко-прегладко – идиллия. Ничего подобного! У меня с Лизой были очень трудные моменты, с отцом – тоже, но это было всю жизнь, и я не могу сказать, что мы когда-то ругались, что называется, кричали друг на друга, скандалили – никогда ничего подобного не было ни у отца в семье, ни у меня, ни у Лизы с Олегом. Это как-то вошло у нас всех в правило. И если кто-то кого-то обижал, кто-то кому-то приносил горе даже, то все это никогда не принимало какого-то скандального характера.
Сохранилось очень мало «письменных свидетельств» моих отношений с Олегом. Но то немногое, что уцелело, по-моему, прекрасно иллюстрирует сказанное выше. В этих письмах и открыточках наши отношения все-таки проскальзывают, а между строк можно прочесть гораздо больше.
Олег просто не любил писать писем и даже немножко посмеивался над тем, как много их пишу я: у меня была переписка с приятельницей-американкой, с моим братом-французом, а после переезда в Москву – с друзьями-ленинградцами. И я всегда очень легко писала и любила это делать. А вот он вообще не любил писать.
Олег и дневник свой вел очень скупо, писал только то, что уже само просилось на бумагу, – и с большими перерывами. Собственно говоря, эпистолярное творчество было для него нелюбимым занятием, так же как и стихи, которые он сочинял лишь тогда, когда просто не мог их не писать. А специально сидеть и корпеть за столом… Он больше любил читать.
ТВОРЧЕСТВО: СКРЫТНОСТЬ И ОТКРОВЕНИЯ
Ни разу, пожалуй, у нас с Олегом не было «прицельного» откровенного разговора о его чаяниях в творчестве. Во-первых, не было для этого особенно времени, во-вторых, он вообще редко заговаривал на такие темы. Но кое-что, смею надеяться, прояснить я могу.
Зачем он пошел на Высшие режиссерские курсы? Потому что ему очень хотелось ставить самому. Режиссеры не удовлетворяли, и Олегу казалось, что вот если он получит к постановке какую-то пьесу или киносценарий, то он все сделает, потому что знает, как надо. И поэтому… надо идти на курсы. Только не учиться, а получать диплом, дающий право заниматься «большой режиссурой». Тогда другого способа не существовало. Это сейчас, наверное, можно прийти с готовым материалом и снимать картину на свой страх и риск. А тогда этого не было, и он вынужден был пройти через ВРК, от которых бежал с матерными словами, потому что понимал, что даже ради диплома не сможет вынести два года кошмарной мути, гнуси, болтовни и людей, преподающих это. Как-то он пришел домой и сказал мне:
– Ты знаешь… Лекцию читал Н.Н., и он сказал: «Олег! Сядь немножечко подальше!.. Ты мне просто… Я не могу. Пересядь, пожалуйста…».
Этому человеку было стыдновидеть перед собой лицо Даля и читать ему «лекцию». А Олег вместо того, чтобы «сесть подальше», решил уйти совсем, дабы не смущать «преподавателей».
Естественно, у Олега было много и актерских мечтаний. Мне кажется, что сейчас он реализовал бы многие из них. Правда, он был человеком совершенно не деловым, а теперь без этого шагу ступить нельзя. А он был фантазер, который мог увлечься чем-то и здорово прогореть. Думаю, что, если бы около него не было бы талантливого помощника, Олег быстренько прослыл бы «вечным банкротом». Но он был настолько умен, что безусловно нашел бы такого человека, и сегодня мысли Олега обрели бы свое воплощение. Он бы поставил на сцене или в кино «Ревизора» Гоголя так, как хотел, а не так, как это в свое время сделал Гайдай, приглашая и Олега в это действо, но тот отказался, хотя и мечтал о роли Хлестакова не один год.
Олег обязательно написал бы пьесу и, скорее всего, поставил бы ее в своем театре,о котором опять же мечтал долго и безрезультатно. Полагаю, что такая студия не многим бы уступала подобному начинанию, скажем, Олега Табакова, а может быть, стала бы более дальним шагом.
Все, что не находило выхода из разума и сердца Олега, делало его больным и раздраженным человеком, сознающим, что ОН НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ. Ведь даже на ВРК он пошел с мыслью экранизировать «Слово и дело» Валентина Пикуля. Наверное, через какое-то время он отошел бы от этой идеи, так что я, например, рассматриваю ее лишь как один из моментов «за курсы», повод к действию, что ли… И все-таки ему очень хотелось стать постановщиком! И в то же время играть: он не собирался стать «чистым» режиссером и бросить свою актерскую работу.
Осенью 1980 года Олег начал преподавать актерское мастерство в режиссерской мастерской Александра Алова и Владимира Наумова во ВГИКе. В какой-то степени ему удалось выразить давние желания в этой работе, но, к сожалению, время торопило его, и он успел там сделать мало, хотя и имел какие-то интересные замыслы.
У него было слишком много природных данных для того, чтобы оставаться лишь «актерским материалом» в руках режиссера. Он хотел быть свободным во всем.
Многие актеры уходят в режиссуру и делают неудачное кино. Как-то у нас с Олегом зашел разговор об этом и я его спросила:
– А ты не думаешь, что актерское начало все-таки возьмет в тебе верх над режиссерским и ты сделаешь плохую картину? И… хорошо сыграешь в этой своей, но плохой картине?..
– Я так не думаю! Потому что как режиссер настолько понимаю себя-актера, что могусделать хороший фильм.
Вот такие «прицелы» у него были, но Олег даже представить себе не мог, что люди творчества обретут такие свободы, как сейчас. Ведь огромное количество людей так или иначе «раскрепостилось» в той или иной степени. Если бы Олег получил такое, то неизвестно еще, как бы он этим распорядился, но мне кажется, что его ждала не одна большая удача. Он действительно необыкновенно здорово понимал, что такое Актер и что такое Режиссер. Почему он, например, не принимал метода А. Эфроса? Потому что тот его «мял», что Олег и сам признавал. А вот Г. Козинцев был для него эталоном отношения режиссера к актеру. Во-первых, Григорий Михайлович являлся для Олега прежде всего человеком, который очень много знает, узнает и думает над вновь узнанным,чтобы оно стало познанным.А А. В. Эфроса Олег все-таки считал «фокусником». При этом у того была очень хорошая, им самим придуманная, разработанная и апробированная творческая система, вызывавшая у Олега искреннее уважение. Но как человек он оказался для Олега при долгой и тесной работе «простым ларчиком» и именно человеческиперестал быть Далю интересен.
Была ли у Олега невоплощенная актерская мечта? Конечно да! Он мечтал сыграть Подколесина, Хлестакова… Очень мечтал играть Гамлета, но довольно быстро отказался от этой мысли, потому что понимал, что возраст берет свое, а эту роль нельзя играть в сорок лет. В этом вопросе Олег был очень строг и щепетилен, считая принца Датского молодой ролью, хотя многие и полагают, что Гамлета можно играть и толстому, и лысому старперу, и даже… женщине. Но у Олега было к этому свое отношение…
Как-то Олег с Лизой уехали надолго (кажется, на какие-то его съемки), а я стала перечитывать любимую мной с детства поэму В. А. Жуковского «Ундина». И она вдруг встала у меня перед глазами как очень красивая киносказка. Я мгновенно засела за письменный стол и перевела все свои «видения» в литературный сценарий. Получилось восемьдесят страниц машинописи.
Когда Олег приехал, я ему сказала:
– Слушай, Олежечка! Я написала сценарий по своей и Лизкиной любимой сказке…
Он прочитал и говорит:
– Ты знаешь… знаешь, для сценария это слишком длинно! Надо сокращать…
– Ну, я же не для чего-то конкретного делала!.. А… как ты относишься к роли этого рыцаря?..
– Нет! Эта роль – не моя!.. Это не моя роль. Это роль… «голубая»… И совершенно без юмора…
– Ну, хорошо! В такую сказку можно юмора пустить сколько угодно… Это уж зависит от режиссера… Да, Жуковский писал это без юмора, но это так красиво!
В итоге мы с Олегом поспорили на эту тему, но, поскольку он отнесся к этой идее равнодушно, я все, к черту, разорвала, и на этом мои «сценарные разработки» закончились…
А вот когда он прочел мою повесть о блокаде, то сказал:
– Ну, тут, конечно, никакому сценаристу делать нечего…
И дал мне очень хороший совет, на который я ему, по-моему, не менее мудро ответила.
– Ты знаешь, Оля, мне все это очень нравится, мне все это очень интересно, но ты должна перемонтировать рукопись. И не в таком повествовательном виде: день за днем…
– Вот если бы я смогла это сделать, то я бы стала писателем!.. А я не умею и пишу так, как вспоминается… как пишется. А «монтировать», перебивать чем-то – не получается.
Но он все равно меня похвалил и сказал, что это интересно уже тем, что там описаны такие факты и случаи, которые ни с кем не произошли и нигде не упомянуты, а все-таки это факты, а не вымысел, выдумка. И прочел он очень внимательно: ушел к себе в кабинет, закрылся и, пока не дочитал, не выходил.
Интересно, что через некоторое время мы с Олегом снова вернулись к разговорам о блокаде. Это было зимой 1979–1980 года, когда он готовился сниматься в картине Н. Бирмана «Мы смерти смотрели в лицо», посвященной балетмейстеру Обранту (в фильме – Корбут), организовавшему в блокадном Ленинграде детский танцевальный ансамбль, выступавший перед бойцами фронта. Олег сразу согласился сниматься и много расспрашивал Лиду Кашину, выступавшую в этом ансамбле, а потом меня о том, что и как я видела в то время. Видимо, рассказ очевидца на него подействовал, потому что он явно использовал некоторые факты для себя в работе. Возможно, даже настоял на внесении изменений в рабочий сценарий. Во всяком случае, в фильме есть моменты, которые для меня являются ожившими цитатами из моей повести. Например, сцена в очереди за водой на Неве. Вообще, в этой картине не было лжи – все строго документально, без сентиментальности и отхода от правды. И об этом писали. Писала и критика, и те, кто был свидетелем показанных событий.
А вот на худсовете «Ленфильма» кто-то из тузов кинематографа посчитал, что «это слишком мрачно». Что поделать, но юмору там и тогда действительно места не было…
Теперь попробую рассказать все, что помню о лермонтовской работе Олега в 80-м году – той записи, которая впоследствии, уже после его кончины, воплотилась сначала в грампластинку, а потом в радиопередачу «Наедине с тобою, брат…».
Прежде всего, важно упомянуть, что у нас было два домашних прослушивания непосредственно стихотворной композиции, хотя Лиза, может быть, меня и опровергнет. Но я такпомню. Мы прослушали «чистые стихи» в его исполнении, записанные на кассету, и были совершенно потрясены. Причем Олег при этом присутствовал и наблюдал за нашей реакцией.
Для меня и Лермонтов как-то изменился… Чтоб я так слушала «Выхожу один я на дорогу…»? Такое уж, казалось бы, надоевшее еще по школьным хрестоматиям стихотворение! И вдруг это оказывается чем-то замечательным, потрясающим и… непохожим на самое себя.
Потом Олег, подобрав и записав музыку, снова пригласил нас с Лизой в кабинет. Перед этим мы услышали, как он «химичит» в кабинете с проигрывателем, и я сказала Лизе:
– Ты знаешь, мне это не нравится! Я не люблю чтения стихов под музыку… Я никогда не любила этого и очень жалею, что Олег это делает… Но… очевидно, для него это существенно.
Видимо, еще отец в детстве внушил мне, что сочетание музыки и стихов – это неверно: одно другому мешает. Но когда мы прослушали запись с музыкальным сопровождением, я совершенно отмела все свои опасения и настороженность. Ведь он подобрал такую музыку…
Еще перед тем, как начать работу со стихотворной композицией, Олег записал на ту же кассету поэму Лермонтова «Мцыри». Когда мы ее слушали (все там же, в кабинете, но несколькими днями или неделями раньше), у меня мурашки бегали по коже! Я еле-еле сдерживалась, чтобы не зареветь – иначе нельзя было слушать. Он читал так, словно сам был этим мальчиком и все, что он рассказывает, происходило с ним. И вот теперь – целая музыкально-поэтическая композиция по стихам… Я спросила:
– А «Мцыри»? Тоже будет с музыкой?..
– «Мцыри» я стер.
И тут я почувствовала, как у меня внутри что-то оборвалось. Как он мог?!! Как он смел?!! Стереть такую потрясающую запись!!! Но я ничего не могла и не смела ему сказать. Нет кассет! У Олега Даля их всего две. И возможности купить у него не было: временный дефицит. Правда, его окружала масса людей, у которых эти кассеты валялись сотнями, но Олег был не тот человек, который пойдет и будет просить у того же Высоцкого… Во всяком случае, ему не терпелось сделать то, что он хотел, – сегодня, сейчас, немедленно! Все это было очень торопливо. Очевидно, существовало что-то, заставившее его вести себя так. Может быть, он стер «Мцыри», думая о том, что еще вернется к этой вещи.
Повторяю: слушая, как Олег читает «Мцыри», я вся сжалась в комочек, потому что прежде такого никогда не слыхивала. А ведь мой отец любил читать «Мцыри» вслух и исполнял так блестяще, как может прочесть лишь тот, кто десятилетия работал с архивом Лермонтова.
Олегу было достаточно лишь увидеть нашу реакцию. Никаких слов от нас он не ждал, хотя мы с Лизой и выдавили из себя что-то ошеломленное. После этого все надолго затихло.
В начале осени опять начались разговоры и сводились они к тому, что моноспектакль Олега по поэзии Лермонтова будет поставлен на сцене Зала им. Чайковского. Как раз тогда Олег пришел домой возмущенный и сказал, что администрация Зала требует от него представить все стихи, включенные в спектакль, отпечатанными на машинке. Все это «по заказу» чиновников! Смех и слезы!.. У них остается программа вечера в архиве, так вместо того, чтобы отметить все в книге, артиста обязывают перепечатать стихи, дабы Лермонтов по закрытии сезона хранился в вонючей папке с биркой «Концерт Олега Даля». В общем, поговорили мы с Олегом, поругались, поплевались и… сделали требуемый экземпляр. Олег так и сказал:
– Это вообще уже предел идиотизма, но все-таки надо сделать.
Я все самолично и напечатала.
Потом, несколько месяцев спустя (и уже после смерти Олега!), нам сообщили, что «моноспектакль Олега Ивановича разрешен к постановке и включен в сентябрьский абонемент 1981 года»…
Если говорить еще о каких-то примерах откровений Олега в домашней обстановке на предмет его творчества и творческих дел, то таких случаев почти и не припомнишь. Например, он никогда не читал мне фрагментов своего дневника, а вот Лиза изредка становилась его слушателем. Также не бывала я посвященной в вопросы, связанные с прохождением проб и утверждением на роль в картину или телеспектакль. Просто если ему надо было ехать на пробу, он ехал на киностудию или в телецентр, и редкий случай, когда его не утверждали, если только он сам не отказывался от предложенной работы.
В 1977 году, кажется, весной, его не утвердили на роль Теодоро в «Собаке на сене» у Яна Фрида на «Ленфильме». Олег удивился и как-то не понял: почему, собственно? Режиссер его, в общем-то, не особенно устраивал, но, если бы Олега взяли в картину, он с радостью поработал бы с такой драматургией. Правда, потом выяснилось, что главную женскую роль исполняет М. Терехова, а в отношении к ней Олег был ледяно-холодным, поэтому и посчиталось: что Бог ни сделает – все к лучшему…
Так что никаких огорчений и обид ни на кого не было, но удивился здорово:
– Че это они?.. Вроде по всем данным вполне подхожу для этой роли.
А вот почему его в 1960 году не утвердили на роль Пети Ростова в «Войне и мире»?.. Тогда мы Олега, естественно, еще не знали даже по кино, так что я не в курсе, как он к этому отнесся. Фотопроба у Олега сохранилась, нам было совершенно ничего не понятно, а он на все вопросы об этой давней истории лишь отшучивался:
– Слишком хорош… Подходящей компании не нашли – вот и не взяли!
Интересно, что Олег никогда не репетировал сценические роли дома. За единственным исключением: в 1976 году на Новаторов он разучивал Петю Трофимова. Поскольку в этой маленькой квартирке некуда было деваться, а тем более «творчески изолироваться», Олег уходил в сортир, запирался там и вслух разучивал ненавистную ему роль. В такие моменты из туалета доносились яростные, глуховато-утробные чеховские реплики… А так он всегда репетировал роль с режиссером в театре или обдумывал что-то по дороге. Дома у него это вертелось в голове, но для нас всегда было закрыто.
Многие из своих экранных работ Олег видел по телевизору на моих глазах. Это интересные впечатления!
Смотря в январе 1981 года «Принца Флоризеля», он морщился все три серии, а когда картина кончилась, сказал:
– Ну, что ж… Это, в общем, неплохо. Господи! Конечно, тут можно было сделать… Ха! Даже нечего говорить! Если бы не Женя Татарский, которому все было безразлично, можно было бы сделать феерический спектакль. По остроумию, по легкости, по красоте. И по тому, каким Флоризелем я ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ! В этом смысле они, конечно, загубили картину… Ну, да ладно! Посмотреть можно.
Смотря «Старую, старую сказку» и «Тень» Кошеверовой, тоже называл их «неплохими фильмами», но от «Тени» обычно раздражался и заводился, возмущаясь всякий раз, что в ней «вырезали много острого». Один раз даже сказал, что из-за этого не любит «Тень». И добавил еще:
– Я «бабулю» ругал за то, что она все это сделала в павильоне. Это надо было снимать на просторе где-то… чтобы Тень по горам скакала… Ну, там много можно было сделать…
Но Кошеверова этого не делала: то ли не любила, то ли не хотела и обычно работала в павильоне. Может быть, потому, что она была в возрасте и ей было трудно мотаться по экспедициям. Да и вообще она практически чисто павильонный режиссер. Вот только «Иванушка-дурачок» у них с Олегом был на природе, да и то недалеко от Ленинграда…
«Печорина» Олег смотрел с единственным и постоянным возмущением:
– Как на нем сидит такая фуражка?!! Это же ужас!!! Вытащили откуда-то из костюмерной мятую паршивую дрянь! Печорин… Нет, это страшное безобразие!!!
Его просто бесило, что эта деталь сделана непрофессионально и портит всю картину, потому что получается «не по-настоящему».
А вообще речевое комментирование своих работ было у него не в правилах. Менялось только выражение лица: морщился, смотрел спокойно, заинтересованно, улыбался, смеялся.