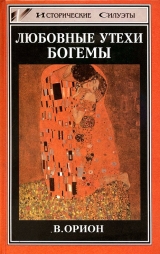
Текст книги "Любовные утехи богемы"
Автор книги: Вега Орион
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
…Я – вечный странник в поисках того, что плавает.
Страна очаровательна лишь в той степени, в которой она представляет возможности заняться любовью. Самые прекрасные в мире памятники не могут заменить этого; почему же не признать этого откровенно?
Андре Жид
Но насмешка имеет свои границы. И чтобы позабыть, как умирали Жюль де Гонкур, Бодлер и Мопассан – потеряв речь, находясь в невменяемом состоянии, сифилис превратили в болезнь гениев. Так, в публичном доме «Андалузские звезды» Пьер Луи, чтобы успокоить Андре Жида, который боялся, что его заразили, собрал в одном ревю всех артистов, у которых талант удесятерился в результате сифилиса. Став наследственным, сифилис становился совершенно особенной болезнью; по крайней мере, так говорил Леон Доде, сын Альфонса Доде, когда стал врачом: «Микроб, возбуждающий страшную болезнь, трипонема, так как его нужно называть его собственным именем, настолько же богатый источник гениальности и таланта, героизма и ума, как и источник общего паралича, сухотки и почти всех проявлений дегенеративности (…). Наследственная трипонема, усиленная пересечениями между сифилитичными семьями, играла, играет и будет играть роль, сравнимую разве что с античным фатумом. Это невидимый, но присутствующий персонаж, который движет романтиками и неуравновешенными людьми, представляющими собой возвышенные отклонения от нормы, и педантичными или грубыми революционерами. Это закваска, благодаря которой подходит немного тяжеловатое тесто крестьянской крови и которая очищает ее за два поколения. Из сына бонны выходит великий поэт, из мелкого мирного буржуа – сатирик, из коммерсанта – метафизик, а из моряка – астроном или завоеватель».
И в то же время в сифилисе есть свои наслаждения. Как и туберкулез, который румянит щеки молодых девушек, эта восхитительная бледность также может придать человеку томность; она заставляет сильнее биться романтичные сердца. Судьба молодых красавцев, которых смерть прибрала в молодые годы, не может оставить равнодушным того, у кого немое сердце. Как, например, та незнакомка, о которой говорит Колетт и которая прошла, словно легкая тень, по ночным кафе Латинского квартала: «Луи часто приводил подругу, сумрачную молодую девушку, которая сильно и непрозрачно молчала, будучи по-своему красивой. Все составные части ее красоты создавали впечатление такой материальности и грубости, что я нарисовала бы, если бы умела рисовать, рельеф ее большого пурпурного рта, глаза цвета голубой неистовой воды, ее собранные волосы, не допускавшие никакого несогласия с чьей бы то ни было стороны. Как ее звали – Сильвия, Стелла или Сабина? Большое восставшее «С» возникает при воспоминании этой прохожей, солидно, но бесполезно нарисованное на панно моей памяти. Бог знает, где она подхватила страшный сифилис и в муках умерла за семь дней в госпитале, окруженная апельсинами, букетами фиалок, дружескими записками, подписанными неким Вилли и еще – Пьером Луи, Жаном де Тинаном (он сам болел триппером) и даже Колетт… Ее смерть была дикой, почти бессловесной и ужасной по своему настрою. Едва мы услышали хриплый и поспешный звук ее голоса…»
Друг Жида – Пьер Луи – при помощи насмешек и издевательств заманит его в отвратительный бордель «Андалузские звезды». «Что я особенно люблю здесь, – заявил он ему, – так это вульгарность». Чтобы не ударить лицом в грязь перед этим человеком, который поначалу его так впечатлял, и показать, что он не отказывается от удовольствий, Жид выбрал наименее уродливую проститутку и «смело поднялся» к ней. Но этот ненормальный Луи, вместо того чтобы поддержать его в этом героическом поступке, принялся насмехаться, уверяя его, что он совершил ошибку, выбрав самую симпатичную, так как скорее всего именно симпатичная может оказаться сифилитичкой. Если бы это было не так, добавлял он, то она наверняка была бы занята с другими постоянными клиентами. Впрочем, улыбки других девочек, которые знали что к чему, но не могли выдать свою товарку, должны были бы его насторожить. И Пьер Луи пустился в длинное рассуждение о великих мужах, которые своей гениальностью были обязаны только сифилису. Жид, который панически боялся этой болезни и был совершенно лишен чувства юмора, впоследствии долго будет с ужасом вспоминать об этой дурной шутке Пьера Луи.
…Свобода нравов в странах Африки, тесно связанная с нищетой, толкавших мальчиков на занятия проституцией, была на руку многим гомосексуалистам. Они специально селились на Востоке, благословенном месте для их игр. «В то время развлекали себя ужасно, – рассказывает художник Френсис Бэкон, вспоминая Марокко пятидесятых годов прошлого века. – Ведь Танжер был зоной свободной международной торговли, и это многое решало в том стиле жизни, который здесь сложился».
Свое первое путешествие в Алжир Андре Жид совершил в 1893 году. Тогда ему было двадцать три года. Пригласил его туда Поль Лоран, ученик Эколь де Боз-Арт, который получил премию, обязывавшую его путешествовать в течение целого года. Как и Делакруа, он остановил свой выбор на Магрибе. Жид последовал за ним.
Друзья были девственниками и решили использовать свое путешествие с выгодой и изменить положение вещей. По отношению к половому акту оба проявляли циничное равнодушие. Жид, впрочем, утверждал, что склонность натуры вынуждает его отделять любовь от желания. Причем разделять до такой степени, что он ощущал себя оскорбленным, когда речь заходила о том, что одно является обратной стороной другого. Кроме того, развивая свою аргументацию, он пришел к мысли, что инстинкт продолжения рода должен быть полностью отделенным от удовольствия. Отделенное от своих практических целей, сладострастие становилось самоценным, а гомосексуальность переставала противоречить природе.
Очарованный смуглой кожей мальчиков, которые прислуживали ему, он не замедлил перевести свою теорию на практику. Столкнувшись с намеками и обещаниями молодого Али и с незначительностью запрошенной суммы, он, подобно Александру Македонскому, разрубившему Гордиев узел, согласился на половой акт: «[Али] не стал долго церемониться со сложными узлами на шнурках, которые заменяли ему пояс: вытащив из кармана небольшой кинжал, он одним движением рассек их. Одежда упала; он отбросил ее и, обнаженный, предстал, словно божество. Мгновение он держал свои тонкие руки поднятыми к небу, а затем, смеясь, упал рядом со мной. Его тело, возможно, и было горячим, однако в моих руках оно казалось таким же прохладным, как сумрак. Как этот темнокожий был прекрасен!»
После этого первого опыта Жид испробовал и секс с женщиной. Это случилось в Бискре, в отеле «Оазис» (который он впоследствии изобразит в «Имморалисте»).
С этой точки зрения, найти место лучшее, чем этот город, вряд ли было возможно. Этот город был буквально заполонен женщинами, торговавшими своим телом. Это были женщины племени Улед Наиль, которых по старинной традиции отправляли заниматься проституцией в «Оазис», чтобы они таким образом смогли заработать себе приданое, позволявшее им купить себе мужа. Встретить их можно было в квартале, который все называли улицей Святых. Усевшись группами из двух-трех человек у лестниц, которые вели в их комнаты, неподвижные, роскошно одетые, с дорогими украшениями, ожерельями из золотых монет и высокими прическами, они чем-то напоминали идолов.
Хотя им не разрешалось покидать этого квартала, Поль добился от одной из них (он встретил ее на Горячем Источнике, где та купалась), чтобы она пришла к ним в отель. Ее звали Мириам бен Атала, и ей было шестнадцать лет. Ожидая, когда стемнеет, два друга отправились посмотреть, как танцует их будущая любовница, на своего рода спектакль, который представительницы племени давали каждый вечер. Мириам танцевала со своей сестрой, однако все внимание Жида было приковано к мальчику, который их сопровождал: «Маленький Мухаммед, преисполненный лиризма и радости, неистовствовал над своим барабаном. Как он был прекрасен! Полуголый под своими лохмотьями, черный и стройный, словно демон, с открытым ртом и безумным взглядом».
Ночью Мириам пришла в их комнату. Она разделась, и они заметили, что она не сняла браслетов с запястий и щиколоток, но не осмелились спросить, почему. Ее кожа ароматно пахла, а сама она была полноватой, хотя в ее фигуре было еще что-то детское. На следующий день Жид был вынужден признать, что если он и был состоятельным в эту ночь, то только потому, что, закрывая глаза, представлял себе, что сжимает в объятьях Мухаммеда.
Свой второй гетеросексуальный опыт Жид имел с сестрой Мириам. Возможно, он решил сделать это, чтобы получше «распробовать». Однако на этот раз фиаско было полнейшим; Жид сам объяснял это излишней красотой девушки: «Я испытывал к ней своего рода восхищение, но [не было] ни малейшего намека на желание. Я пришел к ней подобно почитателю без подарка. В противоположность Пигмалиону, мне казалось, что в моих руках женщина превратится в статую, а точнее, мне казалось, что я сам из мрамора. Ласки, провокации – все было бесполезно; я молчал, а затем покинул ее, будучи не в силах дать ей ничего, кроме денег».
Третья попытка состоялась в Риме по возвращении из Северной Африки. Он поселился на противоположном конце виа Грегориана. «Я, конечно, пытался овладеть ей, – признается впоследствии Жид, – но в моей памяти не осталось ничего, кроме отвращения, которое она внушила мне изяществом своей внешности, элегантностью и жеманством. Я начинал понимать, что я выносил Мириам лишь благодаря ее цинизму и дикости; с ней, по крайней мере, знаешь, как себя вести; в ее речах, в ее манерах не было никакого желания изобразить любовь…»
Два года спустя Жид снова побывает в Алжире. В один прекрасный день он встретит там своего старого друга Пьера Луи.
В свою очередь, он также бывал в Бискоре и был клиентом Мириам. Именно там он закончил работу над «Песнями Билитис». Стихи он посвятит Жиду в память о Мириам.
А уже немолодой Андре Жид, выйдя из объятий женственного юноши, берущего сто су за ночь, добавляет: «Никакого стыда после этого легкого сладострастия. Своего рода вульгарный рай, единение через низ. Важно не придавать этому значения и не считать себя униженным; сознание в это совсем не вовлекается, так же как и душа, которая не уделяет этому внимания. Но во время приключения экстраординарные удовольствия сопутствуют радости открытия нового».
Маленькая Пердита А. УссеяСветские качества этого человека быстро открыли ему двери в журналистскую и театральную среду. Там он и сделал себе карьеру, занимая сначала должность директора Оперы, а затем Комеди Франсез. И именно этому могущественному человеку, игравшему значительную роль в парижской жизни, Бодлер посвятил свой «Парижский сплин».
В альманахе любовных приключений Уссея особое место занимает Пердита, миниатюрная ирландка из Сохо. В Париже эта история не могла бы иметь места, так как Уссей ни за что не позволил бы себе этой любви, находясь среди своих друзей и в привычкой для себя обстановке. Нужно ли говорить, что он ее стыдился? Я не хочу оскорблять его этим; просто я думаю, что основную роль здесь сыграли экзотика, магия Лондона… и некоторые литературные реминисценции.
Арсен Уссей был одной из крупнейших фигур бульварной жизни во времена Июльской монархии. Пожираемый, как он сам выражался, любовью к литературе, он покинул родную Шампань, чтобы отправиться в столицу за славой, которую он надеялся снискать при помощи нескольких театральных пьес, засунутых в багаж вместе с другими вещами. Поселившись на улице Дуайенне вместе с Теофилем Готье, Нервалем и художником Родье, он вошел в круг романтической молодежи. Достаточно скоро его отношения с этой богемой охладели, и он присоединился к завсегдатаям бульваров. «Мы проводим почти все ночи вместе с Роже де Бовуаром и другими полуночниками то в компании девочек из оперы, то в компании уличных девок». Будучи добропорядочным буржуа, он всячески старался не дать шлюхам провести себя. Его дела, будь это дела сердца или карьера, велись с точностью эксперта, который ничего не оставляет случаю. Во всяком случае, естественное кокетство вынуждало его.
По рекомендации Жюля Жанена, прославленного критика, Уссею было поручено вести салонную хронику в «Ревю де Пари». Совершенно счастливый из-за того, что ему было позволено впервые попробовать себя в роли художественного критика, 2 мая 1836 года он вместе с шотландским художником Джорджем Ариссоном высадился в Англии.
Среди многочисленных полотен, выставленных в Королевской академии искусств, больше всего его поразил своей красотой и свежестью портрет одной женщины. Этот портрет кисти Лесли изображал Пердиту, героиню шекспировской «Зимней сказки». Думая, что за этим восхищением скрывается плотское желание, Ариссон, имевший связи в мире художников, предложил ему устроить встречу с моделью. Известно, что эта профессия не блещет избытком добродетельности, и потому казалось, что все должно было произойти самым обычным образом. Ошибка! Путана, которую видели в одиннадцать часов вечера в глубине прокуренного паба, оказалась красавицей с глубокими голубыми глазами, прекрасно сочетающимися с черными волосами и белоснежной кожей, что придавало ее лицу какую-то меланхоличность и неловкую грациозность, способную вызвать слезы. С нею грязная лондонская ночь преобразилась, украсившись в пастельные тона. Перед подобной хрупкостью любой из самых циничных развратников неизбежно складывал свое оружие.
К утру очарование сделало свое дело. Эта невероятная женщина пленила нашего героя. Предшественник Джорджа Бернарда Шоу принялся ее преображать. Она не имела ничего на своих плечах и внезапно оказалась одетой в кашемир и кружева. Через несколько сумасшедших дней они стали жить как любовники, посещая выставки и театры, гуляя по улицам и наслаждаясь рагу из ветчины с яйцами и ростбифом с картофелем.
Словно для того чтобы придать их страсти романтический характер, однажды вечером в пабе два лорда стали приставать к Пердите. Комплименты успеха им не принесли, и потому они принялись сыпать перед ней на стол золотые монеты. Если бы нежная девушка не показала своим выражением лица презрения к этим двум гнусным типам и их деньгам, этот эпизод непременно закончился бы дракой, тем более что шотландский друг Уссея не выносил британской манеры приставать. «В тот вечер Пердита была прекрасна как никогда, она была счастлива доказать мне, что деньги для нее ничего не значат, так как она знала, что со мной ей не придется касаться золота».
Когда же наступило время возвращаться в Париж, любовники приняли решение не расставаться, и Пердита стала упаковывать багаж. Уссей заставил ее поклясться, что она перестанет злоупотреблять пивом. Она поклялась. К несчастью, во время ожидания корабля в Дувре, страшась грядущих перемен в ее жизни, она выпросила разрешения попрощаться с Англией и выпить по этому поводу несколько стаканов pale ale. А однажды в море, когда поднялась буря, она заявила, что не сможет перенести ее, не выпив стаканчика. В Кале она была мертвецки пьяной. И тогда Уссей решил, что путешествие неисправимой ирландки во Францию на этом и закончится. Он оплатил ее обратный путь и удалился, не оборачиваясь, ибо «если тот, кто любит, обернется, он пропадет».
Эта горькая любовь получит свое завершение, когда спустя двадцать лет Уссей снова попадет в страну туманов: «О магия воспоминаний! Во время своих ночных прогулок, когда я вновь обрел Лондон 1836 года в Лондоне 1857 года, я постоянно искал фигуру Пердиты…»
Флобер как создатель легенды о Кучук-ХанемНесмотря на многочисленные любовные приключения, Флобер признавался друзьям в откровенных беседах: «Сказать прямо, я своего рода девственник. Все женщины, которые у меня были, служили мне как бы матрасом, на котором я овладевал женщиной моей мечты… Мне, кроме того, кажется, что для нашего здоровья нет никакой необходимости в совокуплении, как утверждают некоторые, это в большей степени потребность нашего воображения».
Не особо обременяя себя раздумьями и философствованиями на этот счет, он говорил:
«Красота не эротична. Да, красивые женщины не созданы для того, чтобы с ними спали, они должны позировать для статуй. Любовь, видите ли, происходит от возбуждения, и очень редко – от красоты.
Вот варвары – это сплошные педерасты и скотоложники, а это может лучше удовлетворять…»
* * *
Как известно, Доде не переносил Лоррена. Не любил он и Золя, которого называл «канализационным рабочим из Медана».
Зато он обожал Флобера, который очаровал его еще в детстве. Он рассказывал: «Мы жили в доме № 24 по улице Паве, в Маре, особняк Ламуаньон, старинном строении XVII века, роскошного вида, который был разделен на несколько апартаментов, очаровательных, как говорили, но неудобных. Мы занимали одни из этих апартаментов. Там и собирались каждую (или почти каждую) среду в нашей скромной столовой Флобер, Золя, Тургенев, Эдмон де Гонкур, которых я называл «гигантами»: «Мама, это день гигантов?» Флобер и мой отец оживляли все своими шутками, своим смехом, своими рассказами. Флобер говорил моему отцу: «Здравствуй, Альфонс, как ты меня находишь?.. По-прежнему молодым, не так ли?» Это «по-прежнему молодым» ввергало гигантов в каскад шуток, отчего я привязывался к ним всей душой».
Смех Флобера не мог оставить никого равнодушным. По словам Гонкура, ему удалось сохранить детское прысканье. Вспыхивавший на его широком красном лице, выталкиваемый его мощными легкими великана, его смех всегда сохранял абсолютную свежесть, даже тогда, когда рассказывались скабрезные истории, которые веселили его больше всего. Сам он тоже припасал что-нибудь такое, что несло на себе отпечаток духа коллежа и мха, что просто нельзя было пропустить мимо ушей, не рассмеявшись, из-за заразительности его смеха. Пример подобного рассказа можно обнаружить в письме к его старинному приятелю Буиле: «Месье, есть столько разновидностей женских грудей! Есть грудь-яблоко, есть грудь-груша, похотливая грудь, стыдливая грудь, какие там еще? Существуют такие, которые созданы для кондукторов дилижансов, большая и искренняя и круглая грудь, которую прячут внутрь серого трико, где она держится крепко и упруго. Есть бульварная грудь, расслабленная, дряблая и прохладная, которая болтается в кринолине, грудь, которую показывают при свечах, которая появляется из черного атласа, о которую трут свой член и которая вскоре исчезает. Есть две трети груди, видной при свете люстр на краю театральной ложи, белая грудь, изгиб которой кажется таким же безмерным, как и желание, которое вами овладевает. Они хорошо пахнут; они разжигают щеки и заставляют биться сердце. Их блестящая кожа сверкает гордо; они богаты и, кажется, говорят вам презрительно: «Занимайся онанизмом, бедняжка, занимайся!» Еще есть грудь-вымя, остроконечная, оргаистическая, вульгарная, сделанная в форме бутылочной тыквы, тонкая у основания, расширяющаяся, толстая на конце. Это грудь женщины, которая совокупляется совсем обнаженной перед старинным псише в раме из инкрустированного красного дерева. (…) Есть, наконец, грудь-тыква, восхитительная грудь, от которой появляется желание испражниться на нее. Это именно та, которую желает мужчина, когда говорит сводне: «Дайте мне женщину с большими сиськами». Это именно та, какая нравится такой свинье, как я, и, осмелюсь сказать, как мы».
Флобер перед своим другом Буиле развивал такую идею: «Если ты, несчастный, будешь всегда так проливать свою сперму, у тебя не останется больше ничего для твоей чернильницы. Вот единственная вагина для писателей».
Так творчество навязывало свои правила, требуя экономности в своих наслаждениях.
В старости Флобер откровенничал с друзьями:
– Но Доде, я ведь тоже свинья… Когда я был молодым, мое тщеславие было таким сильным, что если я шел с друзьями в бордель, то непременно выбирал самую уродливую шлюху, которой я хотел овладеть у всех на виду, при этом не бросая своей сигары. Меня это совсем не веселило, а делалось это все для публики…
В любви моральное чувство мне было совершенно незнакомо».
– Оставьте, – возражал ему Доде. – Вы циничны с мужчинами, но сентиментальны с дамами.
– Подтверждаю, это так! – соглашался Флобер. – И даже с женщинами из борделя, которых я называю мой маленький ангел.
Неистовое распутство Доде забавляло Флобера, в жизни которого не было ничего такого, по поводу чего он мог разродиться подобными излияниями: «У породистых лошадей и стилистов вены полны крови, и видно, как они бьются под кожей от кончиков ушей до ботинок. То же со словами. Жизнь! Жизнь! Возбуждаться, в этом все!»
В одни моменты – как, например, в тот день, когда вместе с Максимом де Кампом они находились в Бресте и без особого желания отправились в жалкий бордель, – Флобер охотно предавался ностальгии, вспоминая о прежних шлюхах, и его воспоминания приобретали тон «Баллады о дамах прежних времен»: «Она была прекрасна, когда на высоком мысе поднималась среди колоннады храмов и на ее розовые ступни ниспадала золотая бахрома ее туники или когда, сидя на персидских подушках, она беседовала с мудрецами, поигрывая своим колье из камей.
Она была прекрасна, стоя обнаженной на пороге дома на своей улице Сюбюрры в свете смоляного факела, который потрескивал в ночи, пока она протяжно пела грустную кампанскую песню и когда с Тибра доносились длинные рефрены оргии.
Она была такой же прекрасной в своем старом доме в Сите, позади своего витража в свинцовой оправе, среди шумных студентов и развращенных монахов, когда, не боясь сержантов, на дубовые столы с грохотом бросали огромные оловянные кувшины и когда трухлявые кровати ломались под весом тел.
Она была прекрасна, когда, облокотившись на зеленый ковер, она поглядывала на золото провинциалов, с ее высокими каблуками, осиной талией, париком, словно усыпанным инеем, пахучая пудра которого падала ей на плечи, с ее розой сбоку и мушкой на щеке. Еще она была прекрасна среди козьих шкур казаков и английских униформ, когда бросалась в толпу людей, а ее грудь сверкала на рынке игорных домов, у выставки ювелира, в сиянии кафе, между голодом и серебром.
Но мне жаль эту проститутку. (…) Вот что думал я, лежа на софе у этих дам и продолжая жевать мою потухшую сигару. Я не сделал ничего другого, и, вернувшись, мы в наших душах оплачем потерянный тип, чья банальная карикатура вызывала у нас скуку».
В другие вечера у Бребана он вспоминал о своих первых неудачных сексуальных контактах, которые вместе с ненавистью к руанскому коллежу, «этому чертовому дерьмовому бардаку», куда он был помещен, стали причиной его меланхолии и ощущения чувственной нищеты, которое он часто испытывал и которое его мастурбация не могла умерить.
Флобер мечтал о странах чудесной чувственности: «Я видел Восток и его бескрайние пески, его дворцы, в которых бродят верблюды с серебряными колокольчиками; я видел, как кобылицы скачут к горизонту, красному от заходящего солнца; я видел голубые волны, чистое небо, серебристый песок; я чувствовал запах теплых полуденных океанов; а также рядом, совсем близко от меня, под тентом, в тени алоэ с длинными листьями, какую-то женщину с темной кожей и пылким взглядом, которая обвила меня руками и говорила мне что-то на языке гурий».
Проститутки, след которых он чуял на пороге закрытых домов в порту, были единственным утешением в его страданиях. Однако робость его сдерживала. Его друзья, подстрекаемые неким Морелем, шалопаем, который был завсегдатаем публичных домов и из которого он впоследствии сделает персонаж первой редакции «Воспитания чувств», смеялись над его малодушием и наивностью: «Меня высмеивали за мое целомудрие, я краснел, мне было стыдно, мое целомудрие меня тяготило, как если бы происходило от развращенности». А однажды он присоединился к компании, которая шествовала по направлению к борделю на улице дю Платр, неподалеку от квартала де ля Сэн. Ставни дома были открыты, и туда вели три ступеньки. Это произошло в 1837–1838 годах, ему было тогда шестнадцать.
Инициация оказалось горькой и разбила его прекрасные поэтические мечты, которые он набожно создал, пребывая в неведении отрочества. Мечта разбилась. Физическая любовь, плотские утехи, которые озаряли его ночи школьника, предстали перед ним как отвратительный маскарад и, хуже, как профанация: «Предо мной предстала женщина, я овладел ею и вышел из ее объятий, переполненный отвращением и горечью». Это было совсем не то, чего он ожидал. Идеальная шлюха, о которой он мечтал и о которой он долго будет мечтать впоследствии, не присутствовала на свидании в борделе на улице дю Платр. «Священный огонь моей души погас в грязи», – констатировал он затем.
В мае 1848 года Флобер написал Максиму дю Кампу: «По глупости я вчера переспал с одной грязной добрячкой с тем же самым чувством нищеты, которая подталкивала меня в коллеж, когда я был в тюрьме. Сперма попала мне на брюки, что вызвало у меня смех, и мне пришлось стираться и стираться…»
* * *
Более прозаический Теофиль Готье, чувствуя щекотку любопытства, осыпал нетерпеливыми вопросами своего друга по лицею Шарлемань, который уехал жить в Египет: «Милый Эжен, что ты поделываешь там в африканской лавке? Письма, которые ты посылаешь своим родителям, полны деталей относительно кухни, деталей очень интересных, если бы не недостаток интимности и свободы: есть ли в этом знаменитом городе шлюхи, красивы ли они, или же уродливы, как они занимаются любовью, сколько им платят, есть ли там сифилис и с кем или чем ты спишь?..»
Жерар де Нерваль был первым из компании, кто отправился в Египет. Он тоже мечтал о сказочном Востоке после того, как кто-то отвел его в один дом на Елисейских полях, где он впервые увидел, как танцуют баядерки. Он отправился туда в один из зимних дней с беспечностью путешественника, который – руки в карманах и нос по ветру – всегда полагается на случай и которого больше интересуют нравы, чем памятники.
На корабле, который вез его, его друг Жозеф де Фонтфред приобрел юную индианку по имени Зейнаб, так же как покупают себе собачонку: «(…) он хотел, чтобы я овладел ею, я этого не хотел, – писал он Теофилю Готье, – тогда он и сам не стал спать с ней; на этом мы и остановились». Не было совершенно никакой необходимости в том, чтобы покупать себе компаньонку, содержание которой очень скоро стало обходиться дорого, тем более что улицы были полны проституток. Нерваль уточнял: «Можно получить женщину, какую тебе угодно. Женятся на гречанках, коптках, и это гораздо дешевле, чем покупать женщин, как имел глупость поступить мой спутник. Они воспитаны в привычках гарема, и им нужно служить – а это утомляет». Не обошлось, впрочем, и без разочарований, так как чрезвычайная нищета приводила в проституцию неизвестно кого.
Несмотря на все, что рассказывалось о легкости нравов, встреченном на райском Востоке, обладание золотыми монетами все же было совершенно необходимым для того, чтобы совершить эротическое путешествие. Без них не было никаких шансов приблизиться к прекрасным куртизанкам. Однажды, когда Максим дю Камп и Гюстав Флобер решили совершить путешествие вокруг Средиземного моря от Каира до Флоренции, минуя Бейрут, Константинополь, Афины и Рим, они попытались добиться того, чтобы государство послало их туда с какой-нибудь миссией. Один из них (Флобер) получил от министерства сельского хозяйства и торговли поручение собирать сведения относительно всего, что могло бы принести пользу внешней торговле Франции; второму министерством народного образования было поручено сфотографировать египетские памятники.
Они знали друг друга к тому моменту уже восемь лет. Общая любовь к литературе сделала их неразлучными. «Когда я познакомился с Гюставом Флобером, ему исполнился двадцать один год. Его красота была героической», – говорил Максим дю Камп. Влюбленный в путешествия, обладатель предприимчивого характера, дю Камп был единственным человеком, которому удалось оторвать Флобера от его привычек домоседа. Их первое путешествие привело их в закрытые дома Турани и Бретани. В этом не было ничего удивительного, так как помимо общей страсти к литературе, у них была еще одна – страсть к женщинам. Когда 15 ноября 1849 года после утомительного одиннадцатидневного путешествия друзья достигли Александрии, Максим сразу же пустился на поиски женщины. «Едва мы ступили на землю, как этот противный Максим Дю Камп уже возбудился из-за одной негритянки, которая зачерпывала воду в источнике, – писал Флобер. – Его возбуждали и негритята. Кто его только не возбуждал! А точнее сказать, что».
Дабы не шокировать египтян своими неортодоксальными манерами, Флобер дождался, когда они прибыли в Каир, чтобы там уже выпустить свои желания на свободу.
Их первых восточных женщин им предложила сводня позади отеля, в котором они остановились. Это были две турчанки, роскошно одетые в шелковые одеяния, расшитые золотом. Разговаривать было невозможно, так как они не понимали их языка. После нескольких музыкальных номеров, исполненных на тарабуке, дамы стали обмываться. «Адели не сняла своей рубашки, сделав мне знак, что у нее болит грудь», – отметил Флобер. Циновка, на которую она его увлекла, занимала целая свора кошек. Девушка разогнала их ногой и легла. У нее был замечательный зад, а ее гладкая бритая кожа отливала бронзой. «Странное совокупление, когда люди смотрят друг на друга и не могут разговаривать. Взгляд был одновременно любопытным и изумленным. Я, кроме того, получил мало удовольствия, так как был ошеломлен. Бритый лобок производит смешной эффект». Затем она помогла ему одеться. «Ее арабская речь, которой я не понимал. Это были вопросы из трех или четырех слов, и она ждала ответа, глаза встречались, от этого выразительность взгляда усиливалась…»
Это безмолвное совокупление, в котором глаз должен был полностью заменить речь, придали объятиям ощущение абсолюта, которым он переполнился. Как циклон подпитывается влагой, забираемой у океана, их неистовое желание перемещаться подпитывалось удовольствиями, которые доставляли им эти превосходные девушки. «Черт побери! что за прекрасные девушки в Назарете! Чертовы бабы у источников с кувшинами на головах. Благодаря их платьям, обтягивающим бедра, у них восхитительно двигаются зады».
Цинизм – это ирония порока, как говорил он, придаваясь неистовствам, как, например, в Бейруте, куда их пригласил старый друг Теофиля Готье, художник Камил Рожье (он уехал туда жить). «Он подарил нам Утро девушек, – писал Флобер своему другу Буиле. – Я овладел тремя женщинами, получил четыре оргазма, из которых три были до завтрака, а один после десерта. Я даже предложил сводне пойти со мной в конце всего этого. Но так как я отказал ей сначала, она не захотела. Я, однако, хотел бы проделать такую выходку, чтобы с блеском завершить дело и создать о себе хорошее впечатление. Молодой дю Камп смог только один раз. У него член болел из-за шанкра, подцепленного в Александрии. Я, впрочем, вызвал негодование турецких женщин своим цинизмом, когда мыл свой член в присутствии всего общества. (…) Я помню одну [девушку] с черными курчавыми волосами, в которые была вплетена ветка жасмина; ей, как мне показалось (из-за запахов, которые исходили от нее), было хорошо, когда я эякулировал в нее. У нее был немного вздернутый нос и глазная корка на внутренней стороне правого века. Это было утром, и она, несомненно, просто не успела умыться. Это были в полном смысле светские дамы, как говорят у нас, которые под руководством доброй сводни обслуживали клиентов для удовольствия и небольшого заработка».








