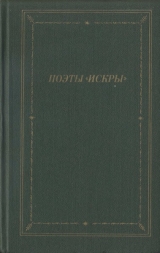
Текст книги "Поэты «Искры». Том 1"
Автор книги: Василий Курочкин
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Как Дионисия из царства
Изгнал храбрец Тимолеон,—
Тиран, пройдя чрез все мытарства,
Открыл в Коринфе пансион.
Тиран от власти не отстанет:
Законы в школе издает;
Нет взрослых, так детей тиранит.
Тиран тираном и умрет.
Ведь нужно всё чинить и ведать —
Он справедлив, хотя и строг:
Как подадут детям обедать —
Сейчас с их трапезы налог.
Несут, как некогда в столицу,
Орехи, виноград и мед.
Целуйте все его десницу!
Тиран тираном и умрет.
Мальчишка, глупый, как овечка,
Последний в школе ученик,
В задачку раз ввернул словечко:
«Тиран и в бедствиях велик».
Тиран, бессмыслицу читая,
«Он далеко, – сказал, – пойдет» —
И сделал старшим негодяя.
Тиран тираном и умрет.
Потом, другой раз как-то, слышит
Он от фискала своего,
Что там в углу товарищ пишет,
Должно быть, пасквиль на него.
«Как? Пасквиль?! Это всё от воли!
Ремнем его! И чтоб вперед
Никто писать не смел бы в школе!»
Тиран тираном и умрет.
И день и ночь его страшили
Следы измены и интриг.
Раз дети на дворе дразнили
Двоих каких-то забулдыг.
Кричит: «Идите без боязни!
Им нужен чужеземный гнет.
Я им отец – им нужны казни».
Тиран тираном и умрет.
Отцы и матери озлились
На непотребный пансион
И Дионисия решились
И из Коринфа выгнать вон.
– Так чтоб, как прежде, благодатно
Теснить и грабить свой народ —
В жрецы вступил он. Вот так знатно!
Тиран тираном и умрет.
<1869>
Народной скорбию болея,
Я впал в мечтательность – и вдруг
Проходит предо мной идея.
Идея? Да, трусливый друг.
Еще слаба, но уж красива;
Звук речи тверд, взгляд детски прост.
Никто как бог – увидим живо
Ее развитие и рост.
Одна навстречу грубой силе!
Я ей кричу: «Дитя! страшись:
Шпионы уши навострили,
Жандармы грозно собрались».
– «В мою же пользу их гоненье.
Иду с надеждою вперед.
Теперь уж всё мое значенье
Поймет наверное народ».
«Страшись, дитя, земля трясется
Под тяжестью густых колонн,
И, сабли наголо, несется
За эскадроном эскадрон».
– «Я, не трубя, не барабаня,
Бужу уснувших силой слов
И для вербовки в их же стане
Пройду одна среди штыков».
«Страшись, чтоб не был уничтожен
Здесь на земле твой самый след.
Беги: фитиль в орудье вложен,
Минута – и спасенья нет».
– «А завтра ядра и картечи
В мою защиту запалят
Свои ораторские речи;
Ведь пушка тот же адвокат».
«Ты депутатов раздражила».
– «Моя же сила их смирит».
– «В темнице сгибнет эта сила».
– «Темница дух мой окрылит».
– «Гремят проклятья клерикалов».
– «А завтра мне кадить пойдут».
– «Уж ополчилась рать вассалов».
– «Я в их рядах найду приют».
И вдруг ужасная картина:
Потоки крови, море зла,
Венок победы дисциплина
С простертой храбрости сняла.
Но побежденным с новой силой
Идея лавры раздает
И, умилясь пред их могилой,
Летит с их знаменем вперед.
<1870>
Я дружен стал с нечистой силой,
И в зеркале однажды мне
Колдун судьбу отчизны милой
Всю показал наедине.
Смотрю: двадцатый век в исходе,
Париж войсками осажден.
Все те же бедствия в народе —
И всё командует Бурбон.
Всё измельчало так обидно,
Что кровли маленьких домов
Едва заметны и чуть видно
Движенье крошечных голов.
Уж тут свободе места мало,
И Франция былых времен
Пигмеев королевством стала —
Но всё командует Бурбон.
Мелки шпиончики, но чутки;
В крючках чиновнички ловки;
Охотно попики-малютки
Им отпускают все грешки.
Блестят галунчики ливреек;
Весь трибунальчик удручен
Караньем крошечных идеек —
И всё командует Бурбон.
Дымится крошечный заводик,
Лепечет мелкая печать,
Без хлебцев маленьких народик
Заметно начал вымирать.
Но генеральчик на лошадке,
В головке крошечных колонн,
Уж усмиряет «беспорядки»…
И всё командует Бурбон.
Вдруг, в довершение картины,
Всё королевство потрясли
Шаги громадного детины,
Гиганта вражеской земли.
В карман, под грохот барабана,
Всё королевство спрятал он.
И ничего, хоть из кармана —
А всё командует Бурбон.
<1871>
(1849)
Барабаны, полно! Прочь отсюда! Мимо
Моего приюта мирной тишины.
Красноречье палок мне непостижимо;
В палочных порядках бедствие страны.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Чуть вдали заслышит дробные раскаты,
Муза моя крылья расправляет вдруг…
Тщетно. Я зову к ней, говорю: куда ты?
Песни заглушает глупых палок стук.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Только вот надежду подает природа
На благополучный в поле урожай,
Вдруг команда: «палки!» И прощай свобода!
Палки застучали – мирный труд прощай.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Видя для народа близость лучшей доли,
Прославлял я в песнях братство и любовь;
Барабан ударил – и на бранном поле
Всех враждебных партий побраталась кровь.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Барабан владеет Франциею милой:
При Наполеоне он был так силен,
Что немолчной дробью гений оглушило,
Заглушен был разум и народный стон.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Приглядевшись к нравам вверенного стада,
Властелин могучий, нации кумир,
Твердо знает, сколько шкур ослиных надо,
Чтобы поголовно оглупел весь мир.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Всех начал начало – палка барабана;
Каждого событья – вестник барабан;
С барабанным боем пляшет обезьяна,
С барабанным боем скачет шарлатан.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Барабаны в доме, барабаны в храме,
И последним гимном суеты людской,
Впереди подушек мягких с орденами,
Мертвым льстит в гробах их барабанный бой.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Барабанных песен не забудешь скоро;
С барабаном крепок нации союз.
Хоть республиканец – но тамбур-мажора,
Смотришь, в президенты выберет француз.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
<1871>
Неизвестный автор
Нам лица морщит без пощады
Седого времени рука,
И, хоть сверкают наши взгляды,
Друзья, к нам старость уж близка.
Но перед новым поколеньем
Не заметать самим свой след
На всё живое озлобленьем —
Еще не старость это, нет!
Вином и песнями мы тщетно
Стремимся сбросить гнет годов;
По взорам юношей заметно,
Что в нас уж видят стариков.
Но песни петь, забыв про годы,
С восторгом юношеских лет —
Шатаясь даже – в честь свободы —
Еще не старость это, нет!
Перед красавицей напрасно
Огонь любви волнует нас.
Проходят дни; бедняжке ясно,
Что юный жар в крови угас.
Но без волнений страсти мнимой,
Сорвав любви роскошный цвет,
Стать другом женщины любимой —
Еще не старость это, нет!
Что б мы ни пели – мы стареем;
Так что ж – чем старше вся семья,
Тем больше прав мы все имеем
На титул: старые друзья.
Но, идя под гору толпою,
Движенью новому привет
Дрожащей посылать рукою —
Еще не старость это, нет!
<1871>
ЛИРИЧЕСКАЯ ОПЕРА В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ И ШЕСТИ РИФМАХ С ПРОЛОГОМ
Госпожи и господа! В этой пьесе
Американский принц женится на африканской принцессе,
Но долг чести зовет принца в бой кровавый,
Где он и умирает, увенчанный славой.
За добродетель, обаче, ему жизнь возвращается.
Всё сие ново и любопытно. Занавес поднимается.
Принц и Принцесса (входят по совершении брачного обряда).
Принцесса
С законным браком, принц.
Принц
И вас, моя драгая.
Народ, пляши и пой, блаженство выражая.
Народ
Воспляшем, воспоем, блаженство выражая.
Конец первого действия.
За сценой происходит сражение. Слышны удары сабель. Принц входит, преследуемый врагами, сражается с ними и падает, убиенный. За ним входит Принцесса.
Принцесса
(с ужасом)
Супруг!
Принц
Супруга!
Принцесса
(с сугубым ужасом)
Что!
Принц
(с сугубою слабостью)
Я умер.
Принцесса
Ах, как жаль!
Народ, пляши и пой, чтоб выразить печаль!
Народ
Воспляшем, воспоем, чтоб выразить печаль!
Конец второго действия.
Паллада усмотрела храбрость американского принца и положила предел преследованиям злобного Рока. Блещущая славой богиня, восседя на позлащенном кресле и указуя на бездыханный труп, глаголет сице:
Паллада
Я жизнь тебе дарю!
Принцесса
(умиленно)
О, чудо!
Принц
(вскакивает как бы встрепанный)
Я воскрес!
(Несколько раз перевертывается на одной ноге в восторге.)
Народ, пляши и пой! Се – чудо из чудес!
Народ
Воспляшем, воспоем! Се – чудо из чудес!
Конец третьего и последнего действия.
<1875>
Альфред де Виньи1
Как над пожарищем клубится дым летучий,
Над раскаленною луною плыли тучи.
Мы просекою шли. Недвижно мрачный лес,
Чернея, достигал верхушками небес.
Мы шли внимательно – и вдруг у старой ели
Глубокие следы когтей мы разглядели;
Переглянулись все, все затаили дух,
И все, остановясь, мы навострили слух.
– Всё замерло кругом. Деревья не дышали;
Лишь с замка старого, из непроглядной дали,
Звук резкий флюгера к нам ветер доносил,
Но, не спускаясь вниз, листвой не шелестил,—
И дубы дольние, как будто бы локтями
На скалы опершись, дремали перед нами.
На свежие следы пошел один из нас —
Охотник опытный: слух чуткий, верный глаз
Не изменял ему, когда он шел на зверя,—
И ждали молча мы, в его уменье веря.
К земле нагнулся он, потом на землю лег,
Смотрел внимательно и вдоль и поперек,
Встал и, значительно качая головою,
Нам объявил, что здесь мы видим пред собою
След малых двух волчат и двух волков больших.
Мы взялись за ножи, стараясь ловко их
Скрывать с блестящими стволами наших ружей,
И тихо двинулись. Как вдруг, в минуту ту же,
Ступая медленно, цепляясь за сучки,
Уж мы заметили – как будто огоньки —
Сверканье волчьих глаз. Мы дальше всё стремились,
И вот передние из нас остановились.
За ними стали все. Уж ясно видел взгляд
Перед волчицею резвившихся волчат,
И прыгали они, как псы с их громким лаем,
Когда, придя домой, мы лаской их встречаем;
Но шуму не было: враг-человек зверям
Повсюду грезится, как призрак смерти нам.
Их мать красиво так лежала перед ними,
Как изваяние волчицы, славной в Риме,
Вскормившей молоком живительным своим
Младенцев, призванных построить вечный Рим.
Спокойно волк стоял. Вдруг, с молнией во взгляде,
Взглянув кругом себя, поняв, что он в засаде,
Что некуда бежать, что он со всех сторон
Людьми с рабами их борзыми окружен,
Он к своре бросился и, землю взрыв когтями,
С минуту поискал, кто злее между псами…
Мы только видели, как белые клыки
Сверкнули, с жертвою, попавшею в тиски.
Казалось, не было такой могучей власти,
Чтоб он разжал клыки огнем дышавшей пасти:
Когда внутри его скрещался нож об нож,
Мы замечали в нем минутную лишь дрожь;
Одна вслед за другой в него влетая, пули
В тот только миг его значительно шатнули,
Когда, задавленный, из челюстей стальных,
Свалился наземь пес в конвульсиях немых.
Тогда, измерив нас уж мутными глазами,
В груди и в животе с вонзенными ножами,
Увидев в близости стволов грозящих круг,—
До выстрела еще, он на кровавый луг
Лег сам – перед людьми и перед смертью гордый,—
Облизывая кровь, струившуюся с морды.
Потом закрыл глаза. И ни единый звук
Не выдал пред людьми его предсмертных мук.
2
Не слыша более ни выстрела, ни шума,
Опершись на ружье, я увлечен был думой.
Охотники давно преследовать пошли
Волчицу и волчат – и были уж вдали.
Я думал о вдове красивой и суровой.
Смерть мужа разделить она была б готова,
Но воспитать детей повелевал ей долг,
Чтобы из каждого хороший вышел волк:
Чтобы не шел с людьми в их городах на стачки,
Чтоб голод выносил, но чтоб не брал подачки,—
Как пес, который гнать из-за куска готов
Владельцев истинных из их родных лесов.
3
Альфред де Мюссе
О! если б человек был так же духом тверд,
Как званием своим «царя зверей» он горд!
Бесстрашно умирать умеют звери эти;
А мы – гордимся тем, что перед ними дети!
Когда приходит смерть, нам трудно перенять
Величие зверей – умение молчать.
Волк серый! Ты погиб, но смерть твоя прекрасна.
Я понял мысль твою в предсмертном взгляде ясно.
Он говорил, твой взгляд: «Работай над собой
И дух свой укрепляй суровою борьбой
До непреклонности и твердости могучей,
Которую внушил мне с детства лес дремучий.
Ныть, плакать, вопиять – всё подло, всё равно.
Иди бестрепетно; всех в мире ждет одно.
Когда ж окрепнешь ты, всей жизни смысл проникнув,—
Тогда терпи, как я, и умирай, не пикнув».
<1864>
Когда я был еще дитей,
В обширной зале и пустой
Сижу я вечером, все спят…
Войдя неслышною стопой,
Весь в черном, мальчик сел со мной,
Похожий на меня, как брат.
При слабом трепете огня
Взглянул он грустно на меня
И грустно голову склонил;
Всю ночь с участием в очах,
С улыбкой кроткой на устах
Он от меня не отходил.
Я покидал отцовский дом,
И живо помню: знойным днем,
Войдя в заглохший дикий сад,
Увидел я в тени ракит —
Весь в черном, юноша сидит,
Похожий на меня, как брат.
Куда идти мне – я спросил.
Он тихо лиру опустил
И, сняв венок из диких роз,
Как друг, кивнул мне головой
И холм высокий и крутой
Мне указал на мой вопрос.
Когда любил я в первый раз —
До утра не смыкая глаз,
Тоской неведомой объят,
Я плакал… Вдруг передо мной —
Весь в черном, призрак роковой,
Похожий на меня, как брат.
Он меч держал в одной руке
И, как в ответ моей тоске,
Другою мне на свод небес
С тяжелым вздохом указал…
Моим страданьем он страдал,
Но, как видение, исчез.
На шумном пиршестве потом
Приподнял я бокал с вином,
И вдруг – знакомый вижу взгляд…
Смотрю: сидит в числе гостей
Один, весь в черном, всех бледней,
Похожий на меня, как брат.
Был миртовый венец на нем
И черный плащ, и под плащом
Багряной мантии клочки.
Со мной он чокнуться искал —
И выпал из моей руки
Неопорожненный бокал.
Я на коленях до утра
Всю ночь проплакал у одра,
Где мой отец был смертью взят;
И там, как вечная мечта,
Сидел, весь в черном, сирота,
Похожий на меня, как брат.
Он был прекрасен, весь в слезах,
Как ангел скорби в небесах:
Лежала лира на земле;
Он в багрянице был, с мечом,
В груди вонзенным, и с венцом
Колючих терний на челе.
Как верный друг, как брат родной,
Где б ни был я, везде за мной,
В глухую ночь и в ясный день,
Как демон на моем пути
Или как ангел во плоти,
Следила дружеская тень.
Усталый сердцем и умом,
Оставив родину и дом
И весь в крови от старых ран,
Пустился я в далекий путь,
Чтобы найти хоть где-нибудь
Самозабвения обман.
Куда ни проникал мой взор:
В величии громадных гор,
Среди смеющихся полей,
В уединении дубров,
В тревоге вечной городов
И в вечном ропоте морей;
Везде под сводом голубым,
За Горем старым и хромым
На вечной привязи бродя,
Где я, со всеми зауряд,
И сердце утомлял и взгляд,
Незримо кровью исходя;
В странах, куда летел душой
За вечно жаждущей мечтой
И где встречал я вечно то ж,
Что и бросал, стремившись вдаль,
И с чем расстаться было жаль,—
Других людей и ту же ложь;
Везде, где, встретив то же зло,
Сжимал руками я чело
И, будто женщина, рыдал;
Где рок безжалостной рукой
С души, как шерсть с овцы тупой,
Мечты последние срывал;
Повсюду, где лежал мой путь
И где забыться и уснуть,
Хоть навсегда, я был бы рад,—
Везде, как призрак роковой,
Весь в черном, странник шел за мной,
Похожий на меня, как брат.
* * *
Но кто ты, спутник мой, с которым неизбежно
Судьба меня свела?
Я вижу по твоей задумчивости нежной,
Что ты не гений зла:
В улыбке и слезах терпимости так много,
Так много доброты…
При взгляде на тебя я снова верю в бога
И чувствую, что мне над темною дорогой
Сияешь дружбой ты.
Но кто ты, спутник мой? В моей душе читая,
Как добрый ангел мой,
Ты видишь скорбь мою, ничем не облегчая
Тернистый путь земной;
Со мной без устали дорогою одною
Идешь ты двадцать лет:
Ты улыбаешься, не радуясь со мною,
Ты мне сочувствуешь безвыходной тоскою,—
О, кто ты? Дай ответ!
Зачем всю жизнь тебя, с участием бесплодным,
Мне видеть суждено?
– Ночь темная была, и ветер бил холодным
Крылом в мое окно;
Последний поцелуй на бедном изголовьи
Еще, казалось, млел…
А я уж был один, покинутый любовью,
Один – и чувствовал, что, весь омытый кровью,
Мир сердца опустел…
Мне всё прошедшее ее напоминало:
И прядь ее волос,
И письма страстные, что мне она писала,
Исполненные слез;
Но клятвы вечные в ушах моих звучали
Минутной клятвой дня…
Остатки счастия в руках моих дрожали,
Теснили слезы грудь и к сердцу подступали…
И тихо плакал я.
И, набожно свернув остатки, мне святые,
Как заповедный клад,
Я думал: вот любовь и грезы золотые
Здесь мертвые лежат…
Как в бурю мореход, не видящий спасенья,
На злую смерть готов,
Тонул в забвеньи я и думал: прах и тленье!
Листок, клочок волос спаслися от забвенья,
Чтоб пережить любовь!
Я приложил печать; всё прошлое покорно
Я ей хотел отдать…
Но сердце плакало – и верило упорно
Ее любви опять…
О безрассудный друг! ребенок вечно милый,
Ты вспомнишь обо всем.
Зачем, о боже мой! когда ты не любила,
Зачем рыдала ты и ласками дарила,
Пылавшими огнем?
Ты вспомнишь, гордая, забытые рыданья,
Рыдать ты будешь вновь,
И в гордом сердце вновь проснется, как страданье,
Погибшая любовь;
Прости – ты в гордости найдешь успокоенье,—
Прости, неверный друг!
Я в сердце схоронил минувшие волненья,
Но в нем осталися заветные биенья,
Чтоб жить для новых мук.
Вдруг что-то черное в глазах моих мелькнуло
И в тишине ночной
Как будто пологом постели шевельнуло…
Мой призрак роковой,
Весь в черном, на меня смотрел обычным взглядом.
Но кто ты, мой двойник?
Как вещий ворон, ты ко мне подослан адом,
Чтоб в бедствиях меня, как смерть, со мною рядом
Пугал твой бледный лик!
Мечта ль безумца ты? мое ли отраженье?
Быть может, тень моя?
Зачем ты следуешь за мною, привиденье,
Где ни страдаю я?
Кто ты, мой бедный гость, сдружившийся с тоскою,
Свидетель скрытых мук?
За что ты осужден идти моей стезею?
На каждую слезу ответствовать слезою?
Кто ты, мой брат, мой друг?
ВИДЕНИЕ
Марк Монье
О мой брат! не злой я гений,
Не из горних я селений;
Но один у нас отец.
Те, кого я посещаю,
Я люблю их – и не знаю,
Где их бедствиям конец.
В мире братья мы с тобою:
Ты бесстрастною судьбою
Вверен мне от детских дней.
За тобой пойду я всюду,
Ты умрешь – я плакать буду
Над могилою твоей.
Не могу тебе сжать руку;
Усладить не в силах муку
И страдания любви;
Но я старый друг печали,
И меня, – как прежде звали,—
Одиночеством зови.
<1858>
(КУКОЛЬНАЯ КОМЕДИЯ)
Предлагаемая шуточная комедия заимствована (я не могу по совести назвать свой веселый труд переводом) из вышедшей в 1871 году книжки «Théâtre des marionnettes» par Marc Monnier и в подлиннике носит заглавие «Le roi Babolein». Кроме нее, в книге помещено шесть комедий, представляющих последовательно сатиры на европейские события последнего времени. «Le roi Babolein», как сатира, не имеющая непосредственной цели и при общем ее литературном значении не заключающая в себе никаких политических намеков, представляет все удобства для ознакомления русской публики в переводе с замечательною книгою Марка Монье.
(Из предисловия Виктора Шербюлье к книге «Théâtre des marionnettes»)
Друг-читатель, позволь тебе рекомендовать этот томик. Это сборник комедий в стихах, и – не в обиду тебе – действие их происходит в фантазии, действуют же в них куклы. Не возражай мне раньше времени, что куклы не интересуют тебя, как существо относительно высшей породы. Марионетка пляшет в направлении, сообщаемом ей невидимою ниткою. Если ты можешь объяснить мне, чем это определение не подходит к нам, людям, я – клянусь тебе – соглашусь, что ты перехитрил меня. У нас, кукол, покрытых плотью, разум, конечно, из более тонкой материи, весь механизм наш сложнее, идеи не так просты и страсти менее непосредственны; мы любим пространные и нелепые рассуждения; мы громадными усилиями достигаем цели: удалиться как можно дальше от нашей природы. У нас нет заблуждения, на котором мы бы не построили теории, красноречиво доказывающей, что мы правы в нашей неправде, – мы никак не можем в оправдание наших пороков ссылаться на наивную чистоту нашего сердца: условные требования чести сделали из нас педантов и софистов. Как неизмеримо откровеннее, наивнее и проще нас деревянные куклы! Им неизвестна путаница наших слов и понятий: у них лица действительно зеркала душ, и их страсти приводятся в движение нитками так же непроизвольно, как их жесты. Эти маленькие механизмы то поют, то плачут, то ругаются – как бог на душу положил, – и при этом физиономии их сохраняют всегда одно и то же выражение. Они прямо вываливают всё, что им ни придет в голову, беззаветно смеются или орут во все легкие, смотря по тому, какая их шевельнет нитка. И всё это просто, всё это уморительно-балаганно, хотя иногда в деревянных дощечках их груди вспыхивает такой гнев, перед которым бледнеет наше холодное, сдерживаемое теориями негодование.
Тебя, может быть, скандализируют палочные удары, обыкновенно в изобилии расточаемые марионетками в этом идеальном королевстве фантазии, где действительно палка является безапелляционным орудием решения наисложнейших вопросов. Не скандализируйся, однако, и не относись к бедным марионеткам презрительно. Не думаешь ли ты, что палочных ударов рассыпается кругом тебя меньше? Когда тебе самому делают честь, угощая ими тебя в форме, несколько менее оскорбляющей твою гордость, неужели ты так наивен, что не чувствуешь на себе их силу? Друг-читатель, поверь, какая бы палка ни управляла нашими судьбами, она всё равно отзывается больно в спине и в душе унижением.
Прими еще вот что во внимание. Во всех комедиях, которые мы привыкли видеть, сидя в театральных креслах, перед тобою обыкновенно проходят великодушные банкиры, бескорыстные чиновники, идеальные лавочники, олицетворяющие собою незыблемые гражданские и семейные начала. Все они действуют как будто взаправду, рассуждают о добродетелях и процентных бумагах, вежливо расшаркиваются с дамами и девицами высшего и среднего круга, иногда даже с умеющими держать себя в обществе и роскошно одетыми пейзанами. Но в конце концов, прежде чем опуститься занавесу, молодой человек Артур непременно на глазах твоих соединяется узами Гименея с девицей Евгенией. Я ничего не имею против этого брака; это уж так определено свыше; но с незапамятных времен – свадьба Артура и Евгении, и каждый день ничего больше, как свадьба Артура и Евгении, – согласись, в этой развязке нет ничего тобою непредусмотренного, следовательно, вряд ли она тебе может всегда доставлять удовольствие. Позабудь же на полчаса свои обычные зрелища, приложи глаз к стеклам вертепа, расставляемого перед тобою поэтом, и перенесись с ним без всякой задней мысли в наивные страны абсурда, чтобы позабыться на время «в чародействе красных вымыслов». Ты увидишь между разными диковинками дровосека, злою игрой случая обратившегося в принца. Ты увидишь, как он сначала счастлив своим новым жребием, и как скоро затем следует разочарование, и он возвращается в лес свой. Его жена – воплощенная житейская мудрость, не лишенная своего рода безыскусственной грации и полная любви. Она рассуждает как нельзя лучше для куклы; правдивое чувство ее еще удивительнее: уверяю тебя, я не много знаю сердец, которые бились бы так верно и правильно, как это деревянное сердце. Послушай, например, ее рассуждения о тщете земного величия и преимуществах перед нею темной, спокойной доли. Всё это, конечно, ты не раз слышал, но автор заставил для тебя говорить кукол их простым безыскусственным языком, чтобы нехитрые истины не затемнялись перед тобою обычными и только условно-необходимыми хитросплетениями.
Еще одно – и последнее слово. Ты будешь смеяться, читая эти комедии, – это удивительно много для нашего времени! Да, марионетки взяли на себя смелость быть веселыми: их слова могут разогнать твою меланхолию, и, так как смех дело очень серьезное, может быть, ты и призадумаешься. Если же ты боишься приливов к голове крови и не хочешь думать – будь доволен тем, что ты посмеешься – все-таки выхватишь у неумолимой злобы жизни веселый час, в который забудешь нестройный тяжелый шум, иногда очень чувствительно терзающий слух твой в вечном поступательном движении нашей старой планеты.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КУКЛЫ:
Лутоня.
Лутониха.
Слоняй.
Ясам.
Первый старец.
Казначей.
Поэт.
Отец-командир.
Философ.
Публицисты:
1-й
2-й
3-й
Шамбелланы:
1-й
2-й
3-й
Мажордом.
Герольд.








