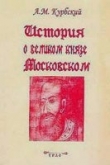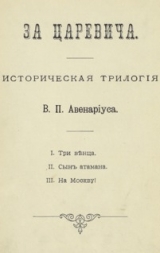
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)
[]
– И все это, сын мой, ты сам начертал? – явственно донесся теперь голос царя.
– Сам, царь-батюшка, – прозвенел ответ царственного отрока.
– Теперь я, стало быть, могу умереть спокойно; у меня есть преемник, знающий свой край*.
______________________
* Карта России с планом Москвы, сделанная рукой царевича Федора Борисовича Годунова, сохранилась до нашего времени. Точный снимок с нее приложен к изданию Н. Устрялова: "Сказания современников о Димитрии Самозванце".
"Он хочет принизить во мне моего царевича перед всеми Царедворцами!" – ударило в голову Курбского, и, забыв уже о придворных обрядностях, которыми обставлен всякий подобный прием, он без приглашения сделал несколько шагов вперед. Такая бестактная смелость видимо озадачила самого Годунова. Он окинул смельчака хмурым, огненным взглядом. Этот его орлиный взгляд и поистине царственная осанка, вместе со всем окружающим величием царского сана, смутили Курбского. Отвесив поклон, он с ненужной торопливостью, захватывавшею дух, произнес обычную формулу приветствия от имени своего царевича; после чего, подойдя к самому трону, с новым поклоном хотел вручить Годунову грамоту царевича – большой пергаментный свиток, завязанный шелковым шнуром и припечатанный сургучной печатью. Никто раньше не догадался предупредить его, что самому царю на Руси из рук в руки даже признанные иноземные послы ничего передавать не в праве, а потому Курбский счел опять знаком пренебрежения со стороны царя что тот обратился к сидевшему с краю старшему боярину:
– Прими-ка, князь Василий Иванович, и прочитай нам.
То был вчерашний посетитель Курбского, князь Василий Иванович Шуйский. Приняв свиток, Шуйский не спеша снял печать, развязал шнур, развернул свиток и стал затем читать его, читать громко, внятно и бесстрастно. Но вот и его голос, вполне, казалось, ему послушный, заметно дрогнул. Да и было от чего! Его устами, великому государю его, Борису Федоровичу, в присутствии всей боярской думы, во всеуслышанье говорились такие продерзостные речи:
"... Жаль нам, что ты душу свою, по образу Божию сотворенную, так осквернил, и в упорстве своем гибель ей готовишь; разве не знаешь, что ты смертный человек? Надобно было тебе, Борис, удовольствоваться тем, что Господь Бог дал; но ты, в противность воле Божией, будучи нашим подданным, украл у нас государство с дьявольской помощью..."
Далее перечислялись преследования, которым со стороны Годунова подверглись все приверженцы прежнего царского рода, а потом описывалось, как он "начал острить нож" и на младенца-царевича Димитрия, и как тот был спасен "по старанию" приставленного к нему врача Симеона.
Заканчивалось послание новым увещеванием: "Опомнись и злостью своей не побуждай нас к большему гневу. Отдай нам наше, и мы тебе, для Бога, отпустим все твои вины и место тебе спокойное назначим. Лучше тебе на этом свете что-нибудь претерпеть, чем в аду вечно гореть за столько душ, тобой погубленных"*.
______________________
* Подлинный текст грамоты Самозванца к Годунову.
По мере чтения Шуйским этой жестокой отповеди, облако на челе Годунова все более сгущалось, а взоры его, прикованные к губам чтеца, метали молнии. Но всякий раз, когда Шуйский запинался И вопросительно взглядывал на него, царь кивал головой, чтобы он продолжал.
"Хочет ли он до дна испить горькую чашу, – говорил себе, наблюдая за ним, Курбский, – или же, в безграничной гордыне своей, хочет показать и мне, и своим боярам, что он неколебим, как утес среди всяких бурь?"
– Все? – спросил Годунов, когда чтец умолк. – Подай сюда.
И, взяв у него грамоту, он изорвал ее вдоль и поперек, обрывки же смял в комок и комком бросил к ногам Курбского.
– Вот мой ответ!
Вступая, перед тем, в престольную палату, Курбский повторил про себя благоразумное предостережение Бутурлина – не раздражать царя, не перечить. Но теперь, когда грамота царевича Димитрия не только не возымела никакого успеха, но перед всей боярской думой подверглась такому поруганию, кровь хлынула ему в голову, и он вне себя крикнул:
– Государь! Это тебе так не пройдет...
Он прибавил бы, пожалуй, еще много неподобающего, не укажи на него Годунов своим телохранителям:
– Убрать его!
Те кинулись исполнить царскую волю. Курбский уже опомнился и без сопротивления отдался в их власть. Но тут, ко всеобщему изумлению, заговорил царевич Федор, этот безгласный в присутствии родителя, шестнадцатилетний отрок.
– Царь-батюшка! Коли он забылся, так от тяжкой обиды за того, кем прислан...
И, наклонясь еще ближе к отцу, царевич стал ему что-то нашептывать, умоляюще сложив руки. Борьба оскорбленного величия и нежного родительского чувства продолжалась недолго: последнее взяло верх.
– Оставьте его! – приказал Борис рындам, а затем отнесся к Курбскому, – на сей раз, князь, так и быть, тебе это не зачтется. Правду молвил царевич, что твоими устами говорил не ты сам, а приславший тебя. Его же вина, что прислал он ко мне не зрелого мужа, а молодчика, у коего, что на душе, то и на языке. Иди с миром, и да послужит тебе это вперед наукой.
Сознавая сам, что в своей обиде за царевича он хватил через край, Курбский, как провинившийся мальчик, потупил глаза в пол.
– А ответной грамоты не будет? – спросил он.
Годунов переглянулся опять со своим сыном и наследником и, вместо прямого отказа, отозвался неопределенно:
– Первым делом отдохни от пути. Ведь в Москве у нас ты впервой?
– Впервой, государь.
– И на Иване Великом нашем еще не побывал?
– Нет.
– Так вот поднимись-ка туда: увидишь, какова наша Первопрестольная.
Прием, очевидно, был кончен. Курбский откланялся уставным поклоном и, не чуя ног под собой, выбрался вон.
Глава двенадцатая
МЕДВЕЖЬЯ ЯМА
– Ну, князь Михайло Андреич, милостив же твой Бог! – тихонько заметил Курбскому молодой Бутурлин, когда они спускались с Красного крыльца. – Не вступись царевич, по тебе бы хоть панихиду служи. А что, и впрямь, не подняться ли нам сейчас на Ивана Великого?
– А туда недалеко? – спросил Курбский.
– Да вон же он перед нами. Благо, мы раз в Кремле...
Не прошло десяти минут, как оба были уже на исполинской колокольне под самыми колоколами. На все четыре стороны открывался обширнейший кругозор. У Курбского просто глаза разбежались. Да! Отсюда, с высоты птичьего лета, Москва представлялась совсем иной, чем внизу, промеж домов и заборов. Все, что пряталось там за заборами, что заслонялось домами, раскинулось здесь воочию, как на ладони. Бесчисленным крышам и церковным куполам, среди опушенных инеем густых садов, конца-края не видать; только зубчатые каменные стены с башнями отделяют разные части города одну от другой, да Москва-река широкой лентой извивается, охватывая полукругом Стрелецкую слободу.
Долго любовался Курбский молча, пока не выразил своего чувства в одном слове:
– Красота!
– Не правда ли? – оживленно подхватил его юный спутник. – Не даром государю люб этот Иванов столп: ведь по его же, государеву, велению выстроена эта громада в голодные годы, чтобы бедному люду была работа. Да теперь-то что! Зима – все в снегу. А вот посмотрел бы ты летом, когда все сады зелены, крыши красны, а золотые кресты да главы церковные на солнце как жар горят!
– Церквей и то ведь – считай – не сосчитаешь, – заметил Курбский, – есть где помолиться православным!
– Да ведь про Москву нашу так и слава идет, что церквей у нас сорок сороков. Будет ли столько – кто их считал? А близко, надо быть*. Вот хоть бы тут в Кремле...
______________________
* По словам одного из бытописателей того времени (Олеаря), в Москве насчитывалось тогда до 2000 церквей, по словам же другого (Бера) – даже до 3000. В то число по всему вероятию, входили и часовни.
И Бутурлин, войдя в свою роль проводника, начал перечислять кремлевские монастыри и соборы, с надлежащими комментариями, как например, что в Вознесенском монастыре погребаются царицы; а затем, кстати, указал и разные другие здания: дворы боярские (трех Годуновых: Симона, Димитрия и Григория, Мстиславского, Вельского, Шереметева, Сицкого, Клешнина), старый двор самого царя Бориса (того времени, когда он был еще правителем при царе Федоре), дворы: патриарший, оружейный и казенный (казнохранилище царево), посольский приказ, судебные приказы...
Между тем на вышке Ивана Великого, открытой всем ветрам, наших двух молодых собеседников зимнею стужей порядком-таки прохватило. У Курбского, давно закаленного против всякой непогоды, от морозной сиверки теперь только лицо разгорелось; словоохотливый же спутник его успел уже охрипнуть и в заключение раскашлялся.
– Из-за меня ты, Андрей Васильич, чего доброго, еще простуду себе наживешь, – сказал Курбский. – Довольно мы тут нагляделись.
– Одного я тебе только не показал, – отвечал Бутурлин. – Вон, видишь ли, на Москве-реке снежная горка, где народ толпится?
– Вижу.
– Так там у нас медвежья яма. На последней охоте у Шереметева захватили, вишь, живьем медведицу с медвежатами. Шереметев прислал их во дворец для царского стола; а государь, чтобы народ позабавить, велел соорудить для них на льду логово, да кругом его, вроде как бы горки, завалить снегом. Ну, народ туда так валом и валит.
– Да ведь зимой медведи больше спят, – не добудишься.
– Медведица и то носу не кажет; в медвежатах же ее кровь молодая играет; а народ им еще покой не дает; и дразнит-то и бросает разное съестное. Знаешь что, князь: заедем-ка сейчас туда? Посмотришь тоже: потеха!
Курбский уже не возражал, и, спустившись с колокольни, они велели кучеру везти их на Москву-реку к медвежьей яме. Здесь, на вершине невысокого снежного холма, вокруг ямы, скучились живой стеной любопытные обоего пола. Но то были одни простолюдины, которые, при виде наших двух боярских сыновей, тотчас почтительно расступились. Так оба, без всякого затруднения, подошли к самому краю ямы, огороженной деревянными перилами. Тут Курбский к удивлению своему увидел в числе зрителей и своего казачка, Петруся Коваля.
– Как ты сюда попал?
Петрусь раньше у него не отпросился и потому слегка смешался.
– Уж очень много Биркинские люди наболтали мне про этих медвежат, – поспешил он оправдаться, – а я не чаял, что ты так скоро возвратишься из дворца... Не погневись, княже! Сейчас лечу домой...
– Ладно, – сказал Курбский. – Раз ты уже здесь, так оставайся.
Притихшая было кругом толпа, видя такое благодушие молодого князя, пришла опять в движение и принялась кидать в яму кусочки хлеба. На дне ямы копошилось четверо медвежат. Стоя на задних лапах, с поднятой кверху мордой, каждый из них норовил поймать добычу налету. Но это редко кому из них удавалось: остальные трое отмахивали лапой кусок перед самым носом у счастливца, и тогда все четверо, сердито ворча, валились кубарями друг на друга, – к немалому, конечно, удовольствию зрителей, разражавшихся всякий раз дружным хохотом.
Особенно забавлялась этим одна толстуха, судя по холеному лицу – кровь с молоком, и по беличьей шубке – из купчих. В руках у нее был целый каравай ситного хлеба, от которого она отламывала для медвежат кусочек за кусочком.
– Да полно тебе, тетка, зря бросать-то! – укорил ее сосед, тщедушный мужичонка в рваном тулупе. – Дай взлезть которому-либо на колесо; ну, тогда и корми на здоровье: заработал.
Разумел же он колесо, утвержденное на вершине древесного ствола с обрубками ветвей, возвышавшегося из середины ямы до самых перил.
– Так вот для тебя, вохляка, и полезут! – окрысилась купчиха.
– Для меня-то и полезут: старые знакомые.
– Поздравляю! Где ж вы познакомились?
– В берлоге.
– О!
– Верно тебе говорю.
– В их собственной берлоге?
– А ты думала, в твоей?
Дешевая острота пришлась по вкусу серой толпе и даже самой купчихе. Что же до Курбского, то он (как припомнят, может быть, читавшие нашу повесть "Три венца") прожил простым полещуком более года в Полесье и не раз ходил также на медведя, а потому заинтересовался самим мужичком.
– Ты, любезный, что же, верно из Шереметевских? – спросил он.
Мужичок снял шапку и отвечал, что, точно, из Шереметевских.
– Медвежатник?
– Хошь и не медвежатник (много чести!), а все ж из загонщиков.
Говоря так, он приглаживал ладонью редкие волосы на макушке, которые раздувало порывистым ветром.
– Накройся-ка, – сказал ему Курбский, – ветер, вишь, какой холодный.
– Ничего, господин честной, и так постоим.
– Накройся, – еще настоятельнее повторил Курбский и начал затем расспрашивать о последней медвежьей охоте.
Поощренный таким вниманием, загонщик разговорился. Говорил он не очень-то складно и пустился в излишние еще подробности о том, как ночевали они, загонщики, в лесной сторожке с поленом под головой заместо подушки; как подкрепились чарочкой зелена вина да закусили корочкой хлебца; как под утро разыгралась вьюга и замела медвежий след; как увязли они по пояс в рыхлом снегу и как наконец-то уж добрались до берлоги зверя, где он залег крепко.
– Зверя? – переспросила купчиха. – Да ведь ты говорил все про медведицу с медвежатами?
Загонщик снисходительно усмехнулся.
– А медведица, по-твоему, нешто не зверь?
– Зверь – сам медведь...
– А жена его – звериха?
– Ну тебя, зубоскал! Да живьем-то вы как ее взяли?
– Есть у нас один такой медвежатник, Вавилой звать, самого черта, поди, не испугается. Взял он, это, из костра головню – только искры сыплются – и полез к ней ползком в гости, в самую берлогу.
– Вот бесстрашный! Ну, а она что же?
– Старуха-то? Спит, знамо, своей зимней спячкой, во сне лапу сосет, а около жмутся ее ребятки-медвежата. Ткнул он ей тут горящей головней прямо в морду, – хошь не хошь, проснулась, да как заревет благим матом!
– Ай, страсти какие! Ну и что же? Накинулась на твоего Вавилу?
– Зубами-то сама на него щелкает, а чтобы тронуть – ни-ни! Он же долго тоже растабаривать с нею не стал, хвать за загривок одного медвежонка, да по-рачьи опять назад к выходу. Выполз здрав и невредим.
– Но она-то, мать родная, чего смотрела? Без бою, так и отдала свое детище?
– Да коли перед мордой тебе этакой головней машут, так, небось, не полезешь в драку.
– И совсем не вылезла из берлоги?
– Вылезла. Да мы-то, прочие, стояли уж наготове, всей гурьбой на нее навалились, живой рукой связали. Одному, правда, изрядно тут от нее попало: вместе с шапкой ему и кожу с черепа сняла...
– Царица Небесная! Да я теперича со страху, хоть золотом меня осыпь, не пойду уже в лес!
– Пойди, тетка, сделай такую милость! Тебя там только и недоставало.
Новый взрыв хохота окружающих наградил остроумца, разобиженная же "тетка" плюнула и надулась.
– А тебе, князь, случалось тоже охотиться на медведя? – спросил Бутурлин Курбского.
– Сколько раз, – отвечал Курбский. – У нас ведь на Литве, в Полесье, красному зверю самый вод, и нашим панам нет лучше потехи, как этакая звериная облава, либо травля. Но самому-то мне, признаться, более по душе идти на медведя, да и на кабана, один на один.
– Но это ведь куда опасней?
– Вот потому-то мне и любо. Это не простая бойня, а настоящий бой, где можно помериться силами.
Бутурлин взглянул на говорящего с удивлением и восхищением.
– И с каким оружием ты шел в этакий бой? – спросил он. – Только с самопалом?
– Ходил и с самопалом, но чаще того с шибнем.
– А это что за штука?
– Шибень – короткое копье о двух железных концах, а то и просто деревянная палица с обожженными концами.
– Шибнем-то что! – заметил тут загонщик с важностью бывалого охотника. – А вот, поди-ко-сь, возьми медведя, как наш брат, голыми руками!
Самохвальство слабосильного на вид мужичонки вызвало у Курбского только улыбку; Петрусь же счел долгом огрызнуться за своего господина.
– Храбер ты, братику, поколе самому ребер не поломали! И медвежонка-то, поди, не посмеешь пальцем тронуть!
– Я-то?
– Да, ты.
– Медвежонка?
– Медвежонка. А хочешь показать свою прыть, так полезай к ним сейчас в яму.
– Зачем я к ним полезу? – отозвался храбрец тоном значительно уже ниже, не без опаски заглядывая в глубину. – Медвежата – те же щенки; охота мне с ними возжаться!
– Есть там про тебя и мать-медведица; только спит, в снегу зарылась.
– Так чего ее, старуху, будить-то? Пущай дрыхнет! Бутурлина, не менее других, забавляли неудачные увертки загонщика.
– Экой ты сердобольный! – сказал он. – Даром лезть туда, понятно, кому охота. А вот, коли я дам тебе рублик заработать...
С этими словами юноша достал из кармана кошель, а из кошеля новенький серебряный рубль. Соблазн для бедняка-мужика был не малый; а насмешки окружающих еще более его подзадоривали.
– Ну, давай уж сюда! – решился он, наконец, и потянулся за рублем.
– Нет, любезный, сперва заработай.
– Правда! Когда ж за работу вперед платят? – раздались кругом одобрительные голоса.
– Вперед все вернее...
– А не веришь, так изволь: доставай сам! – сказал Бутурлин и бросил монету в яму к медвежатам.
Те долго уже понапрасну ожидали новых подачек; теперь все четверо разом накинулись на монету, и одному из них, действительно, удалось схватить ее зубами. Но она не пришлась ему, видно, по вкусу: он тотчас выпустил ее изо рта. После этого и остальные, один за другим, обнюхали блестевший на снегу кружок, но, не менее разочарованные, оставили его также лежать.
– Ну, что же? – спросил Бутурлин хвастуна-мужичонку, который в раздумье почесывал в затылке.
– Эх, горе-богатырь! – снова поднял его на смех Петрусь. – Воевать тебе на печи с тараканами!
– Посмотрел бы я, как ты сам полез бы! – проворчал тот сквозь зубы.
– А что же ты думаешь: не полезу?
– Ну, и полезай!
– И полезу.
Прежде чем Курбский мог задержать не в меру шустрого казачка, этот махнул уже через перила к древесному стволу, возвышавшемуся, как сказано, из середины ямы. Схватившись сперва за верхушечное колесо, он по обрубкам ветвей спустился на самое дно ямы. Медвежата, совершенно неприготовленные к такому визиту, сами до того перепугались, что Петрусь мог преспокойно поднять с земли монету. Но ему, удалому сыну Запорожья, такой легкой победы было мало. Схватив двух медвежат за шиворот, он стукнул их головами, потом сделал то же с двумя другими и свалил их в одну кучу с первыми. Медвежата были до того ошеломлены и раззадорены, что, забыв уже про своего общего врага, сцепились меж собой и принялись тузить друг друга.
– Важно! – поощрил их Петрусь. – А где же ваша мама?
Тут только заметил он вход в самодельное логовище медведицы, откуда выставлялась мохнатая голова, уткнувшись мордой в передние лапы.
– Гай, гай, мамо! – сказал он. – Детки дерутся, ажио чубы трясутся, а она хоть бы что. Стыдися, стара, проснися!
Сопровождавший эти слова пинок был так убедителен, что спящая сразу очнулась и угрожающе зарычала. Но озорник наш не стал дожидаться более убедительного ответа. Когда он теперь появился опять на верхушечном колесе и оттуда перемахнул обратно к перилам, то был встречен единодушными похвалами:
– Ну, уж хват! Мал, да удал! В одно ухо влезет, в другое выскачет!
Всем он угодил, одному лишь нет – мужичонке-загонщику: очень уж досадно тому было, что этакий молокосос осрамил его перед всем честным народом, да еще рубль в карман положил.
– Эка невидаль! – сказал он. – И мой же рубль еще себе забрал!
– Так чего ж ты сам-то зевал? – спросил Бутурлин. – Но коли тебе так уж жалко...
– Знамо, жалко!
– То я, так и быть, еще рубль брошу. Бросать, что ли?
– Бросай.
– Не будет ли, Андрей Васильич? – вмешался тут Курбский. – Не дай Бог, еще сорвется вниз...
– Я-то сорвусь? – вскинулся мужичонка. – Бросай! Второй такой же рубль упал в яму. Отдав свою шапку на сохранение соседу, загонщик, не без ловкости, перекинулся также через перила. До колеса же он не допрыгнул и полетел с вышины прямо к медвежатам.
Зрители ахнули и перегнулись через перила. В глубине разыгралась уже маленькая мелодрама: упавший сам хоть и не расшибся, потому что угодил как раз на одного из медвежат, но этот завизжал, как поросенок под ножом мясника. Для чадолюбивой же медведицы такой визг родного медвежонка то же самое, что детский плач для нежной мамаши. Не успел мужичок приподняться, как медведица его уже облапила, и сам он завопил пуще медвежонка:
– Спасите, родимые! Ослобоните!
Хотя, при движении левым плечом, Курбский ощущал еще некоторую боль и слабость в руке, раненой под Новгородом-Северском, но перед выездом своим во дворец все-таки снял с руки повязку. Теперь, в виду угрожавшей его ближнему смерти, он забыл уже о своей руке. Шибня при нем хоть и не было, да за поясом был турецкий кинжал.
Сбросив с плеч шубу, он перешагнул через перила и, не пользуясь даже древесным стволом, соскочил прямо вниз. Мужичонке, несмотря на его овчинный тулуп, приходилось плохо: медведица сорвала с него эту кожаную броню и добралась до его собственной шкуры, когда подоспел Курбский. Пронзенная его острой сталью в самое сердце, она откинулась назад, чтобы уже не встать. Но в падении своем, она увлекла за собою Курбского и, в предсмертных судорогах, обхватила обеими лапами поражающую руку так крепко, что кости хрустнули.
– Батюшки-светы! – вскричал мужичонка, помогая Курбскому приподняться. – Что с твоей милостью!
А у того правая рука повисла как плеть, и сквозь изодранный рукав кровь лилась ручьями.
– Кость, видно, повредило... – пробормотал Курбский, не издававший до сих пор ни крика, ни стона; но румянец сошел с его лица, и сам он едва держался на ногах. – Не знаю уж, право, как выбраться теперь отсюда...
– Лестницу сюда! Веревок! – крикнул загонщик.
Но и то и другое пришлось доставать еще из города, и когда пострадавшего подняли наконец из ямы, то от большой потери крови он лишился уже чувств.
Глава тринадцатая
БАСМАНОВ
Шла третья неделя после злоключения с Курбским в медвежьей яме. Триста лет назад самым верным средством при переломе костей считалась ампутация, по пословице: сорную траву с корнем вон. Очень может быть, что и Курбскому предстояло бы то же, попадись он в руки одному из старших придворных лейб-медиков. Но, по счастью, царь Борис счел достаточным прислать к нему младшего из своих лекарей, студента медицины пражского университета Эразма Венского*. Пожалел ли этот молодость Курбского или не решился на свой страх его калечить, – как бы там ни было, но ограничился он лишь тем, что забинтовал ему сломанную руку в лубок. (До гипсовых перевязок хирурги в то время еще не додумались). Сделал он это настолько удачно, что кость начала опять срастаться, и пациент мог уже, с крайнею, конечно, осторожностью, двигаться по комнате. Правда, лекарь предупредил его, что прежней гибкости и силы рука его уже не получит, и что от сабли, как от оружия, ему навсегда придется отказаться.
______________________
* Современная хроника сохранила имена и остальных медиков, нарочно выписанных Годуновым из-за границы. Самым искусным в лечении всяких болезней почитался уроженец Венгрии Христофор Рейтлингер, прибывший в Москву с английским посланником. Другие были чистокровные немцы: Давид Вазмер, Генрих Щредер (из Любка), Иоган Вильке (из Риги) и Каспар Фидлер (из Кенигсберга). Как дорожил Годунов этими учеными людьми, показывает их обеспеченное материальное положение: каждый имел свою деревню с тридцатью работниками и пять лошадей верховых и каретных; кроме трех или четырех блюд с царской кухни, каждому отпускались ежедневно: штоф водки, уксусу и "запас для стола"; и ежемесячно – "знатное" количество хлеба, бочка пива и шестьдесят возов дров. Затем, после всякого удачного лечения царя, они получали еще экстренные подарки камками, бархатами и соболями.
– Но с одним человеком у меня еще не покончены счеты! – воскликнул Курбский, не забывший данного ему паном Тарло обещания "быть к его услугам" после похода.
– Ну, так научитесь драться левой рукой, – утешил его с улыбкой былой студент. – Времени у вас на то довольно.
– Да не одному же мне упражняться с самим собой?
– А я-то на что? У нас в Праге любой студент дерется почти что одинаково, что правой, что левой рукой.
– Весьма вам обязан, – сказал Курбский. – Но и левой рукой я боюсь шевельнуть: правая сейчас заноет.
– Patientia, amice! (Терпение, мой друг!) К весне все у вас будет в порядке.
Были у Курбского и другие две заботы. Одна касалась Маруси: несмотря на дальнейшие поиски со стороны обоих ее дядей, местопребывание ее оставалось неизвестным: как видение, она исчезла без следа.
Едва ли не более еще, однако, озабочивал Курбского один упорный слух, ходивший по городу: говорили, будто бы царевич Димитрий покинут поляками и снял даже осаду с Новгорода-Северска. Проверить этот слух не представлялось возможности. Бутурлин, с которым Курбский с первого же дня так хорошо было сошелся, не показывал уже глаз. По словам Бенского, бедному юноше, подавшему первый повод к катастрофе с Курбским в медвежьей яме, досталась за то если не "бастонада" (батоги), то капитальная головомойка (eine capitale Kopfwascherei); вероятно, ему было воспрещено и навещать больного. Сам же Венский, на вопрос Курбского относительно упомянутого слуха, дипломатично отговорился тем, что война – не по его части.
Тут, накануне Валерианова дня (21 января), в комнату к Курбскому ворвался младший из дядей Маруси, весь сияя от удовольствия.
– Узнал ведь, узнал!
– Про Марусю? – встрепенулся и Курбский.
– Да нет же! Не я узнал, а он меня узнал, рукой еще вот этак махнул.
– Да кто такой, Степан Маркыч? О ком ты говоришь?
– О ком вся Москва говорит? О Басманове. Ведь ты же слышал, что государь нарочно вызвал его сюда из Северской земли?
– Слышал; да что мне в том?
– Как что? Он один ведь из всех наших военачальников дал отпор этому самозванцу...
– Ты забываешь, Степан Маркыч, – прервал Курбский, – что для меня то не самозванец.
– Ну, ну, не буду. Так вот, изволишь видеть, вышел я нонече ранним утром по делам своим из дому; как завернул на Арбат, – такое многолюдство, что с нуждою пробраться. "Куда, ребята? На пожар, что ли?" – "Какое на пожар! Басманова встречать: бояре с час уже, слышь, за город к нему выехали".
– И ты побежал за другими?
– А чем же я их хуже. Долго ли, коротко ли, загремели барабаны, затрубили трубы, засвистали флейточки. Ну, едут! И точно, впереди всех стрельцы, за стрельцами музыканты, а там царедворцы, сперва помельче чином, потом все крупнее, а за самыми крупными – он, наш батюшка Петр Федорыч Басманов! Как я тут гаркну: "Слава Басманову!" Услышал ведь, оглянулся на меня, да этак ручкой знак подал: "И ты, мол, здесь, милый человек?" Тут я заорал уже во всю голову: "Слава!" И народ кругом, спасибо, не выдал, подхватил; по всей улице, как гром, прокатилось: "Слава! Слава!.." Да ты не слушаешь, князь? – не без досады прервал сам себя Биркин, замечая раздумчивый и угрюмый вид своего слушателя.
– Все слышал, – отвечал Курбский. – Только дивлюсь я тебе, Степан Маркыч: с чего ты так обрадовался?
– Как с чего? Перво-наперво я тоже сын отечества; а потом... как знать? Коли подвернется какой ни есть подряд для царского двора, да этакий первый боярин словечко за меня замолвит, так мое дело и в шляпе: глядь, предоставят мне беспошлинный торг по всей земле русской...
Несмотря на свое удрученное настроение духа, Курбский не мог не улыбнуться над полетом купеческой фантазии.
– Басманов, сколько мне ведомо, – сказал он, – вовсе еще и не боярин, а не то что первый.
– Чего нет, то может статься; а что Басманову до боярства лишь рукой подать, – это как пить дать.
В данном случае Биркин оказался, действительно, пророком. Заглянувший на следующий день к своему пациенту Бенский рассказал ему о царских милостях, которых удостоился Басманов; на первом же приеме государь поздравил этого доблестного воина со званием боярина, тут же собственноручно поднес ему золотое блюдо, весом в 6 фунтов, насыпанное червонцами, да вдобавок пожаловал ему еще поместье с крестьянами, всякие ценные подарки и наличными деньгами две тысячи рублей.
Степан Маркович торжествовал.
– А? Что я говорил? Кабы только вспомнил теперича обо мне...
И этой надежде его как будто суждено было осуществиться. По крайней мере, не далее, как через три дня, перед воротами Биркиных остановились сани вновь пожалованного боярина. Оба брата едва поспели выскочить за ворота, чтобы высадить его из саней. Но на их низкие поклоны и благодарность за оказанную великую честь Басманов ответил только легким кивком. К немалому их разочарованию, он пожелал видеть лишь их постояльца, князя Михайлу Андреевича Курбского.
Сам Курбский никогда еще ранее не встречался с Басмановым. Первое впечатление, производимое на нас незнакомым человеком, редко нас обманывает. Уже самая внешность Басманова, этого статного, видного брюнета в новой, с иголочки, боярской ферези с привешенной к струйчатому шелковому кушаку саблей, была очень представительна. Но что особенно расположило Курбского в его пользу, это – открытое выражение его лица, благородная простота обращения. После обмена обычных приветствий, Басманов объявил Курбскому, что прибыл к нему по желанию самого царевича.
– Царевича Димитрия! – заликовал Курбский. Басманов, однако, охладил его пыл:
О, нет. Для меня, как и для всякого верного россиянина, есть один только царевич – сын и наследник нашего царя Бориса Федоровича, Федор Борисович.
– Так что же надобно от меня сыну твоего царя, боярин?
– Какая надобность, скажи, царскому сыну от заезжего чужеземца? В особых услугах твоих нужды ему, понятно, быть не может. Но царевич наш зело еще юн: не может взирать равнодушно на чужие страдания. Как узнал про постигшую тебя злую напасть, так совсем, поди, разжалобился, выпросил для тебя у государя дохтура, чтобы починил твои изъяны, а нынче вот и меня упросил тебя проведать. Плакаться тебе на здешних хозяев, кажись, не приходится?
Такое неожиданное участие к нему царственного отрока не могло не тронуть отзывчивого сердца Курбского. Да и самому посланцу доставляло видимое удовольствие передать ему эту отрадную весть.
– Благодарствую за спрос, боярин, – промолвил с чувством Курбский, – царевичу же Федору великое от меня спасибо. Живу я здесь в полном довольстве, как редкому пленнику живется! – добавил он со вздохом.
– Какой же ты пленник!
– А двух конных стражников у ворот ты, боярин, разве не заметил?
– Ну, те больше для почета.
– Бог с ним, с таким почетом! И знаю я, очень хорошо знаю, кому я в этом случае обязан.
– Кому?
– Шуйскому.
– Князю Василию Ивановичу? Да, он близкий советник государя...
– Близкий, да добрый ли, надежный ли?
– Ну, об этом, князь, не нам с тобой судить! – коротко обрезал Басманов щекотливую тему. – А что Шуйский – муж острого ума и у государя в большой силе, можешь видеть из того, что государь отрядил его теперь воеводой в ратное поле.