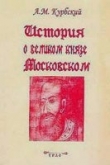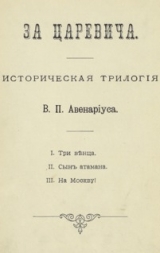
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
И вдруг, заметив в числе зрителей свою бывшую подругу, эта зазнавшаяся гордячка разом преобразилась: в ее надменном взоре блеснула неподдельная радость, сжатые губы ее раздвинулись обворожительной улыбкой, – и она стала безусловно-прекрасной.
– Ты ли это, моя Муся? – спросила она по-польски и сделала шаг в сторону молодой княгини Курбской.
Та, в незлобии своем, простила уже, как мы знаем, все обиды, перенесенные ею когда-то от своенравной дочери Сендомирского воеводы. Могла ли она теперь устоять против обаятельной ласковости этой волшебницы, окруженной еще притом ореолом будущей русской царицы?
Совсем очарованная, Маруся рванулась к ней и без слов прильнула губами к протянутой ручке. Марина, видимо польщенная, опять улыбнулась.
– Хорошо, хорошо; я верю, что ты мне еще предана. Самой мне хотелось бы опять поговорить с тобой. Ты можешь ехать с моей гофмейстериной, паньей Тарло; вы давно ведь уже знаете друг друга.
И с милостивым кивком, не допускавшим возражений, она отвернулась, чтобы направиться к ожидавшей ее царской колымаге.
А что же сама Маруся? Что муж ее? Приглашение или, вернее сказать, приказание будущей царицы было так решительно, что об ослушании не могло быть и речи.
– Нечего делать, мой друг, – сказал Курбский, подавляя вздох, – ступай!
Гофмейстерина приветствовала Марусю со свойственной польской нации изысканною любезностью, с легким лишь оттенком снисходительности, и предоставила ей в своей карете почетное место рядом с собой. Сопровождавшие ее две молоденьких фрейлины должны были удовольствоваться передней скамейкой.
– С княгиней Курбской мы дружны ведь еще с тех пор, что были вместе такими же фрейлинами, как вы, – объяснила гофмейстерина своим двум подчиненным. – Первую весть о том, дорогая княгиня, что вы вышли за князя Курбского, привез нам в Краков ведь пан Бучинский. Как я была за вас рада, и сказать не могу! Из купеческой семьи да вдруг выскочить в княгини!
Чтобы несколько смягчить умышленный укол, панья Тарло наклонилась к молодой княгине для поцелуя, то есть подставила ей свою густо нарумяненную щеку. Не без тайного отвращения прикоснувшись к этой щеке губами, Маруся навела разговор на бывшую за полгода назад в Кракове церемонию заочного бракосочетания панны Марины с царем Димитрием по католическому обряду.
– О! Церемония была прямо-таки королевская, – воскликнула панья Тарло. – Не будь только этого противного Власьева, которого царь прислал заступить себя...
– Да, Власьев уже не молод да и вовсе не красив, – сказала Маруся. – Но, как думного дьяка, в Москве его все очень почитают.
– В Москве, да! Но посудите сами: был при этом ведь и сам король наш Сигизмунд с королевичем Владиславом, была принцесса шведская Анна, был папский нунций Рангони, и иностранные послы, и весь цвет придворной знати. Когда тут два сенатора подвели к алтарю невесту, все так и ахнули: Пречистая Дева Мария! Что за краса, что за величие! Все платье, представьте, из белой парчи, унизано сапфирами и жемчугом, вокруг плеч – газовое облако, на голове – алмазная корона, а из-под короны на спину вьются змеями две дивные косы, перевитые драгоценными каменьями! И вдруг – рядом с этой, можно сказать, богиней становится какое-то чучело, косолапая обезьяна, с одутловатой рожей, с растерянным видом и в раззолоченной попоне!
– А кто венчал их?
– Венчал, разумеется, кардинал наш Мацеевский. Но перед тем были еще речи. Начал первым этот орангутанг Власьев...
– И говорил, я уверена, дельно?
– Гм... может быть, и дельно, да чересчур уж сухо и просто. Зато когда после него стали говорить один за другим наши: Станислав Минский от имени пана воеводы, Лев Сапега от имени короля и, наконец, сам кардинал Мацеевский, – о! тут пошли такие цветы красноречия, такие похвалы жениху и невесте за их необычайную красоту, ум и всяческие добродетели...
– Так Власьев, значит, все-таки не уронил себя.
– Погодите, моя милая; отличился он потом не раз и не два. Как запели "Veni Creator", все опустились на колени: и невеста и сам король, а он, невежа, один остался стоять чурбаном на ногах!
– Простите, панья гофмейстерина, – позволила себе тут вставить свое замечание одна из молоденьких фрейлин, – осталась стоять и принцесса Анна.
– Ну да, ну да... как протестантка, она не исполняет наших обрядностей...
– А Власьев ведь тоже не католик? – вступилась за своего единоверца Маруся.
– Но царь-то его католик, а он заступал царя!
– В чем же он еще, по-вашему, провинился?
– Да вот, когда им надо было обменяться кольцами, мы смотрим: что это он, чудак, делает? Достал шелковый платок и обматывает себе правую руку. Это, изволите видеть, для того, чтобы своей холопской лапой отнюдь не прикоснуться к ручке своей будущей государыни! Умора! А получив от нее кольцо, не надел его даже на палец, а вложил прямо в футляр для своего государя.
– Чем выказал только свое благоговение перед обоими, – заметила Маруся.
– Холоп и раб! За брачным столом он сперва ни за что не хотел сесть рядом с своей царицей, пока его насильно не усадили; когда же увидел, что она от душевного волнения ничего не ест, то сам тоже ничего не хотел брать в рот, кроме хлеба с солью.
– А поляк ел бы, конечно, за двоих? – сыронизировала, в свою очередь, Маруся.
Но панья Тарло показала вид, что не поняла иронии, и продолжала описывать брачный пир с бесконечными речами, тостами и восторженными одами лучших тогда поэтов польских: Гроховского, Юрковского и Забчицы во славу новобрачных и вечной дружбы двух первых славянских наций.
– А после стола были, вероятно, и танцы? – спросила Маруся.
– Еще бы! Но все, конечно, одни национальные польские. Открыл бал сам король с нашей красавицей-царицей... Как жаль, право, что вы тогда ее не видели! Особенно потом в мазурке...
– Которую она танцевала с паном Осмольским? – досказала Маруся.
Гофмейстерина испуганно приложила палец к губам.
– Ч-ш-ш, ч-ш-ш! Нет, о, нет! С чего вы это взяли?
– Вы, пани гофмейстерина, верно не обратили внимания, как она перед мазуркой подозвала его веером к себе? – непрошенно вмешалась снова та же фрейлина. – А я стояла около и подхватила даже несколько слов из разговора.
– Как вам не стыдно! – укорила панья Тарло вострушку; однако, не устояла против собственного любопытства. – Ну, и о чем же они говорили?
– Она требовала, чтобы он мазурку танцевал непременно с нею, а он наотрез отказался под предлогом, будто бы вытянул себе на ноге жилу...
– Вот глупый! И только?
– Нет; она топнула ножкой. "Ну, так мы протанцуем с вами еще на моей русской свадьбе в Москве!" И ведь настояла, как видите, на своем: теперь он тоже здесь при ней...
– Вы верно ослышались; что-нибудь да не так! – перебила гофмейстерина. – Весь вечер она танцевала потом с таким увлечением, до упаду...
– Потому что хотела забыться, – подхватила фрейлина. – Но когда надо было, наконец, проститься с королем, и она подошла под его благословение, то силы ее оставили: она упала к ногам его величества, обняла их и залилась горькими слезами.
– Прощалась навеки с своим обожаемым королем, с милой родиной, для варваров, так как же не плакать?
– Однако, варвары эти встретили ее, кажется, очень радушно? – возразила Маруся. – Выслали вперед ей даже денег на дорогу...
– Всего каких-то двести тысяч злотых!..
– А по-вашему этого еще мало? На самой границе ждали ее уже Михайло Нагой и князь Мосальский с почетной стражей...
– В которой, однако, не было никакой надобности, потому что у нее была своя собственная!
– В городах и селах к ней выходили жители с хлебом-солью...
– И попы с иконами! Мы с нею, слава Богу, не схизматички... Нет, переезд этот был ужасен! Эти дремучие литовские леса, непролазные болота... Раз ночью мы чуть было не потонули в таком болоте. Кругом мрак кромешный, хоть глаз выколи; в чаще где-то кричит филин, – ну, просто малый ребенок плачет: а тут завыли еще волки – один, другой, третий... Бррр! и теперь еще по спине бегают мурашки! А ночлеги в мужицких избах, тесных, грязных...
– Простите, пани гофмейстерина, – вступилась опять неугомонная фрейлина, – но для царицы и нас везде отводили самые чистые дома. Раз только ведь, и то случайно во время грозы, когда вы так перепугались, царица, ради вас же, велела остановиться в одной бедной деревушке...
– Где не нашлось для нас даже ни яиц, ни молока! – с неудовольствием перебила несносную болтушку панья Тарло.
– А почему не нашлось? Вы не помните разве, чем извинялись перед нами бедные крестьяне?
– Чем?
– Да тем, что у них три года подряд был неурожай и на всю деревню осталось всего-навсего с десяток кур да одна корова; но наши же польские послы с своим конвоем перерезали и тех кур и ту единственную корову.
От такой легкомысленной откровенности ее подчиненной лицо гофмейстерины разгорелось, сквозь накладной румянец, благородным негодованием. Но в это самое время, на счастье фрейлины, к карете их подъехал муж гофмейстерины, пан Тарло. Приятно перегнувшись с седла к открытому оконцу кареты, он обратился к Марусе с небрежною вежливостью, значительно поводя своими огнисто-черными, как тлеющие уголья, глазами:
– Падам до ног наияснейшей княгини Курбской! Давно не имел счастья – с тех самых пор, в Жалосцах,, у Вишневецких, изволите помнить?
– Когда я была еще купеческой дочкой, а муж мой простым гайдуком? – досказала Маруся, вся вспыхнув. – Как же, прекрасно помню; а также и то, как он из-за меня проучил одного ясновельможного нахала.
Теперь очередь побагроветь была за паном Тарло.
– Да, у почтеннейшего супруга вашего сила настоящего гайдука, даже мясника, отдаю ему полную честь! – отпарировал он ее удар с нескрываемою колкостью. – Будь у него только побольше рыцарского духа...
– Как у вас, не правда ли? Он, впрочем, теперь совсем поправился от болезни и опять к вашим услугам.
– Что, что такое, Эвзебий? – заволновалась панья Тарло. – Ты хочешь драться с князем Курбским?
– У нас с ним старые счеты... – отвечал пан Эвзебий, но далеко не таким уже вызывающим тоном. – Я, впрочем, не злопамятен и, пожалуй, готов простить.
– Муж мой вовсе не нуждается в вашем прощении! – воскликнула Маруся, увлеченная своим гневом. – Если же я передам ему теперь эти ваши слова, то...
– Не сердитесь, пожалуйста, дорогая княгиня! – поспешила прервать ее панья Тарло. – Я отвечаю вам за Эвзебия! Он у меня смирен, как комнатная собачка...
– Однако, милая Бронислава! – запротестовал ее муж, – сравнивать польского рыцаря с собачкой...
– Но в золотом наморднике! – пояснила с важностью все та же фрейлина, переглядываясь со своей товаркой, и обе разом фыркнули.
Марусе при этом пояснении пришло на память, что пан Тарло, нуждавшийся всегда в деньгах, женился ведь на немолодой уже панне Брониславе Гижигинской единственно из-за денег, – и весь гнев ее испарился, как дым.
– Успокойтесь, пани гофмейстерина, – сказала она, сдерживая свою веселость. – Собачки в наморднике никто не тронет, сколько бы она ни лаяла.
Пан Тарло позеленел от злости, но, не решаясь вновь задирать, презрительно скорчил лишь губы, хлестнул коня и ускакал вперед.
Вслед за тем торжественный поезд вступил в Кремль, где был встречен таким громогласным салютом пятидесяти барабанщиков и пятидесяти трубачей, что панья Тарло зажала себе уши.
– Иезус, Мария! Да это не музыка, а какое-то мычанье коров! Но куда это, смотрите-ка, везут царицу? Вон и сам царь поджидает ее на крыльце. Неужто это царский дворец? Точно монастырь...
– Да, это Вознесенский монастырь, где живет царица-матушка, – отвечала Маруся. – Она, слышала я, приютит у себя молодую царицу до ее свадьбы по православному обряду.
– И мы должны будем жить с нею также в русском монастыре? Нет, это невозможно! Я не согласна!
В согласии паньи Тарло, впрочем, не было и надобности: для нее с ее фрейлинами были отведены уже особые покои в новом дворце; к невесте же царской в монастырь была допущена только прежняя ее любимая фрейлина православного закона, любимица и царицы Марфы, Маруся Курбская.
Глава двадцать вторая
ЦАРИЦА РУССКАЯ ИЛИ ПОЛЬСКАЯ?
Пять дней уже Маруся жила в Вознесенском монастыре безотлучно при царской невесте Марине. Странное существо, право, была эта Марина! Когда будущая свекровь ее, царица Марфа, наотрез запретила патерам латынского закона вход к ней, будущей царице русской и точно так же самой ей не дозволила присутствовать, даже в Троицын день, при католическом богослужении в молельне, устроенной на квартире гофмейстерины, паньи Тарло, Марина рвала и метала, не принимая никаких резонов от царицы Марфы, так что между ними произошла серьезная размолвка. А между тем, к Марусе, русской и православной, она воспылала прежней дружбой; по целым часам могла она болтать с нею о Кракове и Самборе, и с видимым удовольствием рассказывала ей о своих недавних еще сумасбродных выходках. Особенно хохотала она при рассказе своем о том, как, однажды, по окончании охоты, все участники сошли с коней, чтобы усесться за обеденный стол, накрытый под деревьями, а она, разогнав коня, перескочила через стол, так что все ахнули.
– Как тут не ахнешь! – сказала Маруся. – Хорошо еще, что государя-то не было при этом.
– Да! – глубоко вздохнула Марина. – От всего этого мне теперь, кажется, придется отказаться!
Такие порывы веселости, впрочем, нередко сменялись у нее периодами глухого раздражения. Очень неровно было поэтому и обращение ее со своим царственным женихом, который навещал ее в монастыре каждый день и старался угодить ей во всех ее желаниях и прихотях. Так, стоило ей только как-то заявить о том, что надо бы одарить "по-царски" ее родственников и преданных ей людей, как Димитрий преподнес ей шкатулку со всевозможными драгоценными вещами, общей стоимостью до пятисот тысяч рублей. Точно также, по одному ее намеку о неуплаченных в Польше довольно крупных долгах ее родителя, пану воеводе тотчас было отпущено из казны сто тысяч злотых для отсылки кредиторам.
"Но прежде, чем успели увезти эту сумму (говорится совершенно откровенно в дневнике Марины), мы ее несколько облегчили".
После всякого такого "презента" Марина была с женихом пленительно любезна, даже нежна, но при следующем же его посещении делала ему самые капризные сцены.
Всего более досталось ему на другой же день по ее приезде за то, что польские послы Олесницкий и Гонсевский (прибывшие в Москву еще ранее Марины, чтобы поздравить Димитрия от имени короля Сигизмунда с благополучным воцарением) были приняты будто бы не с должным почетом.
– Да помилуй, сердце мое, – оправдывался Димитрий, – принял я их, как подобало, сидя на престоле, в царском венце и порфире, в присутствии патриарха и первых бояр...
– Однако, ты скоро снял венец?
– Да, я встал с престола и нарочно приказал патриарху снять с меня венец, потому что хотел сам указать этому Олесницкому на его непростительный промах...
– Никогда не поверю, чтобы пан Олесницкий допустил себе промах!
– Суди сама: он в приветствии своем назвал меня просто "господарским величеством и князем всея России"*...
______________________
* Вот полностью тот титул, которым словесно приветствовал Олесницкий царя Димитрия от имени короля Сигизмунда: "Ваше господарское величество, Божиею милостью всепресветлейший, великий государь Дмитрий Иоаннович, князь всея России, Владимирский, Московский, Новгородский, Казанский, Астраханский, Псковский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и других многих земель царь".
– Вероятно, по королевскому же приказу.
– Весьма даже вероятно, потому что и в грамоте короля я не был назван, как следовало, цесарским величеством.
– Ну, вот! А ты все-таки прочитал его грамоту?
– Не сейчас. Когда дьяк Власьев, приняв ее от Олесницкого, передал мне, и я увидел, что на ней нет моего цесарского титула, я велел возвратить ее послам...
– И еще с какою-нибудь угрозой?
– Не с угрозой, а с внушением, что "необычайное и неслыханное дело, чтобы монархи, восседая на престоле, спорили с послами; но что король польский, опуская наши титулы, вынуждает нас к тому. Королю Сигизмунду хорошо де известно, что мы не только царь, но и император в необозримых наших владениях, что нет нам равного ни на западе, ни на востоке, не в пример древним царям ассирийским, индийским и императорам римским. Сам Господь Бог даровал нам сей титул, и из всех монархов один лишь король польский не признает его. Посему он не может быть нашим другом, и мы не принимаем его грамоты!"
– Но с твоей стороны, Димитрий, это была безумная дерзость! – возмутилась Марина. – Без нашего короля тебе, как своих ушей, не видать бы московского престола.
– Прости, милый друг, – возразил с достоинством Димитрий, – но Сигизмунд не наш король, да теперь и не твой: здесь, на Москве, один государь – Димитрий Иванович, Божиею милостью царь и император!
– Ах, перестань, пожалуйста! Король Сигизмунд был и останется нашим вечным благодетелем, и без его покровительства нам и в будущем не обойтись.
– Обойдемся!
– Это ужасно, это ужасно! – повторяла Марина, ломая руки. – А пан Олесницкий еще такой гордый, вспыльчивый... Каково-то было ему, первому королевскому послу, это слышать!
– Да, слова мои ему крепко, видно, не полюбились. "Никто еще из христианских венценосцев, – сказал он, – не оскорблял еще так его королевское величество! Вижу, – говорил он, – что царь московский забыл милости моего государя и преданность народа польского. Прошу не медля отпустить меня: спорить долее я не намерен".
– Ну, вот! Ну, вот! – продолжала волноваться Марина. – Что ты наделал своим безграничным высокомерием!
– Ничего я, друг мой, не наделал. Показав господам полякам, что с московским царем надо считаться, я переменил тон и пригласил Олесницкого к моему столу – пригласил уже не как посла, а как своего старинного приятеля, с которым мы еще в Польше делили хлеб-соль.
– А он что же? Так сейчас и принял приглашение?
– Нет, он поблагодарил. "Как ни лестно мне, – сказал он, – видеть благосклонность вашего величества, но пока я еще не в праве оставить звание, возложенное на меня моим королем. В Польше я оказал услугу вам, как царевичу московскому; здесь я также готов служить вам, как царю; но да будет мне дозволено исполнить в точности волю моего государя".
– Узнаю Олесницкого! – воскликнула Марина. – Вот истинный сын Речи Посполитой! Как же ты, наконец, вывернулся?
– Я отвечал, что "ради всеобщей ныне радости и в угождение дорогим гостям-полякам, приехавшим на мою свадьбу, так и быть, предаю забвению допущенное королем их упущение. Но... но должен предупредить, что вперед останусь тверд, ни под каким уже видом не приму грамоты с неполным титулом и не отвечаю за те последствия, которые могут быть от нового неуважения к цесарскому званию московского царя". Не забудь ведь, моя милая, что, унижая меня, унижают одинаково и тебя, царицу!
Последнее соображение видимо пришлось по душе властолюбивой дочери Сендомирского воеводы.
– Так-то так... – согласилась она точно нехотя. – Ну, и что ж, после этого ты взял уже от послов королевскую грамоту?
– Взял, подал обоим им руку; и затем мы наговорили друг другу разных любезностей; какие говорятся обыкновенно при таких приемах.
– Вот это хорошо. Но в будущем, дорогой мой, сделай милость, будь благоразумней, осторожней. Как бы там ни было, ты сын нашей святой римской церкви, а стало быть, тоже как бы поляк.
– Родом я русский... – начал было Димитрий, но заклятая полячка не дала ему докончить:
– А духом все же поляк! Не прими ты нашего закона, неужели ты думаешь, я вышла бы за тебя? Еще в январе этого года я писала святейшему отцу* в Рим, что когда святые ангелы приведут меня в Москву, я не буду думать ни о чем ином, как о единении церквей, и жду только его повелений. После этого как же мне не остаться верною дочерью католической Польши? Поэтому же я и на нашей русской свадьбе, как всегда, буду в моей национальной одежде.
______________________
* Папе Павлу V, преемнику Климента VIII.
– Ну, это мы еще увидим.
– Увидишь!
– Но согласись, милый друг, что, как царица русская...
Она опять не дала ему договорить.
– Не соглашусь, не соглашусь и не соглашусь! Не раздражай меня, сделай милость! Здесь, в стенах русского монастыря, под постоянным надзором твоей матушки, я просто задыхаюсь!
– А между тем моя матушка желает тебе одного только добра. Сама она ведь была раз царицей и лучше всякого другого знает, что тебе можно и чего нельзя. По ее же указаниям, для тебя уже сшито несколько русских нарядов по мерке твоих польских платьев. На всякий случай, однако ж, тебе не мешало бы их примерить.
– И слышать теперь не могу! Довольно! Оставь меня...
– Но повторяю тебе, мой ангел...
– И я тебе повторяю: "довольно!" Ты видишь, я сама не своя.
От нервного возбуждения она при этом так злобно засверкала своими чудными глазами, заскрежетала своими великолепными белыми, как слоновая кость, зубами, что Димитрию ничего не оставалось, как вооружиться до времени терпением и отретироваться.
Русские наряды, один другого пышнее, были, действительно доставлены в тот же день; но она на них и не взглянула, как ни настаивала царица Марфа, как ни упрашивала Маруся. Явились к ней на другое утро парламентерами родитель-воевода и исповедник-иезуит, но точно так же ничего не достигли.
Такое ненормальное состояние продолжалось целых пять дней. Настала ночь, но Марина не ложилась: ведь уже завтра, 8-го мая, она будет коронована, станет царицей, но не русской, о нет! А теперь она покинет эти ненавистные монастырские стены.
Во втором часу ночи, когда вся Москва покоилась мирным сном, она, вместе с Марусей, села в присланную из дворца колымагу, которую сопровождал только почетный конвой из боярских детей и немецких алебардщиков при свете двухсот восковых свечей.
– Точно меня уже хоронят! – с горечью заметила она Марусе. – Но, погодите, голубчики, скоро я воскресну! Да как!
По утру, однако, едва лишь она окончила свой туалет, к ней ворвалась впопыхах гофмейстерина.
– Ваше величество!.. Это неслыханно... это возмутительно...
– В чем дело? – с величественною строгостью обернулась к ней Марина. – Вы забываете, что вы уже не при дворе какого-то воеводы, а при царском дворе, и что к царице не влетают этак без доклада!
– Простите великодушно, государыня... – извинилась панья Тарло задыхающимся еще голосом. – Но боярская дума требует, чтобы сегодня к венцу вы все-таки явились в русском наряде.
Марина презрительно повела плечом.
– Да что мне ваша боярская дума! Вчера еще я повторила пану воеводе, что русского наряда никогда в жизни не надену – и не надену!
– Да ведь и сам пан воевода, и патеры наши, и оба посла – все, все твердили боярам то же; но те подняли, говорят, такой гвалт, что его царское величество успокоил их только уверением, что вы будете одеты по-русски.
Гордую полячку окончательно взорвало.
– Он посмел обещать им это от моего имени, даже не спросивши? – вскричала она внезапно зазвеневшим голосом. – Сейчас же ступайте, позовите его ко мне!
И, вся пылая негодованием, она вышла в свою гостиную. Не прошло и десяти минут, как Димитрий последовал зову. Первые запальчивые нападки со стороны невесты он вынес с замечательным хладнокровием, очевидно, он дал себе слово выдержать на этот раз характер до конца, но в то же время не подавать ни малейшего повода к дальнейшим раздорам.
– Ну, что же ты все молчишь? – прервала она вдруг сама поток своего красноречия, сердито озираясь кругом, на какой бы вещи сорвать свое сердце. – Отчего не возражаешь? Разве я не права?
– Права, мой ангел, тысячу раз права, – отвечал он с тем же ласковым спокойствием и не возвышая тона. – Ты говоришь красно и умно, как печатная книга. Но всякая медаль имеет две стороны...
– А! Ты все же, значит, не принимаешь моих резонов?
– С твоей точки зрения я их отлично понимаю. Но с точки зрения русских...
– Да я ее и знать не хочу!
– Напрасно: тебе, русской царице, мнения их нельзя не знать. Имей терпение выслушать меня.
– Ну, говори.
– Я сравнивал сейчас твои резоны с печатной книгой; но и умнейшая книга остается только книгой, то есть мудрствованием человеческого ума. А жизнь народная слагается из самых немудреных и, в то же время, противоречивых элементов, тем более жизнь такого народа, как наш русский, грубый, неразвитый, со старинными его поверьями и обычаями, с ребяческим суеверием и бабьими предрассудками. Так как же, скажи, к этой неразумной жизни прилагать мерку разумной книги? Крутой перелом в вековых порядках не может не возбудить всеобщего ропота. Любовь же народная – сила царей. До сего времени русские царицы носили только народное русское платье...
– А я, как сказала уж, не хочу его носить!
– И не носи. Не омрачай только своему народу сегодняшнего-то дня, когда ты в первый раз покажешься ему царицей.
– Я давно уже царица: с того самого дня, что кардинал Мацеевский заочно повенчал нас с тобой, потому что его святейшество, папа римский, потом благословил наш брак; теперь же повторится лишь церковная церемония по православному обряду.
– Но для русского народа один этот обряд – законный и делает тебя настоящей царицей.
– Да что скажут наши патеры...
– И они, как отец твой и послы, убедились, что тебе надо венчаться в русском платье.
– Ах, Боже, Боже ты мой! Все вы, мужчины, не понимаете одного...
– Что живописный польский костюм тебе чрезвычайно идет?
– А то нет?
– И спору не может и быть: ты в нем божественна.
– Так стало быть...
– Но и русский праздничный наряд удивительно к лицу всякой молодой красивой женщине...
– Русской!
– Да ты, благородная полячка и первая красавица в целой Европе, будешь в нем так несравненно хороша, что все наши боярыни от зависти лопнут.
Последний аргумент сломил, наконец, упорство несговорчивой полячки. Она приятно просветлела и усмехнулась.
– На здоровье! Но с завтрашнего дня я снова могу одеваться по-польски?
– Можешь, можешь, об этом и говорить нечего. Но теперь, мой друг, сделай милость, изготовься поскорее к венцу.
Таким-то образом Марина явилась "своему" народу в русском наряде, только голова ее была убрана по-польски: волосы были затейливо переплетены золотом, жемчугом и драгоценными каменьями наподобие небольшой диадемы. И с какою величавостью носила она эту польскую диадему! С какою неподражаемой грацией выступала в сравнении с сопровождавшими ее к брачному обряду двумя русскими боярынями – княгинями Мстиславской и Шуйской!
– Такой красавицы-царицы у нас, ей-ей, доселе еще и не видано! – перешептывались между собой русские обоего пола, присутствовавшие в Успенском соборе при короновании молодой царицы и венчании ее с царем.
Но и тут молодая царская чета подала повод к справедливым пересудам.
"После бракосочетания (говорится в записках очевидца, архиепископа Арсения) оба не выказали желания приобщиться Св. Тайн. Это чрезвычайно опечалило не только патриарха и епископов, но и всех тех, кто это видел и слышал. Таково было первое и великое огорчение; такова была причина соблазна и источников многочисленных бедствий, постигших русский народ и всю Россию".
Не менее, пожалуй, осуждали православные люди и то, что вечером следующего же, Николина дня, в царском дворце был великий пляс, да не русский, а бешеный польский, причем первыми заводчиками этого беснования были родной брат молодой царицы, Станислав Мнишек, и зять ее, князь Константин Вишневецкий. Сама же Марина была уже не в русском наряде, а в родном своем польском. Но зато в нем она, действительно, казалась еще краше! "Царица польская" торжествовала.
Глава двадцать третья
КАК КУРБСКИЙ УЗНАЛ О НОВОМ ЗАМЫСЛЕ ШУЙСКОГО И ЧТО ИЗ ТОГО ДЛЯ НЕГО САМОГО ВЫШЛО
За все это время Курбский, живший по-прежнему у Биркиных, ни разу не виделся с своей молодой женой. Пока она пребывала вместе с царской невестой в Вознесенском монастыре у царицы Марфы, его туда, как в женскую обитель, естественно, не допускали; молодым супругам не хотели сперва дозволить даже обмениваться записками. С переселением же Марины, а с нею и Маруси во дворец, Курбский, не получивший даже приглашения на бракосочетание царя, только на другой день после того решился наведаться во дворец. Здесь, в приемной царицы Марины, он застал бессменного ее адъютанта, пана Осмольского. Тот принял его со всегдашней своей учтивостью и охотно взялся доложить государыне о желании Курбского повидаться с женою. Но возвратился он с неутешительным ответом: по случаю предстоявших в этот день брачного пира и парадного бала, ее величеству ни на минуту нельзя будет обойтись без своей подруги.
Между тем, вечером этого же дня, казачок Курбского, Петрусь, влетел к нему в комнату со словами:
– Ну, княже, спасай свою княгиню! Курбский, понятно, страшно переполошился.
– Да что с нею?
– Покамест-то ничего. Но не нынче-завтра может совсем плохо прийтись.
– От кого? Не от царицы же Марины?
– Ай, нет! Но из-за нее же. Больше, не погневись, ничего не могу тебе сказать.
– Так, значит, против самой царицы есть заговор! – догадался Курбский.
– Не спрашивай, милый княже. Я все равно не скажу.
– Клятву, что ли, дал молчать?
– Ну да, клятву; это-то, пожалуй, можно тебе еще знать.
– Но все-таки на слово тебе этак мне трудно поверить.
– Верь! Верь! Своими ушами слышал.
– Ты подслушивал?
– Хоть бы и так...
– Но, может, ты ослышался, не верно понял.
– Как уж не понять! Прямо-таки и говорилось...
– Что хотят покуситься на жизнь царицы? Но в таком случае ты должен сейчас же все открыть, назвать всех...
– Ах, Господи! – вскричал в отчаянье казачок. – Да я целовал ведь крест на том, что никого не назову, а сам ты, княже, мне не раз говорил, что нарушать клятву – великий грех.
– Ну, хорошо, не называй имен, но сказать то все-таки можешь, чрез кого попал к заговорщикам. Не через слугу ли тоже, такого же парубка из хохлов?
– От тебя, княже, право, ничего не скроешь! – воскликнул смущенный Петрусь. – Тот боярин, у кого в доме то было, привез его, вишь, с собой в Москву с похода...
– Но ты мне про своего нового приятеля до сего времени ничего не сказывал?
– Не сказывал, потому что ознакомились-то мы с ним только вчерашний день.
– Не тогда ли, когда ты отпросился у меня в Кремль – поглядеть на царский выход из Успенского собора?
– Как раз. Как сняли тут все свои шапки, глядь, у одного малого лоб выбрит тоже по-хохлацки. Ну, а свой своему поневоле брат. Я – к нему; разговорились. Стал он тут бахвалиться передо мной хоромами своего боярина, да расписал такие чудеса, что меня сумление взяло.
– Коли не веришь, – говорит, – так зайди хоть нарочно: весь терем его тебе сверху до низу покажу.
– Так вот боярин твой, – говорю, – и дозволит нам расхаживать по своему терему!