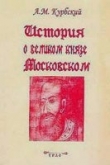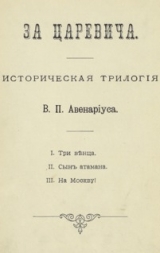
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Поспеем хошь к приезду твоему все в доме приубрать, приготовить.
– Да ведь ты, Степан Маркыч, не имеешь еще в Москве своего собственного дома? – сказал Курбский.
– А на что же у меня там старший брат, Иван Маркыч? У него как для меня с Машенькой, так и для тебя найдется всегда теплый уголок.
– Но я-то Ивану Маркычу совсем чужой.
– Вот на! Такой же, я чай, племянничек, как и мне. Коли ты не остановишься у брата Ивана, то его просто до смерти изобидишь. Да и супружницу его, Платониду Кузьминишну. Такая она у него, я тебе скажу, добрая душа, хлебосолка... Ни, ни, ни! И думать не моги! – остановил Степан Маркович Курбского, собиравшегося еще что-то возразить. – Смотри только, не заживайся у Мосальского.
И вот настал час разлуки. Не раз уже до этого дня посмеивался Биркин над крайнею сдержанностью обрученных, которые никогда при нем не миловались и даже не называли друг друга ласкательными именами. И теперь прощаясь с женихом, Маруся отвернулась и, точно нехотя, протянула ему руку. Но вдруг она пошатнулась и закатила глаза: Курбский едва лишь поспел подхватить ее. Пришлось спрыснуть бедняжку водой.
– Ага! – сказал Степан Маркович, когда племянница открыла опять глаза. – Как, матушка, не крепись, а сердце скажется, квашни крышкой не прикроешь.
От этих слов дяди молодая девушка окончательно пришла в себя. Она вырвалась из рук "жениха" и заторопила:
– Едем же, дяденька, поскорее, поскорее...
Пять минут спустя сани с дядей и племянницей, а за санями и пошевни с поклажей, двинулись с постоялого двора по калужской дороге. В сгустившихся сумерках скоро не стало их видно; а Курбский с непокрытой головой все еще глядел им вслед с крыльца.
– Вместо двух, одна, да какая! – пробормотал он про себя, но настолько громко и с такой странной, безнадежной усмешкой, что стоявший около него Петрусь его расслышал и, недоумевая, переспросил:
– Вместо каких двух, княже?
– Ах, и ты тут? – сказал Курбский, который теперь только заметил его присутствие.
Ответа на свой вопрос Петрусь так и не дождался. Возвратившись в "чистую" горницу, Курбский подозвал к себе словоохотливую хозяйку и стал ее расспрашивать о Мосальских. Оказалось, что до поместья их было верст шестьдесят, а может и семьдесят, при том все проселочной дорогой, занесенной теперь снегом.
Таким образом добраться туда в потемках нечего было и думать: того гляди, с пути собьешься. Что же до самих Мосальских, то старик князь года полтора уже назад Богу душу отдал, а молодой князь был в походе с царской дружиной против супостатов-поляков. К удивлению хозяйки, Курбский как будто был даже этим доволен.
– Превосходно, – сказал он. – А отец Смарагд еще там?
– Попик-то? Жив старичок, жив; Господу, знать, еще угоден.
На другое утро, чем свет, Курбский сидел опять в своих санях. Тройку, из-за проселка по дремучему бору, пришлось запрячь гуськом; тем не менее, лошади то и дело увязали в снегу, а сани подбрасывало, качало на сугробах, как утлый челнок на бурном море. Было уже далеко за полдень, когда из-за прилеска показалась церковная колокольня. Около церкви, среди нависших под снегом дерев, ютился скромный домик священника. Далее, по косогору, раскинулось целое село, а над селом угрюмо и строго высился, за высоким тыном, старый княжеский терем с двойной кровлей и остроконечным верхом. Как все это было знакомо Курбскому и памятно – памятно не радостями, о, нет, а самыми горькими испытаниями!..
– К батюшке! – приказал он, и сани остановились перед низеньким крылечком священнического дома.
Отец Смарагд, сухенький, но подвижный старичок, с ясными, зоркими глазами, вышел ему навстречу в прихожую. Когда же Курбский, приняв от него пастырское благословение, поднял голову, то заметил, что батюшка пристально и вдумчиво вглядывается в его черты, словно припоминая, где-то он его уже видел.
– Память на старости лет слабеть стала! – промолвил старичок со вздохом и пригласил гостя за собой в свою "убогую хатину".
"Хатина", действительно, могла быть названа "убогой". Единственным ее украшением был киот с многочисленными старинного письма, образами. Даже деревянная лавка, на которую уселись теперь оба, ничем не была покрыта. Отец Смарагд начал с вопроса гостю, из дальних ли он мест.
– Из дальних, батюшка, – отвечал Курбский, – еду я из Северской земли, а путь держу на Москву; сюда же завернул нарочно по одному важному для меня делу...
– Так, так. Зима зело студеная, и снега великие; не убоялся – значит, дело важное. Смею спросить, как величать?
Курбский назвался, потом назвал и покойного отца своего но для захолустного пастыря Божьего фамилия знаменитого сподвижника Грозного царя была пустым звуком.
– Курбский... Курбский... – повторил он, внимательно всматриваясь в своего молодого собеседника. – К нашему князю на моей памяти из князей Курбских никто, кажись, не жаловал. А все ж таки твою милость я словно бы однажды видел.
– И не однажды, но в ином обличье – в холопском.
– Михайло Безродный! – узнал его вдруг отец Смарагд. – Да нет, статочное ли дело?
– Верно, батюшка, Михайло Безродный: в ту пору иного имени давать себе я не смел и был тут, у Мосальских, за простого холопа. Сам же ты ведь окрутил, повенчал меня по приказу старого князя с той... с Раисой.
Светлый взор старичка затуманился, и седая голова его скорбно склонилась.
– Не прогневись, сын мой, – сказал он, – и мы, служители Царя Небесного, перед земными барами своими – те же рабы, безвольные исполнители барской воли. Воспротивься тогда приказу старого князя, тебя бы я все равно не вызволил из беды, а сам бы благоприятства княжеского лишился. Передал я все руце Божией. И вот Божиим же изволением ты свободен ныне от тех насильственных уз.
– Как свободен?
– Да ужли же до тебя не дошло еще, что жены твоей Раисы (царство ей небесное!) второй год уже нет в живых?
Курбский осенился крестом и глубоко перевел дух, точно у него гора скатилась с плеч.
– Упокой, Господи, ее душу! – прошептал он. – Но от чего это с нею приключилось?
Отцу Смарагду доставляло, видимо, большое утешение обстоятельно поведать молодому князю о последних покаянных минутах Раисы. Еще два года назад ее свалил "недуг огненный" (горячка), и тем недугом до того ослабило "весь телесный ее состав", что ей не суждено было уже подняться. Таяла она "яко свеча восковая", а перед смертным часом, "яко лебедь поет последнее пение свое при издыхании", покаялась отцу Смарагду на духу во всех своих прегрешениях и поручила ему, буде судьба сведет его раз с ее мужем Михайлой, испросить для нее полное прощение.
– Несть бо человека без греха, токмо один Бог, – заключил свой рассказ старик. – Грех сладок, а человек падок. Но воссияют лучи солнечные и на лукавых, и на благих; да не зайдет же солнце в гневе своем без прощения, сын мой.
Потрясенный до слез, Курбский выразил желание посетить могилу покойной. Но батюшка объяснил ему, что и летом-то, пожалуй, не сразу отыскать ее могилу: такой же на ней, как и на других, простой, деревянный крест без всякой надписи; теперь же, в зимнюю пору, под снегом и крестов-то, поди, не видать. Тогда Курбский вручил старичку довольно крупную сумму на поминовение души "рабы Божией Раисы" и готов был сейчас же пуститься в обратный путь. Только наступившие уже сумерки принудили его отложить свой отъезд до другого утра.
Зато, на следующий день, выехав с проселка снова на большую калужскую дорогу, он мчался вперед на Москву день и ночь. Его наполняло давно неиспытанное чувство полной свободы, точно у него крылья опять отросли, и он может лететь, куда хочет. Да правда ли: между ним и Марусей не стоит уже эта вечная черная тень? Ему почти не верилось в такое счастье. Но сама Маруся ничего еще не знает; что, если она не выждет его приезда и примет схиму? И его, бесстрашного в смертельном бою с врагами, от одной этой мысли кидало в жар, охватывал безумный страх. Но как ни спешил он нагнать Биркиных, при всякой перемене лошадей на вопрос его: давно ли проезжал тут толстяк-купец с молодой девушкой, был один ответ: что проехали они еще накануне. Очевидно, и Маруся со своей стороны торопила дядю, чтобы возможно скорее оборвать последнюю нить с прошлым.
Наконец-то он и под Москвой. Но когда он подъехал к заставе, пробило уже 10 часов, и его задержали. Дело в том, что ровно в 10 часов вечера с городских башен набат оповещал москвичей об "указанном" часе для отдохновения от дневных трудов, и все большие улицы затворялись решетками*. Такой же набат за час до рассвета будил жителей и растворял решетки. Поневоле Курбскому пришлось заночевать опять на подворье у заставы. Однако и на утро его не пропустили еще в город: предъявленный им на заставе царскому приставу "пропускной лист", выданный ему царевичем Димитрием, возбудил небезосновательные подозрения. Отобрав сомнительный документ и подвергнув владельца его обстоятельному допросу, – кто такой, за каким делом и у кого остановится в Москве, – пристав отправился куда-то по начальству и заставил ждать себя довольно-таки долго. Возвратись, наконец, в сопровождении двух конных стражников, он хотя и пропустил Курбского в город, но под конвоем этих стражников.
______________________
* Впоследствии решетки были заменены рогатками.
Жил Иван Маркович Биркин довольно далеко от Калужской заставы, – на Успенском Вражке, и потому у Курбского было полное время удовлетворить свое любопытство относительно общего вида Москвы, где он был теперь впервые.
Москва начала XVII века, имевшая в окружности уже до сорока пяти верст, на левом берегу Москвы-реки состояла из четырех частей: двух центральных – Кремля и Китая, окружавшего их до реки полукольцом Белого города и обхватившего сей последний таким же кольцом Земляного города. Собственно городом считались Кремль, Китай и Белый город, отделенные каждый от соседних частей высокими каменными стенами. Земляной город (называвшийся также Деревянным и Скородомом) был не более, как пригород, состоявший из нескольких слобод. Точно так же и все Замоскворечье (правый берег Москвы-реки) было занято большой слободой – Стрелецкой.
Курбский, побывавший уже в столице польской, Кракове, и наслышавшийся столько о русской "Белокаменной", был несколько разочарован. Наименование "Белокаменной" было присвоено Москве, надо думать, главным образом, благодаря возведенным из кирпича и камня высоким городским стенам и башням, многим каменным же церквам и каменным строениям. Что же до обывательских домов, то не только в слободах, а и в самом "городе" большая часть их состояла из обыкновенных деревенских изб, там и сям даже так называемых "курных", крытых тесом и дранью, по окраинам же города просто соломой. Стеклянных окон в то время у москвичей, конечно, не было еще и в помине; в редких окнах была вставлена даже слюда; в большинстве же ее заменял бычачий пузырь или намазанный маслом холст. Немногие каменные "палаты" вельмож и богачей с разнообразными "службами", а также деревянные, в два-три жилья, дома зажиточных горожан укрывались в глубине обширных дворов и садов за деревянными заборами и с улицы почти не были видны.
"Деревня, совсем деревня!" – бормотал про себя Курбский, проезжая по закривленным улицам и переулкам, то без нужды широким, то чрезмерно узким, с бревенчатыми домишкам и бесконечными между ними заборами или огородами, лугами, прудами, пустырями.
Хотя, по мере приближения к центру города, дома принимали все более городской вид, и все чаще и чаще (чуть не через каждый пятый дом) попадались либо церкви с золотыми маковками, либо часовни, но в той же мере возрастало нетерпение и беспокойство Курбского; ему было уже не до того, чтобы любоваться чем бы то ни было.
Наконец-то вот и Успенский Вражек. Один из конвойных обогнал сани Курбского, поднимавшиеся шагом по пологому откосу, и остановил коня перед высокими воротами.
– Дом Биркиных? – спросил, подъезжая, Курбский.
– Точно так.
Ворота были крепкие, дубовые, с двускатной кровлей; под кровлей – старинная икона с неугасимой лампадой. Курбскому сейчас вспомнилось, что жена старшего Биркина, Платонида Кузьминишна, по словам Степана Марковича, была женщина куда благочестивая и богомольная.
"А что, как она уже пристроила Марусю в какой-нибудь монастырь..."
От одной этой мысли сердце у Курбского сжалось. Не выжидая, пока отворят ворота, он вошел в калитку. Главный фасад дома был обращен во двор, и на крыльце там стоял уже, в ожидании гостя, малец, чтобы провести его в дом. Очевидно, его углядели еще ранее из окон выходившего на улицу бокового флигеля.
– Все ли в добром здоровье? – был первый вопрос Курбского, когда он поднялся на крыльцо.
– "Самому" не так-то можется, – отвечал малец. – Объелся вечор осетрины...
– Значит, он дома?
– Дома, и "сама" тоже.
– А Степан Маркыч? – продолжал допрашивать Курбский, нарочно отдаляя вопрос свой о Марусе.
– Степан Маркыч с утра еще отлучился за Марьей Гордеевной.
– Как! А она где же?
– Бог ее ведает! Ночью еще скрылась, не сказавшись.
– За мной, Петрусь! – крикнул Курбский своему казачку, только что отпиравшему ворота.
На улице, однако, конные стражники загородили ему дорогу.
– Назад, боярин! До нового приказа не велено пускать тебя за ворота.
Курбскому ничего не оставалось, как возвратиться в дом.
Здесь из "светлицы" (гостиной) выплыла к нему навстречу с низкими поклонами "сама", женщина полная и рыхлая, в нарядном шелковом повойнике, который, однако, в спешке, видно, насажен был набекрень.
– Просим, – указала она ему с глубоким вздохом на лавку в красном углу под великолепной божницей, так и блиставшей золотыми окладами икон и подвешенными внизу пасхальными яичками, и сама же первая грузно опустилась на эту лавку, устланную богатым персидским ковром. – Горе наше, горе!
И новый вздох. Курбский попросил ее рассказать, как все случилось.
– Как случилось? – повторила Платонида Кузьминишна, утирая себе платочком заплывшие жиром глаза. – Степан Маркыч не даром, вишь, сказывал, что иноческая келья давным-давно уже грезилась Машеньке и во сне и наяву, как некая тихая пристань от бурь житейских. Ну, а как засядет тебе этакая мысль гвоздем в голове...
– А странницы твои, матушка, молотком вбили ей еще этот гвоздь! – донесся тут из соседней горницы в полуотворенную дверь сиплый мужской голос. – Здорово, князь! Эки дела-то!
– Здравствуй, Иван Маркыч, – отозвался Курбский, догадавшийся, что это "сам". – Про каких таких странниц говоришь ты?
– Да благоверная моя, изволишь видеть, не по разуму жалостлива, принимает в дом всяких побирушек и убогих...
– Ан и неправда! – запротестовала "благоверная". – Этих-то несчастненьких я только милостыней оделяю...
– И одеваешь, обуваешь.
– Да коли кто гол, как сокол? Не сам ли Спаситель наш велел отдавать ближнему последнюю рубаху! А богомольцев, странствующих людей Божьих, как у себя не приютить?
– Ну, вот и приютила этих двух бродяжек, которых николи допрежь и в глаза не видала!
– Да ведь уверяли ж меня, что идут прямехонько из святых мест, от гроба Господня.
– Верь больше! И оставила, вишь, целый вечер их одних с Машенькой!
– До них ли мне было, Иван Маркыч, сам посуди? Ведь надо ж мне было все приуготовить в доме для дорогого гостя. Кому в голову впадет, что они, бессовестные, тем часом уговорятся с Машенькой!
– Так она ушла вместе с ними? – спросил Курбский.
– Вместе, батюшка, вместе, тихомолочком, так что мы и ахнуть не успели. Толкнулась нонече поутру горничная девушка сперва к Машеньке, потом к странницам: что-то долго не встают? Ан пташка наша с теми воронами залетными вместе вылетела!
– Но куда? Не оставила ли она хоть записочки прощальной?
– Как же, как же, оставила: на столе у нее нашли. У тебя она ведь, Иван Маркыч?
– У меня; а то у кого же?
– Так дай-ка сюда, – показать.
– На.
В дверь просунулась мясистая рука с запиской. Когда Курбский принял последнюю, то увидел на один миг и самого владельца руки. Ростом Иван Маркович был, пожалуй, пониже своего меньшого брата, зато туловищем вдвое его толще, причем тучность его поражала тем более, что он был в затрапезном кафтане нараспашку. Курбскому было, однако, не до толстяка. Он читал и перечитывал записку его племянницы.
"Не кляните меня, мои дорогие! – писала бедная девушка. – Мне один конец – уйти от мира. Буду молиться обо всех вас, а где – и не ищите. Князю Михайле Андреевичу скажите, чтобы забыл меня, горемычную; авось еще найдет свое счастье. Спасибо вам, родные мои, за все, за все..."
– Ну, что, батюшка? – спросила Платонида Кузь-минишна. – Ничего тоже не вычитал?
– Нет... Пишет только, что ей "один конец – уйти от мира". А куда уйти человеку от мира, как не в монастырскую обитель?
– Вот и я тоже говорю. Ума только не приложу, как это они выбрались отсюда ночью промеж уличных решеток?
– Экая мудрость! – подал опять голос из-за двери Иван Маркович. – В Кремле да в Китае, на глазах царя, решетки, знамо, чинятся и замки в порядке. А к нам, в Белый город, кто из царедворцев заглянет?
– Но меня вечор от заставы и сюда не пропустили, – заметил Курбский.
– Еще бы: положение строгое – держать все улицы на запоре. А толкни-ка этакую решетку у нас хорошенько – сама собой отопрется, али совсем повалится.
– Но ведь кто-нибудь же должен быть за то в ответе? Ведь отпускаются же на то и деньги из казны?
– Э, батенька! Казна не плачет, а карманы у подьячих наших – прорва бездонная...
– Да, грехи, грехи! – заныла опять Платонида Кузьминишна. – А я-то как уж радовалась нашей богоданной дочке, и сказать не могу! Будет она мне, думаю, писания святых отцов читать, будем вместе и к заутрене ходить и к вечерне...
На этом иеремиада ее была прервана Степаном Марковичем, вошедшим к ним из прихожей, еще в шубе и меховой шапке.
– А, князь Михайло Андреич! – приветствовал он Курбского и, тяжело отдуваясь, опустился на ближайшую скамью. – Жаль мне тебя, сердечный, жаль!.. Во всех наших женских обителях перебывал, самих настоятельниц выспрашивал...
– И ни к чему?
– Везде один ответ, словно сговорились: "кабы и была к нам принята, так не выдали б: отрешилась, стало, на веки от мира и родных".
У Курбского, питавшего еще слабую надежду на поиски Степана Марковича, и руки опустились.
– Если б она только знала... – пробормотал он в полном отчаянии. – Но она еще не успела принять схиму... Если меня завтра же не выпустят из дому, я вырвусь отсюда насильно и разыщу ее во что бы то ни стало!
Глава одиннадцатая
ПЕРЕД ЦАРЕМ БОРИСОМ ГОДУНОВЫМ
Под гостеприимным кровом Биркиных, на мягких пуховиках, взбитых при личном участии заботливой хозяйки, спалось Курбскому куда покойнее и слаще, чем на постоялых дворах или просто в санях; а потому, несмотря на свою сердечную кручину, он с дальней дороги заспался до позднего утра. Когда он кончал уже одеваться, к нему постучались в дверь.
– Кто там? – спросил Курбский.
– Скоро ли ты выйдешь, князь? – послышался в ответ голос Ивана Марковича
– А что?
– К тебе боярин от самого царя.
– Так я и ждал! Сейчас, скажи, выйду.
– Да ты с ним не больно-то того... Ведь знаешь ли, кто этот боярин?
– Кто?
– Сам князь Шуйский Василий Иванович!
"М-да! С этим держи ухо востро. Он и у Грозного царя, слышь, был в большой милости, у царя Федора же хоть и попал в опалу, да у Годунова опять укрепился. Он же, ведь, делал на месте в Угличе розыск об убиении царевича Димитрия; ему, значит, ближе, чем кому-либо другому, ведомо, что убийцы второпях, заместо царевича, закололи одного из его жильцов (пажей); но раз Димитрий скрылся, надо было замести и след, – и хитрец его замел. Посмотрим, каков-то он, как себя теперь поведет?"
В воображении Курбского рисовался высокий старик с колючими глазами, но с вкрадчивой улыбкой. И что же? Навстречу ему поднялся с лавки приземистый, полный мужчина средних еще лет, сурового вида и куда невзрачный. Только богатая "турская" шуба и высокая "горлатная" шапка (из меха горла пушных зверей), которых тот так и не снял, свидетельствовали о его знатном происхождении, а в его подслеповатых, с кровяными жилками, глазах лишь изредка, как бы невзначай, вспыхивал скрытый огонек, выдававший сильный ум, сильную энергию.
Чуть-чуть кивнув головой в ответ на вежливый поклон Курбского, Шуйский прямо заявил, что прислан он от всемилостивейшего государя своего, чтобы принять грамоту того человека, что облыжно именует себя царевичем Димитрием.
Курбскому стоило немалого самообладания, чтобы ответить с должной сдержанностью:
– Не взыщи, боярин, но такова воля царевича Димитрия Ивановича, чтобы грамоту его я передал из рук в руки самому царю Борису Федоровичу.
– То воля твоего царевича, но воля моего царя иная, а у нас на Москве никакой иной воли, помимо царской, не положено.
– Для подданных царя Бориса, точно; но для полномочных послов еще выше воля их монархов.
– Хотя бы таковой монарх и был из беглых монахов?
Но едва лишь Шуйский произнес это, как весь съежился и помертвел, потому что стоявший передним молодой исполин, превышавший его двумя головами, прикрикнул на него громовым голосом:
– Ой, берегись, боярин! Сдержи свой дерзкий язык! Коли не ты, так царь твой Борис хорошо знает, что мой царевич – не беглый монах, а истинный сын царя Ивана Васильевича, спасенный Всеблагим Промыслом от наемных убийц. Это столь же верно, как и то, что я – князь Курбский, сын первого сподвижника его родителя. И горе тебе, боярин, когда царевич мой воссядет на прародительский престол! А раньше ли, позже ли это, верь мне, совершится, и сам ты тогда, как червь, приползешь к его стопам.
Опытный царедворец успел уже оправиться и, не возвышая голоса, отвечал холодно и с достоинством:
– Что ты сын Андрея Михайловича Курбского – я охотно тебе верю. Некогда я не токмо знал его, но и дружил с ним, пока он не пошел своей дорогой, и в память этой-то дружбы, а также ради твоей юности, – прости тебя Бог. Твоих горячих слов я словно бы и не слышал. Так что же, грамоты к царю Борису Федоровичу ты мне так и не отдашь?
– Не могу отдать, боярин, прости, хоть бы и рад был.
– Твое дело. А допустит ли еще государь тебя до своих очей – зело сумнительно. И придется тебе, чего доброго, отъехать вспять ни с чем.
– Не допустит до себя, так на свою же голову! – воскликнул Курбский.
– Тише, тише, князь! Ты все, поди, забываешь, что мы здесь не в Кракове у ляхов, а в первопрестольном граде русского царя. Доложу я государю о твоем отказе; что он порешит – о том тебя в свое время оповестят. А дотоле не изволь-ка выходить за порог дома.
– Но мне по собственному делу неотложно нужно!..
– Мало ли что кому нужно! Да коли таков приказ царский? Его же не перейти.
Старший Биркин, в качестве хозяина, выжидал выхода именитого посетителя в прихожей и с униженными поклонами проводил его до возка, а проводив, влетел в светлицу к Курбскому.
– Помилуй, князь, что ты с нами делаешь? Мы тебя приютили, пригрели, а ты этакому-то вельможе у нас же в доме согрубил! Из-за двери мы с братом все ведь слышали.
– Да, милый князь, не ждали мы от тебя, не ждали! – поддержал вошедший вслед за братом Степан Маркович. – Теперича нас, того и гляди, спровадят из Москвы куда Макар телят не гонял.
– А добро наше в казну отберут, – подхватил опять Иван Маркович, и напустился вдруг на младшего брата. – А все ты, брат Степан, все ты: "породнимся, мол, с родовитым князем, – самих нас за собой в дворянство вытянет". Вот тебе и породнились! Вот тебе и дворянство!
Разгоряченного крупным разговором с царским посланцем Курбского как холодной водой окатило. Оба дяди Маруси, очевидно, оказывали ему до сих пор такое расположение не столько даже из-за своей племянницы, сколько из-за своих личных, честолюбивых расчетов. Но, ради Маруси, он готов был все это забыть.
– Мне самому крайне прискорбно, что через меня тебе, Иван Маркыч, столько беспокойства, – сказал он. – Но не тревожь себя попусту. И тебя и Степана Маркыча я во всем обелю. Шуйский – человек большого ума и должен понять, что с царевичем моим не шутки шутить. Не нынче, так завтра, помяни мое слово, он опять пожалует звать меня прямо во дворец.
Говорил это Курбский так уверенно, что оба Биркина снова приободрились. Когда он тут еще заявил, что, как только ему будет дозволено выйти за ворота, он первым делом поищет себе другого пристанища, радушного вообще хозяина как будто и совесть зазрела.
– Ну, что ж, поживешь у нас еще день другой – не беда, – сказал он. – Семь бед – один ответ.
– Да и беды, даст Бог, никакой не будет, – подхватил младший брат. – А примут тебя во дворце как заправского посла, так наша взяла.
– И самому тебе, послу, будет тогда посольский почет, – добавил Иван Маркович. – Помнишь ли еще, брат Степан, как при царе Федоре Ивановиче прибыло к нам в Москву посольство из неметчины?
И оба брата принялись с одушевлением, наперерыв, вспоминать о въезде немецкого посольства: навстречу послам выехали-де за город два пристава со стрельцами и за двадцать шагов вышли из саней и сняли шапки; то же самое сделали оба посла и выслушали, с непокрытой на морозе головой, приветствия сперва одного пристава, потом другого и, наконец, царского конюшего. Этот предложил послам двух бесподобных белых коней с богатейшей сбруей, а чинам посольства двенадцать других коней; после чего все двинулись в город чинным порядком: впереди двадцать четыре конных стрельца, за ними посольские чины, по три в ряд, за этими трубачи с серебряными трубами, а за трубачами оба посла и по обе руки их – пристава. От самых городских ворот до посольского дома по всем улицам были выстроены два ряда стрельцов. А народу-то, ротозеев, видимо-невидимо... Вот почет, так почет!
Хотя розовые надежды братьев Биркиных и не оправдались, но ожидание не совсем-таки обмануло Курбского. На следующее утро за ним были присланы придворные сани; упряжные кони были рослые, в богатой сбруе, полость была пышная, медвежья, а впереди бежали два скорохода, но тем и ограничился весь почет. Звать Курбского во дворец прибыл теперь уже не боярин, а молоденький боярский сын, Андрей Васильевич Бутурлин. Выказывая такое пренебрежение к посланцу названного царевича Димитрия, Годунов не принял одного в расчет – молодости Бутурлина. Юноша невольно поддался обаянию светлой личности Курбского. Когда кони понесли их по направлению к Кремлю, Бутурлин, чтобы изгладить перед приезжим первое невыгодное впечатление от Москвы, принялся с особенным усердием выхваливать ему все достопримечательности Белокаменной. И вдруг, совершенно неожиданно, спросил его, понижая голос, чтобы кучер не расслышал:
– А что, князь, прости за спрос, ты никогда еще не видал нашего царя?
– Нет, не довелось, – отвечал Курбский, – но много об нем наслышан.
– Что же ты слышал?
– Слышал, что муж он многомудрый, радеет о державе своей, о народе.
– Вот, вот! – радостно подхватил Бутурлин. – Сколько дивного творил он для прославления Руси, сколько добра для народа!
– А все не в прок, – возразил Курбский, – народ все-таки ропщет, клянет Годунова...
– Потому что меж бояр есть у него недруги-завистники, что мутят народ.
– А чем он нажил себе этих недругов? Тем, что ко властолюбию ненасытен, сердцем черств, безжалостен...
– О, нет! Для добрых он и доселе добр; а уж в детях своих: царевиче Федоре да царевне Ксении, просто души не чает; сам обучает их, особливо царевича, всякой книжной премудрости, чтобы было на кого оставить престол свой.
– Ну, этому никогда не бывать! – прервал Курбский. – Этого Господь не попустит!
Бутурлин испуганно взглянул на него со стороны; но, встретив его открытый, честный взгляд, заметил:
– Ты, князь, я вижу, крепко любишь того, от кого прислан; а я еще крепче, может, люблю царя Бориса. О, кабы и тебе его так полюбить, утвердиться при нем!
– Об этом, Андрей Васильич, и разговору быть не может; ты поймешь, разумеется...
– Понимаю, князь, отлично понимаю, а все-таки так, право, жаль... И боюсь я за тебя!
– Да слишком уж ты прямодушен, всякому в лицо правду режешь. Как раз накличешь еще на себя немилость царскую. Козни боярские, нечего таить, ожесточили царя; чает он измену везде, даже там, где ее нет. Остерегись же, Бога ради, в речах своих, не перечь ему!
– Хорошо, хорошо, остерегусь, – улыбнулся в ответ Курбский, которого не могло не тронуть такое теплое участие к нему юноши, видевшего его первый раз в жизни.
И вот они во дворце, и рядом палат проходят в престольную палату. Несмотря на свою возбужденность при входе в эту палату, Курбский вскользь не мог не заметить ее богатого убранства: стены были затейливо расписаны, а пол устлан дорогими коврами. В глубине палаты, под образом Богоматери, сделанным мозаикой из самоцветных каменьев, на возвышении в несколько ступеней, обитом алым бархатом, восседал на троне, в порфире и мономаховом венце, со скипетром в руке, сам царь Борис. Около трона, слева, виднелись на серебряном решетчатом столике держава с крестом, а на столике поменьше – золотая умывальница с расшитым полотенцем. По сторонам трона стояли четыре (по два с каждой стороны) молодых рынд (телохранителей) в белых бархатных кафтанах с горностаевой опушкой, в высоких рысьих шапках, с нагрудными золотыми цепями и с серебряными секирами на плече. Хотя Годунову, как знал Курбский, было уже пятьдесят три года, но на вид он был еще очень бодр, сановит и красив, а торжественная обстановка придавала ему еще большую величавость и мужественную красоту.
Рядом с царем сидел такой же красивый, белолицый и черноглазый, полного сложения отрок в парчовой одежде с непокрытой головой: по семейному сходству с Борисом, в нем нельзя было не признать его сына, царевича Федора*; по стенам же кругом, также на уступах, но пониже, сидели на скамьях бояре и окольничие в роскошной одежде из золотой и персидской ткани.
______________________
* Современник (Кубасов) так описывает молодого царевича: "Царевич Феодор, царя Бориса отроча зело чудно, благолепием цветущи, яко цвет дивный на селе от Бога преукрашен, и яко крин в поле цветуш; очи имея велики черны, лице же ему бело, млечной белостию блистаяся, возрастом средний, делом изобилен; научен же бе от отца своего книжному почитанию, во ответех дивен и сладкоречив вельми, пустошное же и гнилое слово никогда же из уст его исходаше, о вере и поучении книжном со усердием прилежаше"
При появлении Курбского, взоры всех присутствующих разом обратились на входящего. Один царь только, казалось, не приметил его и протянул руку к сыну, чтобы взять у него из рук какой-то большой лист. Водя по листу перстом, Годунов начал задавать царевичу вопросы. По долетавшим до Курбского отдельным названиям: "Мурманское море", "Великий Новгород", "Литва", он догадался, что то была географическая карта.