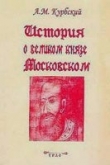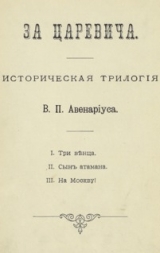
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
– Вестимо, – говорит, – без него. Примерно завтра они с боярыней званы во дворец на вечерний пляс. Заходи вечерком...
– И ты зашел, не спросясь даже у меня?
– Да ведь ты, княже, меня в дом к ним, пожалуй, и не пустил бы...
– А! Так боярин этот из моих недоброжелателей? Уж не князь ли Татев?
– Ой, нет, нет! К этому людоеду я и сам бы не сунулся. Так вот, прихожу я туда, обошли мы этак три-четыре палаты, осмотрели всякую штуку, как вдруг под окнами грохот. Что такое? Ан подкатила колымага, господа вернулись уже из дворца. Забегали тут люди по дому, заметались туда-сюда.
– Тише вы, не шуметь! – гаркнул боярин. – Зажечь огни в светлице! Сейчас будут ко мне бояре на большой совет, только с заднего крыльца...
"Гай, гай! – думаю себе. – Во дворце веселие и пляс, а они, вишь, сбираются тут на большой совет, да крадучись с заднего крыльца. Знать, неспроста!"
– А тебя-таки не заметили? – прервал рассказчика Курбский.
– Нет, мы с приятелем притулились за дверью, а как прошел далее боярин, мы шмыг в темный переход.
– Ну, братику мий, – говорит приятель, – теперычка утекай до дому.
– Утечешь! – говорю. – Ведь с заднего-то крыльца, слышал, сейчас гости будут?
– Ось казусное дело! Куда же мне скрыть тебя?
– А в какой ни на есть чуланчик, – говорю. – Верно, найдется?
– Как не найтись...
– Так что же?
– То-то вот, – говорит, – что чуланчик мой как раз около светлицы нашего боярина, где будет сейчас большой совет, а ты, не дай Бог, чихнешь...
– С чего мне чихать-то?
– С пыли: больно там уж пыльно...
– Не чихну! – говорю, – заспокойся. А мне, братику, куда занятно бы послушать, о чем этакие умные люди промеж себя речь ведут! Кабы только еще в щелочку одним глазком взглянуть: николи ведь вблизи царских вельмож еще не видел...
– Аль показать? – говорит, а сам смеется. – Ведь у меня из чуланчика туда для себя дырочка просверлена!
– Ну, хитер же ты! – говорю. – Покажи. Во век не забуду!
А он и рад. Провел меня в свой чуланчик; в окошечко его самодельное из светлицы уже свет к нам брезжит: зажгли, значит, огни. Глядь, поодиночке сбираются и гости. Хозяин всякого встречает с поклоном, всякого по имени и изотчеству величает...
– Так что ты всех их мог бы, пожалуй, назвать поименно? – спросил Курбский.
– Мог бы, княже, но, прости, и тебе не назову.
– Ну, и что же дальше?
– Ну, вот, как собрались, хозяин и говорит им, что, так и так, мол, созвал он их нарочно в столь позднюю пору прямо-таки из дворца, чтобы тем часом, что поляки там веселятся, потолковать келейно. Да чего я тут наслышался – крий, Мати Божа!
– А говорил больше все хозяин?
– Все он один; те только, знай, поддакивали. Каждое слово его словно ножом врезалось мне в память. Начал он с того, что послы-де польские требуют теперича для своего короля Сигизмунда не токмо уже Северскую землю и Смоленск, но и Новгород Великий, Псков, Луки, Торопец, Вязьму, Дорогобуж и иные прочие русские города; что были те города некогда будто бы литовскими, а Литва-де искони была польская.
Тут все бояре как завопят в один голос:
– Лгут они, вражьи дети! И Литва-то сама не польская. Да этак скоро пол-Руси у нас отберут!
– И отберут, – говорит хозяин, – коли мы дадим им, окаянным, еще царить над нами. Нонече ведь еще, – говорит, – когда дьяк Грамотин позвал королевских послов на царскую хлеб-соль – те спрашивают первым делом, посадит ли государь их за один с собой стол. Когда же дьяк им в ответ, что у нас, русских, никому-де не положено сидеть за одним столом с царем, окроме царицы, они уперлись: "А мы имеем, мол, повеление от его королевского величества требовать себе место за царским столом; буде же нам в том откажут, то не шли бы вовсе на брачный пир". Спасибо еще пану воеводе, что вступился в дело: сошлись хошь на том, чтобы старшему послу, Олесницкому, сидеть по правую руку от царя за отдельным столом, а второму послу, Гонсевскому – за общим столом с нами, боярами, но все же ведь на первом месте! А музыка за столом какая была? Все польская! А на чье здоровье заставили пить нас? На здоровье "друга нашего" короля польского, потом "великих" послов, потом и прочих "дорогих" гостей-поляков! И те первые же хором орали по-своему: "Виват!" А к концу стола все перепились заморскими винами, да во хмелю принялись поносить наши стародавние обычаи, нашу святую церковь такими словами, что святых вон выноси. А мы молчи, покуда самих нас, всю Русь православную, не перерядят в польские жупаны, не перекрестят в латынскую веру! И сам народ наш это уже чует. "Статочное ли дело, – говорит народ, – чтобы русская царица была еретичкой? Не срам ли для русского боярства, что царь пренебрег всеми московскими боярышнями и взял себе жену из поганой Польши? И в угоду ей и ее родичам на царской кухне все кушанья готовятся на польский лад, жарят и варят телятину*, ажно поваров омерзение берет, и разносят они об этом молву по всему городу. Каждое утро в монастыре у царицы Марфы, а теперича и во дворце топили баню для царицы-полячки, а она хошь бы раз-то помылась! Сам государь хошь и ходит в церковь, да с целой оравой проклятых ляхов, а те водят туда с собой собак и оскверняют тем святыню. Церковные дома уже отняли у многих наших пастырей и отдали еретикам. Скоро, поди, и храмы Божии отдадут им!" – Вот что говорит наш простой народ. А не ведает он еще того, что и сам-то государь перешел уже в латынство...
______________________
* В те времена русские вовсе не ели телятины.
Как только вымолвил это хозяин, все бояре разом загорланили:
– Да быть того не может!
– Слышать-то и мы уже кое-что слышали...
– Иначе разве выдал бы он нас врагам нашим головою?
– Да подлинный ли он еще сын Грозного царя?
– Слово сказано, – говорит тут хозяин, – будь он настоящего царского рода, стал ли бы он губить свою родную православную Русь? А значит, он обманщик, самозванец! И мы, бояре, терпим на престоле такого проходимца? Кому, как не нам, отечество блюсти, быть щитом своего народа от иноплеменных? Их здесь в Москве всего на все тысяч пять; нас, русских – сотни тысяч. Только ударить в набат...
На этом месте своего оживленного рассказа казачок умолк, чтобы глубоко перевести дух.
– Ну? – заторопил Курбский, которого охватывало также все большее волненье.
– Дальше я уже не стал слушать: надо было улепетывать подобру-поздорову. Вывел меня приятель опять тихонечко из своего чуланчика, да разными переходами выбрались мы этак на заднее крыльцо.
– Ну, спасибо, – говорю, – наслышался, чего никак уже не думал, не гадал!
А он меня за рукав.
– Постой, друже, – говорит, – есть на тебе ведь нательный крест?
– Как, – говорю, – не быть.
– Так вынь-ка его.
– Зачем?
– Вынь! – говорит. – Иначе ведь не отпущу. Вынул я крест, а он:
– Целуй мне его на том, что ни меня, ни боярина моего не выдашь.
Я было туда-сюда, отлынивать, а он все свое:
– Слухай, чоловиче: дружба дружбой, а своя шкура все же чужой дороже. Ведь я тебя, коли на то пошло, не пожалею; крикну, так тебя сей же час схватят.
Этакий ведь Иуда! Что с ним поделаешь? Хошь не хошь, пришлось целовать крест...
– Но я этого так не оставлю, – объявил Курбский. – Подай-ка мне ферязь и шапку.
Петрусь оторопел.
– Да ты куда, княже? Не во дворец же к царю?
– К самому царю – упредить теперь же, пока он еще не ложился.
– Помилосердствуй, милый княже! Ведь я же клялся...
– Ни про тебя, ни про твоего приятеля не будет говорено ни, слова; но про заговор бояр мне умолчать нельзя, нельзя! Кто убрался из дворца вместе с Шуйским – те, значит, с ним и заодно.
– С Шуйским? Да разве я Шуйского тебе поминал? И мало ли Шуйских...
– Шуйский главарь один – князь Василий Иванович: дважды он уже злоумышлял против государя...
– Нет, нет, не он, право, не он! – старался уверить мальчик, но дрожащий голос и смертельный испуг, написанный на лице его, говорили противное. – Ты его, Бога ради, не называй...
– Хорошо, хорошо, и его не назову. Без того, авось, догадаются. Так где же ферязь?
Полчаса спустя Курбский был уже во дворце. Танцы, оказалось, кончились; большинство гостей разъехалось по домам; но Басманов, тесть государев Мнишек и некоторые другие из поляков оставались еще при государе. Говорить в присутствии врагов об измене русских бояр Курбский постеснялся, а потому велел вызвать к себе в приемную одного Басманова: этот новый любимец Димитрия, без всякого сомнения, оставался ему непоколебимо верен.
– Доброго вечера, князь, – были первые слова входящего Басманова. – Привело тебя сюда в столь поздний час верно что-нибудь совсем безотложное?
– Да, боярин. Думал я было сперва побеспокоить самого государя...
– Теперь он тебя все равно бы не принял. Эти господа поляки надумали устроить на днях для молодой царицы рыцарские игры – турнир...
– Мое дело, боярин, куда важнее этих игр...
Понизив голос, чтобы бывший в приемной караул не расслышал, Курбский рассказал о новом заговоре бояр и передал, по возможности, дословно то, что говорилось на их тайном совещании. Басманов ни разу его не прервал и нервно только покусывал усы.
– Ты сам был также при этом? – спросил он, когда Курбский кончил.
– Нет, но за верность всего рассказанного ручаюсь.
– Ручаешься? Значит, слышал от совершенно верного человека?
– Да.
– Кто же он?
– А уж этого, прости, не скажу. Я дал обещание никого не называть.
– Даже зачинщика заговора?
– Даже его.
– Этакая ведь досада!.. – пробормотал Басманов. – Сам я в тебе, князь, уверен; но не все тебе поверят на слово. Им подай все, как на ладони, назови всякого...
– Этого они от меня не дождутся!
– Доброй волей, да. Но они могут вырвать у тебя признание силой.
– Пристрастным допросом? Если у них поднимется рука на невинного, то у меня достанет духу вынести всякие муки!
– А может быть, и смерть? Но каково-то это будет для твоей молодой вдовы.
При упоминании самого дорогого ему в мире существа Курбский изменился в лице, но решимость его осталась та же.
– Она перенесет это испытание Божие, – сказал он, – как переносила не раз и прежде.
– Это твое последнее слово?
– Последнее. Басманов пожал плечами.
– Боюсь я за тебя, князь, крепко боюсь! Не пеняй же на меня.
С этими словами он удалился. Недолго погодя дверь из внутренних палат снова растворилась, но вошел уже не Басманов, а старший адъютант Сен-домирского воеводы, пан Тарло. При виде Курбского, на губах его давнишнего недруга заиграла зловещая улыбка.
– По царскому повелению, ясновельможный князь, я вас арестую, – объявил он; затем, обратись к начальнику дежурной немецкой команды, потребовал, от имени государя, эскорт в пять человек.
Выйдя из дворца, они повернули в сторону тайного сыскного приказа.
– Вы сдадите меня князю Татеву? – спросил Курбский.
– С удовольствием сейчас сдал бы, – отвечал пан Тарло. – Но его милость, к сожалению, изволит уже почивать, а потому вам придется потерпеть до утра.
Несколько шагов они прошли молча. Нарушил молчание опять Курбский:
– Вы позволите мне, пане, еще вопрос? Басманов во всей подробности докладывал обо мне государю?
– Во всей подробности? Зачем! Государю было не до вас.
– И, не зная дела, он велел отправить меня в застенок?
– Как вам сказать?.. Как только Басманов начал про заговор, его величество перебил его: "Опять ты, Петя, с этими пустяками! Какие там заговоры?" – Тогда пан воевода отвел в сторону Басманова, порасспросил его хорошенько, а потом уже спросил у государя разрешение сдать доносчика в руки князя Татева.
– И государь разрешил?
– Как видите.
– Так имени доносчика ему даже не сказали?
– Вашего имени? Для чего! А вот и ваше новое местожительство. Доброй ночи и приятных снов.
Тем временем оставшийся дома казачок Курбского с понятным беспокойством ожидал его возвращения. Напрасно прождав целую ночь, он понял, что с господином его приключилось что-то неладное. К беспокойству у него прибавились теперь еще угрызения совести: не он ли, Петрусь, разболтав о заговоре, всему причинен?
И скрыв даже от Биркиных отсутствие Курбского, чтобы избежать неудобных расспросов, он с утра же отправился на разведку.
"Кому лучше знать про все, как не этому приспешнику Басманова, Бутурлину? – рассуждал он сам с собою. – Так вот первым делом его и разыщем".
Но, не дойдя до дворца, где он хотел справиться о Бутурлине, Петрусь столкнулся лицом к лицу с Эразмом Бенским, бывшим некогда младшим лекарем Бориса Годунова, лечившим (как припомнят читатели) и Курбского.
– А, пане дохтур! – обрадовался мальчик. – Сам Бог послал мне тебя! Не видал ли ты с вечера моего господина?
Озабоченные уже черты Бенского еще более омрачились.601
– Твоего господина? – вполголоса повторил он и с опаской огляделся кругом.
– Ну да, князя Курбского.
– Т-с-с! Ступай за мной.
Они вышли опять из Кремля; тут только Петрусь решился возобновить свой вопрос.
– Видеть-то его я видел, – со вздохом отвечал Бенский, – и еще не раз увижу, но рад бы не видеть!
– Да что с ним, мосьпане?
– Молнией его хватило...
– Молнией! Быть не может: и грозы-то никакой не было.
– На иных высотах, милый мой, грозы бывают и при ясном небе. "Procula Jove – procula a fulmine", – говорили еще римляне, – "близко к Юпитеру – близко и к молнии". И надо ж было ему соваться туда!
– Куда?
– Да к Юпитеру. А тот сгоряча хвать его молнией.
– Прости, добродию, но я что-то в толк не возьму...
– Попросту сказать: сдал его палачам в застенок.
– Батечку мий! И что же, там-то его ты и видел?
– Там и видел.
– Так неужели ты тоже один из его мучителей? Краска негодования поднялась в щеки молодого врача. Но он сдержал себя и ответил с сознанием собственного достоинства:
– Разве я похож на палача? Нет, я лечу пытаемых, а кого не вылечить, тому, как умею, облегчаю муки.
– Но ты состоял прежде придворным дохтуром...
– При царе Борисе, точно. Ну, а у нового царя свои люди...
– И ты пошел на службу в сыскной приказ!
– Служба, правда, не почетная; но пользы там от меня ближним куда больше.
– Ох, горечко мое! Кабы мне добраться только до Басманова...
– Аты думаешь, что Басманов тут ни при чем? Скажу уж тебе, так и быть, что господин твой говорил с одним лишь Басмановым, и вот до палачовых рук дошел! Ну, будь здоров и молись Богу: если кто может еще ему помочь, так один Бог!
Бенский скрылся уже из виду, а казачок наш все стоял еще там на том же месте. Вдруг слезы хлынули у него из глаз, и он принялся с ожесточением колотить себя по голове кулаками, приговаривая:
– Вот тебе, негодивец! Вот тебе!
Прохожие с недоумением оглядывали "негодивца" и обходили кругом; один же, должно быть веселый парень, спросил "не пособить ли?" и дал ему от себя такого подзатыльника, что мальчик едва удержался на ногах. Но подзатыльник привел его опять в себя.
"Лихой запорожец – и слезы роняешь!" – вспомнились ему слова Курбского, и, отерев глаза, он разом перестал плакать.
"Коли кто может еще выручить князя, так княгинюшка! – сказал он себе. – Степана Маркыча, родного дядю, к ней верно допустят".
Степана Марковича он застал в его лавке в Китай-городе. Но, услышав от мальчика, что Курбский угодил в застенок, осторожный коммерсант отнесся к заключению несчастного со своей коммерческой точки зрения:
– И дернуло же его, торопыгу, вылезать из своей берлоги – из Марусина! Коли пойдет в огласку, так и нас с братом, чего доброго, притянут еще к ответу... А там долго ли нас в разор разорить...
– Но княгиня-то Марья Гордеевна тебе, я чай, племянница родная, – убеждал Петрусь. – И ей из-за мужа, пожалуй, тоже несдобровать.
– В царских-то чертогах, под крылышком самой царицы? Что ей там делается? А нашего брата, серого человека, живо тоже в яму упрячут; да как ноги-руки на пытке вывертят, так новых себе, небось, не купишь!
– Эх, Степан Маркыч, Степан Маркыч! – укорил бессердечного себялюбца возмущенный Петрусь. – Покорыстоваться нечем, так и близких не пожалеешь! Деревянная твоя душа!
Тут и сам Степан Маркович не выдержал, вышел из себя:
– Ах ты, рвань поросячья! Мне, мне такие речи! Вот погоди, вернусь домой, таковских велю тебе засыпать, что до новых веников не забудешь!
"А ведь, чего доброго, его на это станет, управы же на него ни от кого мне уже нету", – сообразил сметливый казачок.
И, скрепя сердце, он с виноватым видом попросил его не гневаться через меру за "неподобные" речи.
– Сгоряча ведь молвилось, Степан Маркыч...
– То-то вот сгоряча! Не след бы мне с тобой, малолетним, и бобы разводить. Ну, да Бог тебя простит.
– А все ж таки, Степан Маркыч, как от тебя мне никакой помоги не ждать уже для моего князя, так я пойду-ка еще, сам попытаюсь...
– Ступай, миленький, попытайся; по крайности, без дальних хлопот вместе с своим князем в рай попадешь. А хочешь еще малость с нами, грешными, на белом свете помыкаться, так сиди себе под кустом, позакрывшись листом, не гукни!
И послушался Петрусь мудрости житейской практика-купчины, до времени "не гукать".
Таким-то образом Маруся во дворце оставалась в полном неведении относительно участи, постигшей ее мужа. Хотя она раз и другой писала к нему, но, по тайному распоряжению пана воеводы, письма ее не отправлялись по назначению. Не получая ответа, Маруся тревожилась все более и более. Сердце ее безотчетно ныло, как бы в предчувствии страшной беды. Но когда она как-то заикнулась об этом молодой царице, та подняла ее на смех, что и несколько-то дней она не может обойтись без своего "грозного повелителя", который, напротив, кажется, прекрасно обходится без своей "смиренной рабы". И Марусе, против собственного желания, приходилось участвовать во всех придворных развлечениях, устраивавшихся в честь польского посольства. Закончиться эти непрерывные празднества должны были в воскресенье, 18-го мая: днем предстоял настоящий рыцарский турнир, на котором польские рыцари, на удивление москвичам, должны были ломать копья, а вечером – маскарад, на котором и царь и царица должны были, наравне с придворными, появиться в масках и в фантастических костюмах. Ни турниру, однако, ни маскараду уже не было суждено состояться...
Глава двадцать четвертая
ДРАМА 17-ГО МАЯ 1606 ГОДА
Не имея теперь в доме Биркиных никаких определенных обязанностей, Петрусь нигде не находил себе покою; ночью же, когда все прочие домочадцы спали сном праведных, он один по часам ворочался на своем, набитом сеном, мешке, тяжело вздыхая и отмахиваясь от несносных комаров, влетавших к нему из хозяйского сада в открытое, по случаю майской теплыни, окошко.
Но вот, под утро на субботу, 17-го мая, когда бедный мальчик едва только забылся чутким сном, в каморку к нему ворвался снаружи такой могучий перезвон всех московских колоколов, что он тотчас пробудился и сорвался с постели.
"Набат! Уж не дело ли это заговорщиков?" – было первою его мыслью.
А тут через забор с улицы донеслись еще звуки быстрых шагов, оживленные голоса:
– В Кремль, в Кремль! Смерть полякам. "Так и есть! Вот и спасение моему князю..."
И Петрусь уже одет и выскакивает на улицу, чтобы примкнуть к одной из бегущих групп, все почти одного простонародья: рабочих, мужиков да бездомной голытьбы, так называемой "голи кабацкой".
Лучи только что восходящего солнца ярко озаряют кудрявые верхушки деревьев за заборами и краснеющие меж свежей зелени крыши, безоблачное небо так и синеет, утреннею свежестью дышится так легко, и все эти люди шагают так бодро, обгоняя друг друга, точно торопятся на какой-то народный праздник. Но почти все они вооружены – кто дубиной, кто железным ломом, кто топором, а кто и самопалом; все говорят меж собой ни о чем ином, как о поляках, которые хотят-де православные храмы обратить в польские костелы, а народ силой перевести в свою поганую веру.
– Ну, а с немчурой этой как же? – спрашивает один. – С ними тоже зараз уж расправиться?
– Что ты, братец! – говорит другой. – Немцы служили царям нашим всегда верой и правдой; так ни их самих, ни домов их не велено, трогать, ни-ни!
– Да дома-то, чай, один как другой; как распознаешь: где немцы стоят, где поляки?
– А очень просто: на воротах у поляков за ночь везде черные кресты проставлены; как крест, так, стало, и громи... Ну, народу!
В самом деле, из боковых улиц и переулков прибывали все новые толпы, и чем ближе к Кремлю, тем народная масса становилась все гуще и шумнее. Этот все нарастающий шум и гам, сливаясь с неумолкаю-щим колокольным гулом, действовал одуряющим образом и еще более усиливал всеобщее возбуждение. Когда тут показалось несколько всадников в богатых боярских кафтанах, и во главе всех князь Василий Иванович Шуйский, народ, пропустив их вперед, бурным потоком устремился вслед, с одним и тем же криком:
– За Шуйским, братцы, за Шуйским! Что прикажет, тому, значит, и быть!
Очевидно, ни для кого не было уже тайной, что вот кто душа всего заговора.
[]
Петрусь, затертый в толпе ражего рабочего люда, напрягал всю силу своих отроческих мышц, чтобы не быть раздавленным. Перед Фроловскими воротами произошла такая отчаянная давка, что у взрослых мужчин вырывались болезненные стоны, а наш мальчик готовился уже отдать Богу душу. Но вот, живой волной окружающих приподняло его от земли и вынесло сквозь ворота в Кремль. Надо было выбраться из этих тисков во что бы то ни стало! Он сорвал шапку с головы шедшего перед ним парня и бросил ее на воздух. Напиравшие сзади машинально взглянули в вышину и на одну секунду ослабили свой натиск. Этой секунды было довольно для ловкого сына Запорожья, чтобы с легкостью мячика взлететь на плечи того же переднего парня.
– Ишь, озорник! Бездельник этакий! – раздались кругом восклицания.
– Не взыщите, люди добрые, мне к спеху, – отвечал Петрусь и перепрыгнул уже на следующие плечи.
Люди были прижаты так плотно друг к дружке, что при всем желании не имели возможности воспрепятствовать его эквилибристическим упражнениям. Так, с одного человека на другого, он без всякого уже затруднения добрался почти и до самого Успенского собора. Здесь, наконец, кому-то удалось схватить прыгуна за ногу и стащить наземь. Его ожидала бы, конечно, нешуточная расправа, если бы в это самое время общее внимание не было отвлечено опять князем Шуйским. Помолившись в соборе, тот вышел теперь, вместе с другими боярами, на паперть и обратился к народу с такими словами:
– Православные! Святая Русь, святая вера наша гибнут! Поляки обманом посадили на престол царский самозванца, расстригу и вора Гришку Отрепьева; самозванец этот женился на проклятой еретичке, сам принял ее богомерзкую веру и всех нас обещался обратить также в латынство, отдать в кабалу исконным врагам нашим, полякам. Смерть же полякам! Смерть самозванцу!
В ответ на зажигательную речь воздух огласился единодушным – не криком, нет, а ревом тысячей и тысячей обезумевших людей:
– Смерть полякам! Смерть самозванцу!
Петруся опять подхватило бушующим человеческим морем, и он должен был отдаться общему течению. С измятыми боками, едва переводя дух, он, сам не зная как, очутился на крыльце нового царского дворца, а затем и в главных сенях. Впереди раздавались угрожающие возгласы и бряцание оружия. Но наружная толпа, все прибывавшая, напирала сзади, и казачок наш оказался уже в царской приемной.
Вход во внутренние покои загораживала своими алебардами немецкая охранная стража. Начальник ее, курляндский дворянин Вильгельм Шварцгоф, на ломаном русском языке пытался урезонить нападающих; но те требовали "головы самозванца" и все более теснили алебардщиков, которые с трудом уже отбивались от их дубин и топоров.
Тут дверь за спиной Шварцгофа распахнулась, и на пороге появился сам Димитрий в своем польском жупане, в сопровождении Басманова.
– Назад, крамольники! – повелительно крикнул он, окидывая буянов бесстрашным взглядом. – Татищев! Воейков! И вы с ними? Но я вам не Борис!
И, выхватив обнаженный меч из рук Шварцгофа, он с такой отвагой двинулся на двух изменников-бояр, что те невольно попятились назад на предводительствуемую ими чернь.
– Побереги себя, государь! – предостерег его Басманов. – И зачем ты не послушался верных немцев! А теперь спасайся с царицей, я здесь умру за тебя.
Димитрий внял разумному совету и скрылся опять за дверью.
– Он убежит еще со своей женой-колдуньей! Вперед, братцы! Не жалей их, руби сплеча! – раздались голоса.
– Да не знает ли кто дорогу к покоям Маринки?
– Я знаю! – отозвался какой-то долговязый парень с багровым испитым лицом. – За мной, ребятушки!
Толпа разделилась: пока одни вступили снова в рукопашную с Басмановым и алебардщиками, другие ринулись за новым вожаком.
"А ведь там, у царицы, и моя княгинюшка! – вспомнил Петрусь. – Ее тоже, пожалуй, за полячку примут, и тогда аминь!"
Следом за другими он подоспел к дверям царицыной приемной как раз к концу ожесточенной схватки. Вход к царице защищал всего один человек, но преданный ей душой и телом, бессменный ее рыцарь, пан Осмольский. Против всей дикой оравы он молча с удивительным хладнокровием и мужеством отбивался своим палашом. Вдруг грянул чей-то выстрел, и герой, до смерти верный своему долгу, грохнулся на пол, пораженный пулею в самое сердце. Крепкая дубовая дверь затрещала под ударами топоров; еще миг – и дверь разлетелась в щепы.
Посреди приемной стояло несколько бледных, трепещущих женщин.
– А где же ваша царица-колдунья? Где царь самозванец? – окрикнул их долговязый буян. – Говори сейчас, сударынька-барынька, коли жизнь тебе еще мила.
Великолепная панья гофмейстерина, к которой относились последние слова, со страху забыла всю свою напущенную важность и растерянно обратилась по-польски к стоявшей позади ее молоденькой особе, единственной из всех в русском сарафане:
– Ах, милая княгиня! Скажите же им что-нибудь... Та выступила вперед и отвечала вопрошающему по-русски с полным присутствием духа:
– Царица на ранней заре еще ушла в дом своего родителя, сендомирского воеводы: там ее и ищите. А где теперь царь, – почем нам знать?
– Лжете вы, проклятые еретички! Бей их, режь их, покуда не скажут!
– Стой, ребята! Какая ж это еретичка? – вмешался тут Петрусь. – Разве еретичка оделась бы в русское платье, говорила бы так чисто по-русски? Я ее хорошо знаю: это княгиня Курбская.
– Так по что ж она здесь с полячками?
– А держат ее здесь взаперти против ее воли. Мужа ее, князя Михайлу Курбского, забрали тоже в сыскной приказ и пытают всякими муками, чтобы он выдал заговорщиков...
– Его пытают?.. – вскричала вне себя Маруся, разом потеряв все самообладание. – Голубчики вы мои! Спасите мне мужа!
– Поспеем! – был ответ. – Отойди-ка, сударыня, к сторонке: дай нам сперва расправиться с этим польским отродьем.
– И не стыдно вам, мужчинам, воевать с бабами?
– Зачем, матушка, воевать; да добра-то на них всякого больно много понавешено: и нашим бабам пригодится. Ну, красавицы-лебедушки! Просим не прогневаться.
Несмотря на сопротивление и вопли женщин, с них были сорваны все ценные украшения: запястья, кольца, серьги, затем целыми полосами и дорогие шелковые ткани...
– Вот и справились, не задержали! – с грубым смехом объявил вожак. – Скатертью дорога.
Все подчиненные паньи гофмейстерины не дали повторить себе приглашения и опрометью бросились вон. Сама же она осталась стоять на том же месте, как пригвожденная к полу.
– Ну, а твоя милость чего ждет? Аль столбняк нашел?
– Не троньте ее, Господь с нею! – вступилась снова Маруся. – Окажите теперь божескую милость своему русскому: освободите мне мученика-мужа! Терпит-то он ведь из-за вас же...
– Ну, что ж, коли из-за нас, то как не освободить? Ослобоним его, братцы!
– Ослобоним! – откликнулось несколько человек и последовало за главарем, тогда как остальные хищники рассеялись по дворцу в поисках за дальнейшей добычей.
Панья Тарло, понятно, не отделалась бы от них так дешево, знай они истинную причину ее столбняка; нам же причина эта хорошо известна благодаря современному летописцу (Мартину Беру); под широчайшей робой своей гофмейстерины нашла временное убежище сама царица Марина, и сдвинься та с места, ее бы, понятно, схватили и подвергли жестоким обидам, если не лютой смерти.
Между тем на площади перед дворцом народ бушевал по-прежнему. Кипящим, неутоленным еще страстям его нужен был какой-нибудь исход. Как только новоявленные защитники Маруси показались на главном крыльце, на них обратилось всеобщее внимание; когда же те крикнули сверху, что в сыскном приказе томятся безвинные жертвы самозванца и что следовало бы выпустить бедняг оттуда – предложение было встречено с сочувственным исступлением:
– Выпустить всех! В приказ! В приказ!
Народные волны шумно покатились в сторону сыскного приказа. Против могучего прибоя этих волн не устояли ни замки, ни затворы. Пока Маруся, сопровождаемая казачком, спустилась с крыльца и с трудом стала пробираться сквозь плотную толпу к месту заключения своего мужа, кого-то уже выносили оттуда на носилках, выносили ликуя, как триумфатора.
– Да это он, наш князь! – радостно возвестил Петрусь.
Из груди молодой госпожи его вырвался крик безумного счастья.
– Слава, слава Богу! Пропустите меня к нему, пропустите: это муж мой! Ты жив, Миша?
Да он ли это еще, полно? Это богатырское, но неподвижное тело с повисшими, как плети, руками, это впалое, страдальческое лицо, этот потухший взор!
– Владычица! Что они с тобою сделали... Рыдания заглушили ее слова.
– Это ты, Маруся? – послышался слабый голос несчастного. – А царь? Что с ним?
– Молчи! Не говори! – шепнул ей казачок, недаром опасавшийся, что Курбский выдаст перед бунтовщиками свою неостывшую еще привязанность к Димитрию.
Но, как бы в ответ на вопрос, со стороны дворца донесся в это время торжествующий рев – рев словно целой стаи диких зверей.
– Знать, расправляются с расстригой! – со злобным смехом заметил кто-то из окружающей черни.
– Несите меня туда! Скорее, скорее! – заторопил Курбский.
Наклонясь к самому уху мужа, Маруся шепотом умоляла его не губить себя.
– И дать погубить того, кому я всем обязан? – возразил Курбский. – Скорее, любезные, скорее!
Но судьба Димитрия была уже решена. Навстречу им двигалась омерзительная процессия: несколько оборванцев несли, в виде трофея, маски, найденные ими во дворце от назначенного на другой день маскарада, и орали во все горло:
– Смотрите, православные: вот бесовские хари, которым он молился!
Один отчаянный, бренча на балалайке, отплясывал тут же на ходу трепака; а за ним такие же озверевшие люди волокли по земле два обезображенных, окровавленных трупа: Димитрия и Басманова.
[]
Курбский со сверхчеловеческим усилием приподнялся на носилках.
– Злодеи! – крикнул он, и глубокое негодование придало его голосу почти прежнюю звучность. – Мало, что вы его убили – вам надо еще надругаться над его мертвым телом!