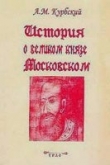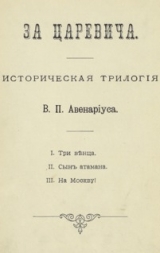
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
– А то кем же? Пономарем Царяконстантиновским. Ну, а хватил в чужой колокол – и должности решился, и в яму еще на много лет угодил... Ох, ох, ох! Молод был – конем слыл, стар стал – одер стал. Пора костям на место!
– Зачем же тебе было звонить не в свой колокол?
– Да так уж, знать, на грех подошло. Слышу: звонят во всю у Спаса. "Ну, думаю себе, – коли ударил в набат Максимка, так недаром. Верно где лихо загорелось. Дай-ка, побегу, посмотрю".
– А Максимка – звонарь тоже?
– Знамо, первый сторож у Спаса, Максим Дмитриев сын Кузнецов. Бегу со всех ног, по сторонам озираюсь: нету ли где дыму? Что-то не видать. Подбегаю к Спасу, ан тут навстречу тот самый Суббота Протопопов, кормового двора стряпчий.
– Ты куда, Огурец?
– Да вот, мол, трезвонят. Не знаю только, где горит-то.
– Какое горит! Царевича Димитрия зарезали.
– Как сказал он мне это слово, меня ровно обухом по голове; стою да глазами хлопаю.
– Чего, – говорит, – глаза пялишь? Полезай на колокольню, звони вместе с Максимкой.
– Да колокольня, – говорю, – не моя.
– Где уж тут, – говорит, – разбирать; сама царица звонить приказала.
Ну, и полез я сдуру, давай тоже звонить что есть мочи – и дозвонился! И благо бы мне одному досталось, а то, вишь, и колоколу так не прошло: кнутом его, сердечного, наказали, да с оторванным ухом в Сибирь сослали*. Да не в том мое горе, что на старости лет мирским кормлюсь пропитаньем: птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а сыты бывают. Горе мое в том, что с того самого часа, что сослали колокол, мне от него по ночам нет и нет покою. Чуть задремлю, забудусь, как в ушах загудит:
______________________
* Сосланный в 1593 году в г. Тобольск колокол служил там сперва в церкви всемилостивейшего Спаса "набатным" колоколом, затем на Софийской соборной колокольне – "часобитным", а впоследствии и "зазвонным". Только в 1836 г. он был перевешен в ограду архиерейской Святодуховской Крестовой церкви в качестве "благовестного"; в конце же XIX века по ходатайству угличан возвращен опять в Углич.
"Бум-бум-бум!" Вскочу с ложа, прислушаюсь – тишина кругом гробовая; как только опять прилягу, стану забываться – снова: "Бум-бум!" Тут вот пошел слух в народе, будто царевич Димитрий вовсе-де и не умирал, что другого заместо его зарезали. Так вот отчего в ушах у меня этот звон погребальный: царевич-то жив, а я его заживо хоронил!
Димитрий, слушая, так и впился в рассказчика глазами.
– И тебе стало невмоготу, – досказал он, – захотелось непременно самому узреть меня? Ну, вот и узрел. А спасся я чудом от рук убийц: убили они, вместо меня, другого.
– Другого?
– Да, одного из моих однолетков-жильцов (пажей). Ты ведь видел, чай, тогда в Угличе, как мы бегали, играли на дворцовом дворе?
– Как не видеть...
– Так вот с одним из тех жильцов, круглым сиротой, я больше всех дружил, дарил ему свои старые игрушки и платья, даже спать нас укладывали вместе на одной постели. А страдал я в те поры... (Димитрий на минуту запнулся) страдал тяжким недугом...
– Падучею немочью? – договорил странник. – Так, так. Сказывала мне о том кормилица царская Орина, да и весь Углич, почитай, толковал о том.
– Но чего ни ты, ни другие, может, не ведали, так это то, что мой товарищ-жилец недомогал тем же: оттого, знать, что он и денно и нощно безотлучно был при мне, к нему пристала от меня та злая немочь. И вот, в тот самый день, как наемные убийцы подстерегали меня за дворцовой оградой, случись тут во дворе с моим товарищем лихой припадок. А убийцы знали тоже про мой недуг. Как подглядели из-за ограды, что упал ребенок, бьется в судорогах, так приняли его за меня: ведь и одет-то он был тоже в мое старое платье; подскочили да второпях и зарезали бедняжку. Мы, прочие дети, с испугу разбежались кто куда. А тут на мое счастье, откуда ни возьмись, лекарь-немчин Симон, что лечил меня от моего недуга. Взял он меня на руки и задворками унес из дворца. Так-то вот я сам избегнул ножа убийц...
То, что услышал теперь Огурец от Димитрия об угличской катастрофе, должно было, казалось бы, окончательно рассеять все его сомнения. А между тем вышло совсем иное: случайное сходство между царевичем и его злосчастным товарищем, одетым одинаково с ним и подверженным тем же припадкам, дало совершенно новое направление мыслям старца. Точно прозрев, он увещевательно воздел обе руки к Димитрию и воззвал пророческим тоном:
– А что, коли ты и есть тот самый жилец царевича Димитрия и принял на себя с великим бесстыжием сан царского сына? Покайся, покайся, поколе еще не поздно! Вспомни Страшный Суд, не погуби души своей! На Суде Божьем право пойдет направо, а криво налево...
До этой минуты Димитрий выказывал необыкновенное самообладание. Только некоторая порывистость и металлическая звучность голоса, судорожная игра мускулов то красневшего, то бледневшего лица выдавали его крайне напряженное душевное состояние. Но брошенное ему теперь странником прямо в глаза обвинение в самозванстве с такою силой ударило по его возбужденным нервам, что он схватился вдруг руками за голову и пронзительно крикнул:
– Бога ради, уведите его!..
Пан Бучинский не замедлил исполнить приказание. Но едва лишь дверь затворилась за обоими, как Димитрий упал в кресло и, закрыв лицо руками, истерически разрыдался. То был настоящий нервный припадок с плачем и смехом, с корчами и пеною у рта... Бившегося в судорогах Курбский едва мог сдержать в своих крепких объятиях. Один из патеров усердно смачивал ему виски и темя какою-то эфирною жидкостью, а другой, долгое время безуспешно, разжимал ему зубы, чтобы заставить выпить глоток воды. Наконец-то припадок стал утихать.
– Прошло... дайте вздохнуть... – прошептал царевич по-польски, глубоко переводя дух. – А ты, милый, не отходи, оставайся... – прибавил он по-русски.
И, сжав руку Курбского своею влажною рукой, он с закрытыми еще глазами, в полном изнеможении, откинулся на спинку кресла.
Патеры отошли к окну и стали о чем-то тихонько совещаться. Судя по долетавшим до Курбского отдельным словам, говорили они меж собой по-латыни. Старший на чем-то настаивал, младший почтительно возражал. Тут Сераковский сказал что-то про общину Иисуса и про "malum necessarium" (необходимое зло), да таким повелительным тоном, что Лович молча поклонился и с опущенной головой вышел. "Что это они опять затевают? – спрашивал себя Курбский. – У иезуитов ведь цель оправдывает всякие средства, даже самые преступные..."
А Сераковский, подойдя опять к царевичу, заговорил с ним своим обычным медовым голосом, убеждая не придавать значения вздорным словам какого-то старика-сумасброда.
– Но по приметам он вначале ведь готов был признать вас, хотя не видел вас с раннего вашего детства, – говорил патер. – А в Жалосцах, помните, у Константина Вишневецкого вас тотчас узнал другой угличанин, Юрий Петровский.
– Который потом оказался поджигателем и святотатцем! – с горечью добавил царевич. – Можно ли такому человеку придавать какую-либо веру? Да вот вам лучший друг мой – Курбский: он молчит, но отворотил от меня лицо; значит, и он сомневается уже во мне.
– О, нет, государь! – сказал Курбский, краснея и заставляя себя взглянуть прямо в глаза Димитрию. – Ты сам ведь всегда твердо верил, что ты – сын Грозного царя, и доколе ты в себе не изверишься, я слепо буду идти за тобой, с радостью сложу за тебя голову...
– Спасибо тебе, друг, за это слово! – с чувством проговорил Димитрий и, обернувшись к освещенному неугасимой лампадой образу Богоматери с Младенцем, торжественно поднял правую руку. – Клянусь именем нашего Спасителя и Пречистой Девы, что до сего часа я никогда не сомневался в том, что я истинный царевич. Но теперь... Даже эти приметы меня смущают.
– Как так, ваше величество? – спросил Сераковский. – Я вас, простите, не понимаю. Уж чего доказательнее этаких примет?
– Да откуда они взялись у меня?
– Как откуда? От рождения, конечно.
– То-то, что и этого я наверное не знаю. От припадков моих память у меня относительно всего моего детства точно отшибло. Помню только, как в тумане, что играл я с другими детьми на каком-то дворе; что бывали у меня припадки; что лечил меня от них лекарь Симон. Помню еще, что после одного такого припадка я очнулся в какой-то закрытой повозке. Когда я хотел тут приподняться, то надо мной наклонился все тот же лекарь Симон. "Лежи, лежи!" – сказал он и дал мне испить чего-то. И заснул я снова, спал крепко и долго... Потом вижу вокруг себя уже людей в черных рясах – монахов... Потом... приключилась со мной тяжкая болезнь, я целые дни, а может и недели лежал в огневице (горячке) без памяти. Когда же встал опять, то на лбу и под глазом у себя нащупал бородавки. Были ли они у меня раньше, нет ли, – ей Богу, не знаю: память у меня тогда, как сказано, совсем ослабела. Но бородавки те были мне противны, и я стал умолять Симона их отрезать. "Боже упаси! – сказал он, – это твои царские приметы; но до поры до времени ты должен скрываться от людей". А тут и сам он слег – и уже не встал. Но перед своей кончиной он успел сдать меня с рук на руки одному монаху, чтобы тот хранил меня, пока я не войду в лета и пока сам не заявлю себя сыном Грозного, Димитрием. Кто же я теперь? Димитрий или только его бывший товарищ?
– Без всякого сомнения, вы – Димитрий, – отвечал патер. – Кроме бородавок, у вас есть ведь и другие приметы: родимое пятно под локтем...
– Да не могли его, как и бородавки, привить мне Симон во время моего беспамятства? Он был таким искусным врачом...
– Ну, уж родимого-то пятна не привьешь! Потом ваши руки разной длины...
– Да что ему значило вытянуть мне тогда же без моего ведома одну руку против другой? О, Боже праведный, просвети меня! Верить ли мне еще в себя?
– Верьте, государь, и вера ваша спасет вас! – убежденно сказал иезуит. – Вы – царевич и не можете не быть им! Царя Бориса ведь уже нет, престол московский свободен...
– А сын Бориса, Федор?
– Шестнадцатилетний-то мальчик? Его ли слабыми руками, скажите, держать бразды правления такой державы, как Великая Россия! Ему ли очистить Авгиеву конюшню боярской думы, противостоять тайным проискам и козням иноземных держав! На это нужен муж зрелый, светлого разума и неуклонной воли, испытавший всякие превратности и, в то же время, прошедший все искусы придворной жизни. А кто же к этому более подготовлен, чем вы, государь?
– "Подготовлен", говорите вы? А что, если меня, в самом деле, нарочно подготовили к этой роли ради каких-то своекорыстных целей? Что, если мною рассчитывают играть потом, как бездушной пешкой? Но я не дам играть собой, о, нет!
Димитрий горделиво выпрямился, и глаза его засверкали.
– Вот этаким я люблю вас, государь! – сказал патер, по-видимому, с искренним восхищением. – Да кому, скажите, какая была надобность в такой недостойной комедии с вами?
– Кому? Да хоть бы московским опальным боярам, чтобы, во что бы то ни стало, свергнуть Годунова.
– Но зачем они тогда молчали бы до сих пор о себе?
– Затем, чтобы я сам не сомневался в моем царском призвании и никогда не изменял этому призванию, всегда оставался тем же царевичем Димитрием...
– И этим самым покоряли бы все сердца? – с улыбкою досказал Сераковский. – Ах, ваше величество! Ужели за четырнадцать лет такие "благодетели" не выдали бы себя вам невольно так или иначе? Их, поверьте мне, вовсе и не существует, а что до окружающих вас, то между ними нет ни единого человека, кто вполне искренно не считал бы вас сыном Ивана Грозного.
– А вы оба, перед которыми я раскрыл мою душу, не отвернетесь от меня?
– Что вы, что вы, государь! Мы, если возможно, после такой исповеди еще более вам преданы. Князю Курбскому вы ведь первый друг; а для меня, как и для патера Ловича, с вашим царским званием связано дальнейшее процветание святой католической церкви; мы в каждом письме нашем в Рим доносим его святейшеству папе об вас, как о законном наследнике московского престола и надежде нашей церкви; так нам ли от вас отступиться?
– Но пан Бучинский тоже слышал, в чем обвинял меня этот сумасшедший старик...
– Пан Бучинский, ваше величество, – ваш личный секретарь и alter ego (второе я); он для вас не доедает, не досыпает; без вас он ничто, при вас яркое светило...
– Наконец, сам этот странник: он станет теперь говорить про меня встречному и поперечному, как про подставного царевича...
– Он, ваше величество, ничего уже не скажет! – отвечал с благочестивым вздохом младший патер, вошедший в это самое время. – Всевышнему угодно было призвать его к себе.
При этом от Курбского не ускользнул быстрый взгляд, которым обменялись оба иезуита. Чуть заметно покачав отрицательно головой, как бы в знак того, что данный ему наказ не мог быть исполнен, патер Лович доложил, что старец, не прикоснувшись еще до пищи, которую подали ему на кухне, внезапно упал без чувств; пока же посылали за лекарем, все было уже кончено: лекарь мог только удостоверить смерть от полного истощения.
Что дело было именно так подтвердил потом Курбскому и Петрусь, не отходивший в кухне от старца.
– А патер Лович не застал его уже в живых? – спросил казачка Курбский.
– Застал он его уже на полу...
– И сам его не трогал?
– Напротив, вдвоем с паном Бучинским они много хлопотали около него. Патер достал уже из-за пазухи пузырек с каплями, чтобы влить ему в горло; но Бучинский не дозволил: "Обождем лучше дохтура". – "Да я сам такой же дохтур!" – говорит патер. А Бучинский: "Но коли после ваших капель он уже не проснется?" Побледнел мой патер и прикусил язык... Ну, а в конце концов и дохтур уже не помог. А что, милый княже, скажи-ка, признал старик нашего царевича?
– Признал, как не признать!
Мог ли, смел ли Курбский отвечать иначе? Но в ушах у него звучали еще последние, предсмертные слова старца:
– Покайся, поколе еще не поздно! Вспомни Страшный суд!..
Глава семнадцатая
КАК ПЕТРУСЬ КОВАЛЬ ОПРАВИЛ ДОБРОЕ ИМЯ ЗАПОРОЖЦЕВ
Убеждения патера Сераковского вдохнули в Димитрия новую энергию, новое мужество: он готов был тотчас прекратить свое непроизвольное бездействие и перейти в наступление.
– Теперь времени терять уже нечего, – заявил он на другое утро после описанной в предыдущей главе сцены. – Донцы мои стойко держатся в Кромах против московских войск; но в конце концов те их, пожалуй, все одолеют. Надо идти прямо в Кромы, предложить Басманову сдаться: воины его обожают, ему верят...
– Carpe diem (пользуйся днем), – справедливо согласился патер Сераковский. – Но буде даже Басманов был бы склонен признать ваше величество (что еще гадательно), то кто поручится нам за князя Голицына, который до сих пор был главным воеводой и разделяет с ним власть? А немецкая дружина всегда была до глубины верна дому Годуновых, и она, можно наперед сказать, добровольно ни за что не передастся.
– Так чего же вы хотите, clarissime? – горячился царевич. – Чтобы москвитяне сами двинулись на нас и захватили нас в Путивле, как в ловушке?
– Для решительного шага, повторяю, момент наиболее удобный, будь у нас самих только более хорошо обученных ратников. Но что могут предпринять какие-то три тысячи русского сброда против сотни тысяч таких же русских?
– Да кто же виноват в том, что все ваши поляки, даже Дворжицкий, меня покинули!
– Не все, государь: ваш покорный слуга с патером Ловичем готовы до сих пор разделить вашу участь; точно также и ваша личная польская охрана.
– Какая-нибудь сотня!
– Но зато отборной польской рати. Вот кабы еще одну хоть такую хоругвь, да сотни две-три молодцов-казаков, разумеется, не изменников-запорожцев, а с Дона, с Урала...
И что же? Как по приказу, в тот же день действительно прибыла в Путивль целая хоругвь польских гусар: набрал ее преданный еще Димитрию польский шляхтич, пан Запорский, из разбредшихся по окрестностям "рыцарей" и "жолнеров" (наемщиков); а под вечер подошел еще давно ожидавшийся отряд кубанских казаков в пятьсот человек.
– Сам Бог за нас! – воскликнул Димитрий. – Теперь ничто уже меня не удержит.
На созванном тотчас же военном совете состоялось решение: дать новым вспомогательным войскам отдохнуть два дня, а на третий отправить их, вместе с тремя тысячами русских ратников, под Кромы. Вести их туда хотел было сперва сам царевич. Но патеры убедили его до времени остаться еще с своим штабом и телохранителями в Путивле; вместо же себя, предоставить пока главное начальство бравому пану Запорскому, который, нет сомнения, оправдает такое отличие и заставит забыть даже пана Дворжицкого.
Накануне выступления пана Запорского в поход, Курбский услышал у себя в прихожей за перегородкой, где помещался Петрусь Коваль, горькие всхлипы. Он окликнул казачка. На пороге показался Петрусь с заплаканными глазами.
– Что треба твоей милости? – спросил он, стараясь глядеть бодрее, но углы рта у него подергивало, а на ресницах дрожали слезы.
– И не стыдно тебе, хлопцу, хныкать, как баба! – укорил его Курбский. – Все о бедняке Огурце убиваешься? Ему же лучше, что Бог его прибрал.
– Теперича, княже, я уже не о нем... Его схоронили, ну, и вечная ему память.
– Так о чем же? Лихой запорожец и слезы роняешь!
– Вот потому-то самому... Уж больно крепко они меня изобидели...
– Кто такой?
– Да все, все! Мне в лагере теперича просто проходу нет; куда ни покажусь, все-то поносят "изменников" – запорожцев и меня зовут уж не иначе, как подлым запорожцем.
– Что же делать, мой милый? Ты-то, понятно, тут ни при чем. Но атаман ваш Рева, сам ведь знаешь, дал подкупить себя и перед самой битвой под Добрыничами покинул царевича. А это разве не подлая измена?
Юный сын Запорожья, который кое-как еще крепился, не выдержал и разразился отчаянными рыданьями.
– И сам-то ты, княже, считаешь меня таким же изменником! Чем я заслужил это перед тобою?..
Господину его стоило немалого труда несколько его успокоить увереньем, что в нем, Петрусе, он ничуть не сомневается.
– А коли не сумлеваешься, – подхватил, все еще всхлипывая, чувствительный хлопчик, – так пусти меня с паном Запорским, дай мне умереть за тебя и за твоего царевича...
Такая пылкая до наивности привязанность казачка не могла не тронуть Курбского.
– Царевичу ты этим большой услуги не окажешь, – сказал он с улыбкой, – а мне от тебя куда больше проку от живого, чем от мертвого.
– Бог весть! – упорствовал на своем Петрусь. – Пусти меня, право, милый княже! Я покажу им, что один-то хоть запорожец тверд в своем слове и может сделать больше для твоего царевича, чем десять донцов или поляков.
– Ого! Да пан Запорский тебя, пожалуй, вовсе и взять-то с собой не захочет.
– Коли ты, княже, только замолвишь за меня доброе слово, так верно возьмет. Яви такую милость!
И Курбский "явил милость", замолвил доброе слово. Бойкий хлопчик сразу понравился пану Запорскому и был принят им в число своих походных слуг в качестве стремянного.
Весь отряд пана Запорского был конный, а потому уже на четвертые сутки был в сорока верстах от Кром. Тут сделан был привал. Недаром иезуиты возлагали такие надежды на рекомендованного ими царевичу военачальника. Хорошо понимая, что в открытом бою с неприятелем, в двадцать, а то и в тридцать раз сильнейшим, самому храброму войску едва ли устоять, пан Запорский пустился на военную хитрость. Без ведома даже царевича, но от его имени, он сочинил письмо к жителям Кром и обратился к своему отряду с такой речью:
– Вот, други мои, грамота, которая написана мною якобы от царевича Димитрия к кромичам. В грамоте сказано, будто бы нас здесь, посылаемых им на подмогу, десять тысяч конных ратников, и что за нами идут еще сорок тысяч пехоты. Вы верно спросите: для чего мне морочить такими баснями друзей, да еще от имени царевича? Морочу я не друзей, а врагов: грамота вовсе и не попадет к кромичам. Почему не попадет? Да потому, что один из вас отправится с этой грамотой якобы в Кромы через московский лагерь. Его, вестимо, не пропустят, схватят и приведут к воеводе московитян, боярину Басманову. Ну, а Басманов – муж разумный, рассудливый; прочтет он грамоту и поймет, что с такой силой нашего славного войска ему не управиться, поняв же, без бою передастся царевичу. Так вот, товарищи, теперь мне нужен только ловкий, смелый человек, что ради царевича взялся бы за это геройское дело. Говорю: "геройское", ибо неприятели наши могут предать посланца жестокой пытке, вынудить его сказать про нас всю правду. Но такая смерть не менее почетна, как на поле битвы. Кто же из вас, любезные товарищи и други, возьмется совершить сей геройский подвиг?
Первая половина речи хитроумного вождя пришлась по душе большинству ратников. Кругом раздались одобрительные возгласы:
– Ловко! Знатно! И хитро и умно! Чего даром-то кровь братнину проливать?
Когда же затем пан Запорский с благородной откровенностью указал на возможность ожидающей посланца мучительной пытки, всякого невольно взяло раздумье. С мечом в руке идти на врага и хоть бы даже пасть, но в честном бою, рядом с товарищами – кому не любо: на миру и смерть красна, а может, почем знать, останешься и невредимым: Бог милостив! Но идти самому на заклание, как глупый баран, – спасибо!
Так думал, должно быть, не один из самых храбрых соратников пана Запорского: устремленные на него взоры забегали теперь по сторонам или потупились в землю, и на заключительный призыв не нашлось отклика.
– Как? Неужто между всеми вами не найдется ни единого, кто отважился бы на такой подвиг?
То же постыдное молчание. Вдруг из-за спины возмущенного вождя раздался звонкий отроческий голос:
– Пошли меня, добродию!
И вперед выступил его молоденький стремянный, Петрусь Коваль. Пан Запорский окинул его взглядом презрительного удивления.
– Тебя послать, мальчонку?
– Мальчонка я, мосьпане, точно, да из запорожцев, и видал уже всякие виды, – отвечал Петрусь, смело выдерживая огненный взгляд надменного поляка. – Чести твоей не будет порухи. Исполню наказ твой в наилучшем виде. А доведется умереть под пыткой, так увидят по крайности твои москали и поляки, что запорожцы тоже умирать умеют!
Среди окружающих "москалей" и поляков послышался ропот: безбородый хлопчик еще глумится над ними! Но действительно храброму пану Запорскому понравилась, видно, беззаветная самонадеянность юного запорожца.
– Молчать, трусы! – прикрикнул он громовым голосом на ропчущих; потом снисходительно, почти ласково обратился снова к Петрусю. – Да знаешь ли ты, хлопче, что такое пытка? Вынесешь ли, когда тебе станут вытягивать жилы, ломать кости, поджигать пятки? Зело, видишь ли, млад ты уж...
– Молод, да не махонький. Все вынесу, не пикну.
– Ну, молодец, коли так.
– Ради стараться!
– А приведут тебя к Басманову, что же ты ему расскажешь?
– Расскажу все то, что прописано в грамоте твоей милости.
– И только?
– Для красного словца, может, что от себя и прибавлю: маслом каши не испортишь.
– Молодец! – повторил, уже улыбнувшись, пан Запорский. – Только чересчур то, смотри, не завирайся: не поверят.
– Не бойся, добродию; не даром говорится: ври да знай меру. Мыслей своих не дам вызнать.
– Ну, с Богом. Вот тебе грамота. Коня сам себе выберешь.
И Петрусь уже на коне, низко кланяется на все четыре стороны
– Прощайте, панове братцы! Не поминайте лихом, коли кого ненароком обидел!
Нагайка его щелкнула, сам он пронзительно гикнул – и брызги полетели. Только его и видели.
Читатели, вероятно, уже заметили, что Петрусь, при всем своем природном добродушии, был, как малоросс, с хитрецой. Вполне чистосердечно желая оправить доброе имя своих земляков-запорожцев таким удальством, которому позавидовал бы и "москаль" и поляк, он не без умысла, однако, умолчал о том, что видел уже Басманова – и не раз, а два раза – в Москве, при посещении последним Курбского в доме Биркиных. Готовый, конечно, в крайнем случае вынесть и пытку, он тем не менее утешал себя надеждой, что, благодаря доброму расположению Басманова к Курбскому, удастся извернуться, выйти сухим из воды.
Не жалея коня, он без отдышки проскакал без малого сорок верст. Здесь он наткнулся на неприятельский дозор, загородивший ему дорогу.
– Стой! Куда едешь?
[]
– Еду я в Кромы гонцом от всемилостивейшего государя моего, царя Димитрия Ивановича, – с напущенною важностью отвечал Петрусь. – Прочь с дороги – задавлю!
И для вида хлестнул коня. Дозорные, разумеется, схватили коня за уздцы, а самого всадника без околичностей стащили с седла. Один из них предложил товарищам обыскать его.
– Смейте вы только! – продолжал хорохориться Петрусь. – Не слышали, что ли, что я царский гонец?
– Ай да гонец! Что с ним, ребята, долго разговаривать...
– И пальцем меня не могите тронуть! Коли кому мне ответ держать, так не вам, а вашему воеводе. Кто у вас ноне-то воеводствует? Басманов, что ли?
– Басманов с Голицыным...
– Ну, так и ведите меня к ним. Гайда!
– Еще приказывает, щенок!
– Не ругайтесь, братове! Басманов Петр Федорыч с Москвы еще меня знает. Ежели вы меня к нему тотчас не представите – задаст он вам такую трепку, что другой не попросите.
Угроза подействовала. Призадумались дозорные, пошептались меж собой и кончили тем, что провели пленника к походной ставке Басманова. Выслушав дозорных, Басманов послал за вторым воеводой, князем Голицыным, а сам тем временем начал допрашивать Петруся, для чего тот послан в Кромы.
– Другому я ни за что бы не открылся, – отвечал Петрусь с видом детского простодушия. – Но твоей милости за долг святой полагаю. Мы с господином моим только тебе обязаны...
– А господин твой кто такой?
– Да князь Курбский Михайло Андреич. Про тебя, своего благодетеля, почитай что каждый день вспоминает.
Нахмуренные черты Басманова слегка прояснились.
– И то ведь, я словно бы видел уже тебя при нем в Москве, – сказал он. – Ну, что, как рука твоего князя?
– Спасибо за спрос, боярин: по милости Божьей совсем зажила. Кабы ведал он, что я угожу к тебе, так беспременно прислал бы и тебе тоже от себя поклон и грамотку.
– А! Так в Кромы ты ехал с грамотой?
– Эх, проговорился... – пробормотал как бы про себя Петрусь.
– Подай-ка ее сюда.
– Извини, боярин, но пан Запорский не велел ее никому отдавать в руки, окроме самого атамана Корелы.
– Какой такой пан Запорский?
– А набольший передовой нашей рати.
– Мне твой пан Запорский не указчик! Не выдашь мне ее доброй волей, так велю сейчас ведь отобрать насильно.
– Эх-ма! – вздохнул Петрусь и, будто нехотя, достал грамоту из-под подкладки шапки. – Попадет мне от него здорово на орехи! Да противленье чинить твоей милости я не смею. А как прочтешь, вернешь мне ее опять?
– Смотря по тому.
Басманов развернул лист, но не приступил еще к чтению, как в палатку вошел его соначальник, князь Голицын. В двух словах Басманов объяснил тому, в чем дело; после чего оба принялись вполголоса разбирать грамоту строка за строкой. По мере чтения их лица все более удлинялись и омрачались.
– Вот не было печали!.. – пробормотал Голицын. – Недаром же твердил Розен, чтобы нам плюнуть на Кромы и идти прямым путем на Путивль, пока не подошли туда вспомогательные войска. Ан так и вышло!.. Знаешь ты, что тут пишут? – отрывисто обратился он к Петрусю.
– Откуда мне знать-то? – отвечал тот с самой простоватой миной. – Моего совета не спрашивали.
– Но глаза-то и уши у тебя свои, чай, есть. Как велик отряд этого пана Запорского?
– Боюсь соврать, боярин: не считал. Еще, поди, осерчаешь.
– Коли спрашивают, так изволь отвечать! Много ль у него, по-твоему, человек в отряде?
– По-моему?.. Да тридесять тысяч, полагаю, будет.
– Эк хватил! И в грамоте-то сказано только по десять тысяч.
– Про десять? Коли сказано, стало, маленько перехватил. Да, может статься, писана она раньше того, как подошли к нам эти польские гусары.
– А давно то было?
– Накануне только, что выступили мы сюда в поход. Вот хваты-то! Один как другой, на подбор! За ними, слышно, еще пешей шляхты идет не то пятьдесят, не то шестьдесят тысяч.
Воеводы озадаченно переглянулись.
– Да правильно ли все это? – усомнился опять Голицын. – Попытать его разве?..
Сердце в груди у Петруся захолонуло. Но он и виду не показал.
– Воля ваша, бояре, пытайте! – смело сказал он. – Окроме чистой правды, все равно ничего не выпытаете. Дерзнул ли бы я, боярин Петр Федорыч, сам посуди, говорить тебе неправду? Да мне за тебя попало бы так от моего господина! А то и сам ведь можешь меня опосля батожьем поучить.
Басманов ничего на это не ответил, но все-таки, видно, пожалел шустрого хлопца, потому что взял Голицына под руку и отвел его в сторону для тайного совещания. До слуха Петруся долетали имена Вальтера Розена и Ивана Годунова (брата Борисова).
– Гей! Кто там? – крикнул Басманов. – Позвать сюда капитана Розена.
Забыл ли Басманов про присутствие Петруся, или, напротив, хотел, чтобы тот впоследствии мог удостоверить перед своим господином, что благоприятному для Димитрия исходу совещания способствовал главным образом он, Басманов, как бы там ни было, Петрусь был оставлен в палатке.
Капитан Вальтер Розен, начальник четырехтысячного иноземного отряда, происходил из лифляндских дворян и был атлет саженного роста. Но с его могучей фигурой и строгой военной выправкой ни мало не согласовались его добродушные, голубые, навыкате глаза под белобрысыми бровями и высокий тенор. Выслушав Басманова, он брякнул саблей и крикнул чуть не фистулой:
– Da schlage ja das Donnerwetter drein! (Разрази их гром!) Терпеть сие весьма невозможно. Пускайте меня наперед, meine Herren. О! Я буду им показать, wo Lukas Bier holt (буквально: "куда Лука за пивом ходит", то же, что русская поговорка: куда Макар телят не гонял).
– Что вы, господин капитан, чертовски храбры, об этом никто не спорит, – сказал Басманов. – За всем тем, однако ж, вот уже три месяца, что и вы-то с вашими немцами и мы с нашею русскою ратью – не много не мало – полтораста тысяч, стоим здесь под Кромами и ни тпру, ни ну.
– Ja, dieser vertluchte Korela mit seinen Kosacken! (Да, этот проклятый Корела с своими казаками!) Eine complecte Canaille, каналья прекомплектная...
– Прекомплектная, истинно что так, господин капитан. Наши трусы считают его даже колдуном. Колдун он или нет, а окопался рвами и валами так, что нам его, как крота из норы, не выманить. Сам же он со своими разбойниками-донцами по ночам то и дело вылезает оттуда и нападает врасплох.
– И колотит нас напропалую! – досказал Голицын. – Просто стыд и срам!
– С паном же Запорским идет на нас теперь, кроме польских гусар, еще свежая сила таких же казаков, – продолжал Басманов. – Справитесь ли вы с ними, господин капитан, – это еще вилами по воде писано.
– Aber zum Kuckuck, meine Herren! (Но черт побери, господа!) Надо ж какую диспозицию учинить...