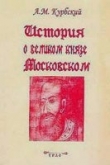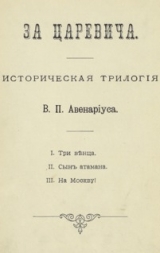
Текст книги "На Москву!"
Автор книги: Василий Авенариус
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
Димитрий с достоинством приподнял тоже на голове свою бархатную, четырехугольную шапку с алмазным пером и отвечал не менее радушно:
– Великое спасибо твоей ясновельможности, пане батьку, и всем вам, панове, за добрую помощь старому товарищу и брату! Братски всех вас обнимаю и целую в вашем славном батьке-атамане.
Подъехав за этим вплотную к Реве, он обнялся с ним и троекратно облобызался. Братание двух начальников было встречено треском запорожских литавр и барабанов. В то же время все запорожцы разом сбросили с плеч свои косматые зимние бурки и предстали во всей красе своих цветных кунтушей, шелковых поясов с золотыми кистями, цветных шаровар с золотыми галунами и самой разнообразной воинской "сброи": рушниц (ружей), саблей, палашей, ятаганов, копий, обухов (боевых молотков), кинжалов, пистолей, лядунок, (пороховниц); а затем, развернувшись фронтом, прошли курень за куренем мимо царевича, задорно бряцая оружием.
Выразив свое восхищение их молодцеватым видом и поблагодарив их вторично, Димитрий обратился с вопросом к атаману, почему они, запорожцы, так запоздали.
– Позамешкались, точно, – отозвался Рева, – а все из-за этой татарвы поганой. Грому на них нет! Пронюхали, черти, что мы на походе, и тем же часом налетели, что саранча, на наше Запорожье. Но мы, благодарение Богу, отошли еще не так далеко. Догнал нас нарочный, вернул с похода.
– И вы не дали уже им спуску?
– Овва! Рассеяли, как прах по степи, гнались за ними до самых их улусов, а уж тут пошла такая потеха!..
– Не мало, я чай, табунов отгромили?
– И табунов и стад. Ну, знамо, не обошлось и без красного петуха. Огонь с крыши на крышу так и полыхает, кругом татарки с татарчатами середь полымя мечутся, что угорелые: "Алла! Иль Алла!" Кобылы ржут, коровы ревут, овцы блеют... Потеха да и только!
– Пожалуй, и иной живой души не пожалели?
– Души? – удивился запорожец. – Ну, вже так! Нешто у татарвы тоже души христианские?
– Не христианские, а все же...
– Один пар. Чего жалеть-то? Руби, знай, носы да уши, а то и голову с плеч, а либо за ноги да в полымя, – туда и дорога!
– И вот это то воронье, государь, мы призвали с собой на родную нашу Русь! – вполголоса заметил царевичу возмущенный Курбский.
Димитрий куда лучше своего друга сдерживал волновавшие его чувства. Что думал он про лютость диких сынов Запорожья, он счел совершенно неуместным выдать атаману и с прежнею приветливостью осведомился о том, где же конные запорожцы, которых ожидалось тоже, кажется, до восьми тысяч.
– Да кони у них уж больно притомились, – отвечал Рева, – ведь гнались за этой поганью, поди, до самого Черного моря; надо дать им еще лишнюю недельку передохнуть, покормиться.
– Как бы лишь не запоздали до новой схватки с Борисовым войском, – сказал царевич и в коротких словах рассказал о жаркой битве накануне, в которой легло столько русских, что даже схоронить их еще не успели.
– Вы, пане Тарло, позаботьтесь об этом, – отнесся Мнишек к своему старшему адъютанту.
– Смею доложить пану гетману, – отвечал с почтительной фамильярностью пан Тарло, – что пан Бучинский хотел было уже послать туда наших польских ратников с лопатами; но те до одного наотрез отказались хоронить москалей. Да и то сказать: их все равно ведь снегом занесет.
– Но они такие же христиане, как и мы с вами, и пали в честном бою! – воскликнул Курбский.
– Не кипятись, Михайло Андреич – остановил его Димитрий. – Есть у нас на то моя царская хоругвь.
– Не дозволишь ли, государь, немешкотно сделать это моим запорожцам? – предложил тут Рева и передал соответственное приказание своему ближайшему помощнику – есаулу.
По возвращении в главную квартиру, Курбский напомнил снова царевичу о созыве военного суда над паном Тарло и Балцером Зидеком. Но Димитрий признал более осторожным обсудить вопрос сперва келейно с гетманом и двумя духовными советниками: патерами Сераковским и Ловичем. На этом частном совещании Курбскому было предложено рассказать, как было дело, и рассказ его дышал таким благородным негодованием, что в справедливости его едва ли кто-либо из слушателей мог усомниться. Тем не менее оба патера не выказывали никаких признаков неудовольствия поведением двух обвиняемых. По временам лишь патер Лович украдкой вопросительно переглядывался со своим старшим собратом; но тот в ответ пожимал только плечами. Старику гетману же, видимо, было крайне неприятно обвинение двух близких ему людей, и он с хмурым видом нетерпеливо ворочался в своем кресле.
– И на основании таких-то улик вы позволили себе взять под стражу моего верного шута? – формальным тоном спросил он, когда докладчик умолк.
– Но он мог скрыть следы преступленья! – отвечал Курбский. – И улики, я полагаю, настолько ясны...
– Не касаясь пока вопроса о степени преступности обвиняемых, – прервал его Мнишек, – не могу не указать вам, любезный князь, что всякое преступное деяние, прежде всего, должно быть засвидетельствовано по меньшей мере двумя достоверными очевидцами.
– Но они есть: я и мой слуга, Петро Коваль.
– Против вашей княжеской милости, как свидетеля, ничего, конечно, возразить нельзя. Относительно же вашего хлопца дело совсем иное. Ведь он несовершеннолетний?
– Да; ему шестнадцатый год.
– Ну, вот, изволите видеть. Показания его могли бы служить только подтверждением показаний двух полноправных свидетелей, сами же по себе не имеют законной силы.
– А затем он, как раб, вообще не имеет голоса, – вставил от себя патер Сераковский.
– Простите, clarissime, – возразил Курбский, – но он из вольных запорожских казаков...
– Однако, состоит у вас в услужении, стало быть, еще сомнительно, может ли он считаться теперь наравне с другими вольными людьми.
– А военный суд наш может руководствоваться только точным смыслом законов, – подхватил Мнишек. – Если сам инкульпат (подсудимый) добровольно не сознается во взводимом на него преступлении, то показание одного свидетеля, даже самого достоверного, не считается полным доказательством вины инкульпата, ибо все мы – люди.
– А еггаге humanum est (человеку свойственно ошибаться), – добавил патер Сераковский.
– Так сделайте нам очную ставку! – загорячился опять Курбский. – Отрицать то, что было, я думаю, ни пан Тарло, ни Балцер Зидек не станет.
Но он чересчур доверял прямодушию двух обвиняемых. Когда младший патер вызвал их на "конфронтование" (очную ставку) с Курбским, и старик-гетман спросил пана Тарло, с какой целью тот ходил прошлой ночью на поле битвы, на лице благородного пана выразилось полное недоумение.
– Ночью на поле битвы? – переспросил он. – Да я и шагу не сделал из лагеря!
– Вы отрекаетесь от того, что я застал вас на поле битвы вместе с Балцером Зидеком? – вскричал Курбский. – Стало быть, по-вашему, я солгал?
– Гм... Говорить неправду, любезнейший князь, не значит еще лгать: иному просто что-нибудь причудится, приснится.
– Но мне не причудилось и не приснилось: я говорил там с вами.
Пан Тарло с той же хладнокровной наглостью пожал как бы с сожалением плечами.
– Что мне ответить вам на это? Что польские рыцари, по крайней мере, никогда не лгут.
– Так, по-вашему, солгал я? – досказал Курбский, хватаясь за саблю. – Вы мне за это ответите, пане!
Пан Тарло щелкнул шпорами и отвесил преувеличенно вежливый поклон.
– Всегда, князь, к вашим услугам.
– Полно, полно, панове! – вступился Мнишек. – После похода вы можете, сколько угодно, сводить свои личные счеты, на походе же военным статутом поединки у нас строго воспрещены. Мало ли, любезный князь, есть примеров, что во сне мы видим точно наяву? Чего мудреного, что после вчерашнего жаркого дела вам ночью причудилось поле битвы...
– Но клянусь вам, пане гетман...
– Не клянитесь понапрасну; я и так верю, что вы говорите совсем чистосердечно, что вы глубоко убеждены в том, что утверждаете. Но польский рыцарь не может быть гверрой (мародером, грабителем)! А потому вы не убедите меня, пока не дадите мне еще второго свидетеля; ваш хлопец для меня, понятно, не может быть таковым.
Пан Тарло глядел на своего обвинителя с вызывающей улыбкой: гетман, очевидно, его уже не выдаст. А Курбский, чувствуя, как почва уходит у него из-под ног, с трудом сдерживал поднимавшуюся в нем бурю.
– Так Балцер Зидек подтвердит мои слова, – сказал он. – Вы, Балцер, вместе с Ковалем, донесли оттуда до лазарета умирающего... Ведь так? Что же вы не отвечаете?
Шут с глубокомысленным видом прикоснулся до своего лба, откашлянулся и, наконец, отозвался:
– Ум наш – чернильница, а речь – перо, изрек некий древний мудрец; прежде, чем доверить свои словеса пергаменту, перо надо обмакнуть в чернильницу. Да, я был с вашею княжеской милостью прошлой ночью на поле битвы, но вы сами же предложили мне сопровождать вас туда.
– Я предложил вам? – пробормотал Курбский, совершенно ошеломленный развязной выдумкой шута. – Когда? Где?
– Прошу вас, князь, не прерывать свидетеля, – заметил внушительно старик-гетман. – Ну, что же, Балцер, расскажи все по порядку.
– Пан гетман припомнит, – начал тот, – что с вечера у вас был маленький фараончик. Как человек мягкосердый, я всеми мерами облегчаю ясновельможному панству участвовать в этой благородной забаве. Одному из панов рыцарей (имени не называю) не достало уже денег, чтобы отыграться. Он ко мне: "Балцер Зидек! Отец родной!" А уж как не помочь родному сыну? "Сейчас, говорю, сыночек". Выхожу за дверь, а там, в сенях, глядь – навстречу мне его княжеская милость...
Курбский, негодуя, хотел было прервать рассказчика, но Мнишек остановил его опять повелительным жестом.
– А Балцер! Вас-то мне и нужно. – Говорит мне ясновельможный князь, – продолжал фантазировать балясник. – Нет ли у вас фонаря?
– Фонарика? – говорю я. – Как не быть. А на что вашей милости?
– Да вот иду сейчас, – говорит, – с моим щуром на поле брани: нет ли там раненых, которых можно бы еще спасти...
Ну, скажите, ваша ясновельможность, мог ли человек с моим сердцем отказать в таком христианском деле?
– А пана Тарло ведь не было с вами? – спросил Мнишек, но спросил таким тоном, как будто ожидал отрицательного ответа.
– Само собой разумеется, нет, – отвечал Балцер Зидек. – Вельможный пан был так занят за игорным столом, что отвлечь его было бы грех.
– Смертный грех! – усмехнулся с горечью Курбский. – Чем-то вы кончите вашу сказку!
– До конца недолго, ваша милость. Человеколюбие наше было вознаграждено: мы нашли одного умирающего, потерявшего даже сознание; я сам перевязал ему рану... или это тоже сказка?
– Нет, это правда.
– Ну, вот, видите ли. Потом я и щурь ваш подняли несчастного и доставили в лазарет. Верно-с?
– Верно; но что же вы ничего не сказали о его кошельке?
– О каком кошельке?
– Да о том, что выпал у него из сапога, а вы спрятали себе за пазуху?
Недаром Балцер Зидек столько лет занимал должность придворного шута сендомирского воеводы. Притворство стало для него второй натурой. Видя, что отпираться уже бесцельно, он без малейшего замешательства достал из внутреннего кармана поношенный кожаный кошелек и с обиженной миной протянул его Курбскому.
– Сами подарили мне за оказанную помощь, а теперь, видно, жаль стало! Ну, что ж, нате ваш подарок! Балцеру Зидеку ничего от вас не нужно.
– Деньги эти не мои, а ограбленного вами, – с холодным презрением отвечал Курбский, кладя кошелек на стол перед гетманом. – Бедняга, сказали мне, скончался, не придя в себя; но деньги могут пригодиться другим раненым.
– И ваша милость можете взводить на невинного человека такую напраслину? Ай-ай! (Шут замотал головой, отчего погремушки на дурацком колпаке его зазвенели). Да Балцер Зидек скорее откусит себе голову, чем присвоит себе чужое. Но он вам великодушно прощает!
– Я не нуждаюсь в вашем великодушии...
– А Балцер Зидек все-таки вам прощает! Забыть зло, которое мне причинили, – только в моей власти, а не в вашей.
Между тем Димитрий высыпал из мешка все содержимое на стол.
– Одни русские монеты, ни единой польской, – сказал он. – Чего яснее, что кошелек взят у русского.
– Да кем взят-то? – нашелся снова изворотливый шут. – Я, признаться, не хотел выдавать князя; но коли на то уж пошло.
Неизвестно, до чего бы он еще договорился, не ворвись в это самое время в комнату один из младших адъютантов гетмана.
– Разве вам не сказано, что совещание совершенно секретное? – вскинулся на него Мнишек.
– И не дерзнул бы войти, ваша ясновельможность, но такой экстренный казус...
– Что же именно?
– Его царскому величеству угодно было дозволить запорожцам похоронить убитых москалей...
– А те первым делом стали обирать мертвых и подняли из-за дележа такую драку...
– А кто призвал к нам этих грабителей? – не без злорадства заметил пан Тарло. – Не князь ли Курбский, обвиняющий теперь в грабеже других?
– Князь сам еще сегодня называл запорожцев вороньем, – вступился за своего друга царевич.
– Да, они – черное воронье, – сказал Курбский, – но что хуже – воронье черное или белое – уж право не знаю.
– Из-за чего же мы наконец спорим? – заговорил тут патер Сераковский. – Как сама война, так и грабеж на войне, – malum necessarium, полезное зло, – полезное, ибо временно утоляет зверские инстинкты грубых воинов. Кто, скажите, не нуждается в бренном металле? Еще Демосфен назвал деньги – nervus rerum, нервом вещей. А засим, мне кажется, вопрос исчерпан.
– Да, военный суд созывать теперь как будто и не для чего, – отнесся Мнишек к Димитрию, и когда тот в ответ только вздохнул и повел плечом, старик-гетман объявил совещание закрытым и пожал на прощанье руку как Курбскому, так и пану Тарло. – Очень рад, панове, что все уладилось ко всеобщему удовольствию; очень, очень рад!
– У ясновельможного пана, кажется, на душе еще кошки скребут? – тихонько спросил Балцер Зидек пана Тарло, заметив, каким свирепым взглядом тот проводил Курбского, удалившегося из комнаты первым.
– Какие кошки? – сердито спросил в ответ пан Тарло.
– А те, которых мы с вами вчера проглотили и которых сейчас вот из горла у нас за хвост тащили. Препротивное чувство, совершенно согласен с вами.
– А все вы, Балцер. Ваша же выдумка. Еще умная голова!
– Да глупцы, милый пане, разве когда глупят? Для них глупости – хлеб насущный. Глупят одни, умные люди.
– Однако ж на нас с вами все-таки легло скверное пятно.
– Всякое пятно, дорогой пане, коли не смоется дождем, то от времени и солнца полиняет. Но нашему общему врагу это так не сойдет!
– Так вы что-нибудь против него уже замыслили?
– Покуда-то нет. Но ищите – и обрящете. Случай, верно, найдется.
Случай, действительно, нашелся, – и даже очень скоро.
Глава шестая
СЕРДЦЕ СЕРДЦУ ВЕСТЬ ПОДАЕТ
Обедал Курбский вместе с царевичем за гетманским столом. Домашний повар Мнишка, сопровождавший его и на походе, был великий мастер по своей части. В описываемый день, когда к гетманскому столу было приглашено все запорожское начальство, искусник-повар приложил особенные старания, и обед, точно, вышел на славу. Но душевное настроение Курбского было такое угнетенное, что он не сумел оценить чудеса кулинарного искусства, к концу же обеда, когда началась общая попойка, встал из-за стола и, под предлогом головной боли, ушел к себе. Здесь он с недоумением увидел на подоконнике целую груду медовых пряженцов. Он ударил в ладоши. Верный казачок его Петрусь Коваль не замедлил предстать перед ним; на открытом лице его играла лукавая улыбка.
– Что это такое? – спросил Курбский, указывая на пряженцы.
– Сластены, гостинцы.
– Вижу, что не ржаной хлеб. Но для кого это?
– Для тебя, милый княже, все для тебя. Отведай-ка: во рту тают.
Чтобы не обидеть мальчика, Курбский отломил кусок печенья и сунул в рот.
– Ну, что, невкусно разве? – спросил Петрусь с той же усмешечкой.
– Очень даже вкусно. Спасибо, братику. Но с чего тебе вдруг вздумалось?
– Не мне вздумалось.
– А кому же?
– Сам не догадаешься?
– Как же мне догадаться? Никому здесь, кроме тебя, на ум не придет угощать меня сластями.
– Здесь, в лагере, пожалуй, что и нет. Ну, а по соседству, примерно в Новеграде-Северском...
Курбский так и обомлел.
– В Новеграде?.. – пробормотал он.
– Ну, да, в замке: от города-то камня на камне не осталось.
– Но и там я ни души не знаю...
– Ой ли? Не знаешь даже Марьи Гордеевны Биркиной? А она-то, голубушка, нарочно еще сама для тебя потрудилась, пекла своими белыми ручками...
Курбскому стоило не мало усилия над собой, чтобы не выдать своего душевного волненья.
– Теперь припоминаю, – сказал он с притворным равнодушием, но глубоко переводя дух. – Одно время она состояла при панне Марине Мнишек и видела меня с царевичем у старшей сестры ее, княгини Вишневецкой; а потом уехала со своим дядей, купцом Биркиным, сюда, в Северскую землю...
– Ну, вот, а прознавши, что и ты тоже здесь, – подхватил Петрусь, – прислала тебе сладкую весточку: сердце сердцу весть подает.
– Полно вздор городить! Прислала просто по доброй памяти. Но с кем! Ведь ни в замок, ни из замка никого не пускают.
– Доброй волей не пускают, а коли у кого есть своя лазейка, так кто тому запретит?
– А! Вот что! Ну, ну, говори дальше.
– Заметил ты, княже, может, молодчика, одних, почитай, лет со мной, что толкается тут меж палаток с коробом всяких сластей: пряников, рожков, орехов, винных ягод? Трошкой звать.
– Нет, не приметил.
– Где ж тебе, вельможе, замечать всякого смерда! А я-то с этим Трошкой давно уж дружбу свел.
– Потому что сам куда лаком до сластей?
– Оба мы с ним лакомы: я – до его сластей, а он – до моих рассказов об удальцах-запорожцах.
– Так этот-то Трошка и пробирается сюда из замка.
– Он самый. До вчерашнего дня он сказывался крестьянским сыном из ближней деревушки Дубовки: живет-де там у торговки-тетки и приходит-де оттоле каждый день со своим товаром. Ноне же отвел меня к сторонке, чтобы никто, значит, не подслушал.
– Ты, Петрусь, говорит, меня, ведь, не выдашь?
– Зачем мне, говорю, тебя выдавать? Мы же с тобой друзья-приятели.
– Дружба дружбой, говорит, а служба службой. Поклянись мне Христом Богом, окроме одного человека, никому не сказывать о том, что услышишь от меня.
– Окроме какого, говорю, человека?
– Окроме князя твоего, Михайлы Андреича Курбского. Дело-то до него касающееся.
– Коли так, говорю, – так изволь. И поклялся ему Христом Богом...
– А дальше я и сам знаю, – прервал Курбский с блещущими глазами. – Трошка твой родом, может, и из Дубовки, да служит у Биркина. Так ведь?
– Так.
– Биркин же – купец оборотливый: не залеживаться же его товару, коли тут, во вражьем стане, верный сбыт? И подсылает он к нам своего Трошку с товаром будто бы из Дубовки, подсылает еще в потемках ранним утром, а убирается Трошка восвояси поздним вечером тоже в потемках, чтобы не подглядели.
– Так, так! – подтвердил снова Петрусь. – А знаешь ли, княже, что мне на ум сейчас вспало.
– Что?
– Да ведь коли у Трошки есть этакий потайной лаз из замка, так почему бы и тебе не пробраться туда тем же лазом в гости к Биркиным?
Курбский точно даже испугался такой возможности.
– Что ты, что ты! Господь с тобой!
– Да почему же нет? А уж Марья-то Гордеевна как была бы рада свидеться с тобой...
– Говорю тебе, что дело нестаточное, – резко прервал Курбский. – Я-то, может быть, с нею и видеться не желаю.
– Твоя воля, милый княже. А лазейку-то Трошкину, не погневись на меня, я все же выслежу.
– Это для чего?
– Не для тебя, так для себя.
– Но тебе-то на что?
– Мне-то?.. Ведь я, княже, как ни как казак, запорожец...
– Ну?
– И запорожцы мне братья старшие. Вот я и проведу их темной ночью той лазейкой в замок, как волков в овчарню; захватим стрельцов спящими врасплох: "Здорови булы, панове москали, як се маете?" Вот так штука! Знай наших!
Юный запорожец от удовольствия защелкал пальцами и залился звонким смехом. Но господин его, к его удивлению, ни мало не разделял его восторга.
– Ты этого не сделаешь, – решительно объявил он. – Ты поклялся Трошке не выдавать его...
– Да он и знать не будет, что я его выследил.
– А все-таки ты чрез него погубишь других русских, стало быть будешь перед ним Иудой-предателем, да и меня сделаешь таким же предателем перед Биркиными: кабы Маруся... то бишь Марья Гордеевна не доверяла мне, то ни за что бы не дала мне весточки.
– Экое горе! – вздохнул Петрусь и всею пятерней почесал у себя в загривке. – А у меня было так знатно надумано! Ведь одолеть-то русских нам когда-нибудь да надо?
– Надо, но в открытом, честном бою, а не предательством.
– У нас, на Запорожье, признаться, на это не так строго смотрят...
– То на Запорожье, а моя совесть иная. Разве сам ты, Петрусь, не понимаешь, что предательство подло?
– Понимаю, милый княже, как не понять?.. Ох, ох! Ну, что ж, нечего, значит, об этом и толковать. А как же нам быть с Трошкой? Ведь он ждет от тебя ответа Марье Гордеевне.
– Да какой же ей ответ?
– Ну, хоть спасибо, что ли, сказать ей за добрую память.
– Пускай, конечно, скажет... Дай Бог ей всякого благополучия...
– И только?
– А то еще что же?
– Она тебя не забыла присылкой, так и ты бы в отплату чем-нибудь ее уважил. Зачем обижать?
В Курбском происходила видимая борьба.
– Есть у меня, пожалуй, образок Андрея Первозванного... – начал он с запинкой.
– Из Святой Земли?
– Из самого Иерусалима. Привезли его оттуда еще моему покойному родителю (царствие ему небесное!), и он до кончины своей с ним не расставался. С тех пор я ношу его и никогда еще не снимал с себя.
– Знамо, снимать его уже не приходится.
– И не снял бы до своей смерти. Но перед вчерашним боем нашла на меня вдруг такая смертная тоска, что на поди. Либо царевичу, либо мне самому, думал, несдобровать.
– Тебя ведь и ранили...
– Какая ж это рана? Так, царапина. А на душе у меня и доселе не полегчало. Чую я беду неизбывную.
Одному Богу ведомо, что меня еще ждет. Всякий день ведь может быть опять смертный бой, и в жизни своей никто из нас не волен. Так вот, на случай, что мне не суждено вернуться с поля битвы, возьми-ка ты, Петрусь, на хранение мой образок...
При этих словах Курбский снял с себя маленький старинный образок и, набожно поцеловав, вручил его своему казачку.
– У тебя он сохраннее, – продолжал он. – Умру, так перешлешь его через своего Трошку Марье Гордеевне: может, он принесет ей счастья...
– Нет, княже, – объявил Петрусь, – никому в руки, окромя самой Марьи Гордеевны, я его не отдам. Не нонче – завтра Басманов, хошь не хошь, отворит царевичу ворота замка...
– Ну, и ладно. Тогда сам ты разыщешь там Биркиных. А до времени, смотри, береги мой образок...
– Как зеницу ока. Будь покоен, милый княже. Точно теперь все счеты его с этим миром были сведены, прежнее состояние глухого раздраженья сменилось у Курбского почти полной апатией. Свои служебные обязанности он, правда, исполнял до вечера с обычной аккуратностью; а когда царевич, заметив его усталый, убитый вид, уволил его до утра, он заглянул на всякий случай еще в лазарет, после чего уже возвратился к себе. Здесь, к некоторому его удивлению, было совсем темно, тогда как расторопный Петрусь встречал его обыкновенно еще на пороге с зажженной свечой.
"Верно, ушел проведать своих братьев-запорожцев, да там и застрял", – сообразил Курбский и сам высек огня. В подсвечнике оказался только маленький огарок.
"Да он, может, со скуки просто заснул?"
Курбский захлопал в ладоши; потом окликнул Петруся; но и оклик остался без ответа.
"Сердце сердцу весть подает", – вспомнились ему тут слова хлопца, и кровь хлынула ему в голову. – "Чего доброго, ведь, не спросясь, все-таки, собрался с этим Трошкой в замок к Биркиным? Его, головореза, на это станет..."
Схватив опять шапку и накинув на плечи кунтуш, он отправился на розыски головореза.
Благодаря зажженным там и сям кострам, он выбрался без затруднений из польского стана к становищу запорожцев, откуда еще издали доносились нескладные песни, грубый хохот и дикие визги. Чем ближе, тем явственнее становился этот нестройный гомон. Можно было уже расслышать бренчание бандуры, слова песен и забористую казацкую брань.
Закопавшись в снегу, запорожцы укрепили свой стан кругом повозками в форме огромного четырехугольника. Внутри стана дымились костры, двигались человеческие тени. Но попасть туда можно было только сквозь небольшие проходы, оставленные нарочно между повозками, – по одному с каждой стороны четырехугольника. Подойдя к такому проходу, Курбский вынужден был остановиться, потому что перед самым проходом столпилась целая кучка так называемых "сиромашни", забубенной казацкой голытьбы. Занята она была своеобразным торгом – продажей друг другу и обменом оружия и платья, снятого с мертвецов на поле битвы.
– Эх, ты, вавилонский свинопас! – орал один. – Свиньи от гуся отличить не умеешь, немецкой аркебузы от простой пищали!
– Сам ты иерусалимский браварник (пивовар)! – огрызался "свинопас". – Не видал я, что ль, аркебузы?
– Некрещеный ты лоб, чертов сват и брат! – бранился третий. – Экий кафтан отдать на онучи!
– Оце добре! Да ведь что за онучи – цареградский шелк. Гляди, что ли, татарский ты сагайдак (козел)!
И для вящего убеждения покупателя продавец совал ему под нос действительно шелковую, но уже куда не новую онучу.
– На-ка, ощупай. Татарка так, поди, в меня и вцепилась, ни за что бы не отдала, кабы я ее не пристукнул.
Омерзение, чуть не ненависть внушали Курбскому эти одичавшие, озверевшие люди. Стоявший у прохода караульный казак, узнав молодого князя, без всякого опроса, с поклоном пропустил его внутрь стана. Бражничавшие же здесь около ближайшего костра запорожцы даже не оглянулись на подошедшего: все внимание их было поглощено рассказом одного из бражников, видимо крепко захмелевшего, старого казака. Чтобы не прерывать их удовольствия, Курбский выждал конца рассказа.
– Ну, вот и привели меня эти ляхи к своему королю, – продолжал рассказчик. – "Ты, говорит, что ль, тот самый казак, что хвалился привести ко мне в полов всю татарву?" – "Тот самый, ваше королевское величество". – "Так поди-ка, приведи их ко мне, а уж я тебя награжу". Что тут поделаешь? Не давши слова – крепись, а давши – держись. Пошел я к татарве; как гаркну: "Эй вы, поганое отродье! Ступай-ка все за мной". Хвать хана их за шиворот халата, очами этак сверкнул, ногой притопнул, поволок раба Божия, а другие, как овцы за бараном, все за ханом потекли. "Пожалуйте, ваше королевское величество: вся татарва аккурат".
– Ай да дид! Ха-ха-ха! – загрохотали кругом слушатели. – Ну, и чем же он тебя наградил?
– Чем наградил! Чверткой горилки.
Тут и Курбский не мог уже удержаться от смеха.
– Гай, гай, и ты здесь, любый княже! – обратился к нему рассказчик-дед. – Послушать старика тоже захотелось, аль на фортецию запорожскую взглянуть? Милости прошу к нашему шалашу, – гость будешь.
Поблагодарив, Курбский справился, не видал ли кто из пановей его щура, Петруся Коваля. Оказалось, что видели его давеча у торговых шалашей с каким-то парубком-торговцем; в "фортецию" же к ним он глаз не казал. Для Курбского не было уже сомнений, и, понурив голову, он поплелся обратно в польский лагерь с одной мыслью: от судьбы своей не уйдешь.
Глава седьмая
ПОХОЖДЕНИЯ ПЕТРУСЯ КОВАЛЯ
Трошка со своим коробом с самого утра слонялся по лагерю от палатки к палатке, от землянки к землянке, заглядывал и в траншеи. Под конец же короткого зимнего дня, когда ему можно было скрыться незамеченным, он с пустым уже коробом собрался восвояси. Шел он этак уже с версту по изъезженной санями дороге, в сторону деревни Дубовки, когда, случайно оглянувшись, увидел догоняющего его человека.
"А ну, как ограбить хочет?! Ведь выручка-то у меня изрядная", – мелькнуло у него в голове, и он пустился бежать со всех ног.
– Куда тебя леший гонит! Постой же, погоди! – раздался тут за ним задыхающийся голос.
Трошка умерил опять шаг.
– Это ты, Петрусь? – удивился он, узнав своего приятеля-казачка. – А я-то уж думал... За медовой коврижкой, что ли? Да опоздал, брат: ничего-таки не осталось.
– Коврижка коврижкой, – отвечал Петрусь, с трудом переводя дух, – и до завтраго погожу.
– Так чего же тебе?
– А проводить тебя.
– Ври больше.
– Зачем врать? Нам по одной дороге.
– Да ты куда, Петрусь?
– Туда же, куда и ты.
– В замок?
– В замок. Вдвоем идти все-таки веселее. Трошка опешил, но, сейчас же оправясь, запетушился:
– Ты что ж это, Петрусь, – предать нас полякам хочешь? Креста на тебе нет!
– Крест на мне, слава Богу, есть, и предателем я николи не буду.
Говорил он это так искренно, с оттенком даже негодования, точно за несколько часов назад сам не высказывал такого намерения своему господину. Но слова Курбского были для него законом, и теперь он действительно возмущался предположением Трошки.
– Так, может, ты сам нам передаться хочешь? – продолжал допытываться Трошка.
– Чтоб казак передался врагу? Да за эти слова побить тебя мало! – вскричал Петрусь и наделил приятеля таким тумаком, что тот со своим коробом повалился в снег.
– Ну, ну, ну, не буду, не тронь! – взмолился Трошка. – Сдуру сболтнулось.
– То-то сдуру. Ну, вставай же, не бойся, не трону больше.
– Да на что тебе, Петрусь, в замок? Верно, к Марье Гордеевне с ответом от твоего князя?
– Наконец-то додумался, умная голова!
– Зачем же тебе самому к ней, коли я могу все за тебя справить.
– Стало, не можешь.
– А с собой тебя, прости, мне взять никак невозможно!
– И не нужно; я сам собой пойду: куда ты, туда и я.
– Но я не хочу, Петрусь, слышишь: не хочу!
– Мало ли что. И нитка тоже не хотела, да игла потянула. Добром ты от меня не отделаешься.
– Ах ты, Господи, Боже ты мой! – чуть не захныкал Трошка. – Хозяин мой, Степан Маркыч, меня со света сживет: в гневе своем он никаких границ себе не знает.
– Хозяин твой и не увидит меня: ты проведешь меня прямо к племяннице.
– Да в горницу-то к ней ход через горницу дяди.
– А уж это, братику, твое дело, как отвести ему глаза. Можешь вызвать ее ко мне на лестницу, что ли. А наскочишь все-таки на хозяина под сердитую руку, так сам же и казнись. Ну, да Бог не выдаст, – свинья не съест. Что вперед загадывать? Гайда!
Бедному Трошке волей-неволей пришлось покориться. Прошли они этак еще версты полторы, а дорога все далее уклонялась в сторону от замка. Петруся взяло опять сомнение.
– Куда ты меня ведешь, бисов сын? – спросил он.
– Как куда? В замок.
– Да замок вон где, совсем, видишь, назади остался.
– А по-твоему лучше идти так, чтобы поляки нас из траншеи углядели и перехватили? Сейчас, погоди, свернем куда нужно.
И точно, немного погодя, дорога сделала крутой поворот.
– Ну, теперь, брат, за мной в кусты, – сказал Трошка, – да, смотри, не увязни.
Предостережение было не излишне: когда Петрусь, вслед за своим товарищем, прыгнул с дороги через занесенную снегом канавку в кустарник, то увяз в рыхлом снегу выше колен.