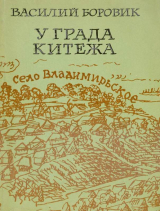
Текст книги "У града Китежа (Хроника села Заречицы)"
Автор книги: Василий Боровик
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
ИВАН ДАШКОВ – «РАСЕЯ»

Вот что рассказывает о своей жизни кержак Иван Михайлович Дашков.
– Мне дороги керженские леса, пропитанные душистой сыростью, а еще дороже люди, напомнившие о детстве, юности, о лесных тайнах, преданиях. Под кровлей родного дома, рядом с соседями легко дышится. В пору надежд и полной веры в будущее хотелось жить и жить в обновленном Заволжье. Новые веяния времени многое стерли из того, чего не могла сохранить память…
Дедушка мой был выходцем из деревни Заскочиха. Когда он селился на месте Заречицы, домов у нас стояло буде три-четыре. И солнцу обогреть дедушку в непролазном дремучем лесу не с руки было. Он знал: в чащобе лесной тайно люди жили, прозываемые «ватрасцами». Они и от людей и от солнца прятались. Их поля и до сих пор называются – «Ватрасские».
После них заречинцы возделывали эти поля. Куда ушли с Керженца ватрасцы, древние кержаки, – неизвестно. Но они были люди неколебимой веры. И пока в Заволжье не пришел отовсюду народ, ватрасцы со своей верой много времени жили семьями в глуши лесной.
От ватрасцев остались только «бушны камни». Недавно еще наши кержачки клали в кадку штаны, рубахи, сыпали золу, опускали раскаленные камни и начинали бучить. Так стирала переменку и моя мать.
Всякое время имеет свой особенный нрав. Видно, проще изменить, поправить новое, нежели старое. Не слыхивал ни от кого, почему наша деревня называется Заречица. Ей два названия. Раньше она прозывалась именем бурлака Феофана. Водил он беляны по Волге, но с кем-то в чем-то не поладил и пришел в наши леса. От него и зачалось жительство.
На Лыковщине все деревни имеют по два названия. Возьмите деревню Аристово. Никто ее не укажет вам, а спросите Ухтыж – каждый укажет.
Заскочиха построилась первой. Место это было ссылочное. Непроходимый лес. Тайга. В Лыкове знают: на месте Заскочихи жила какая-то женщина с сыновьями. Она приходила за подаянием. Ей давали все, что она спросит… Заскочихой звалась.
За Березовкой есть место дикое, называемое «Бор». Там сохранился колодчик, заросший одомчина. Старики утверждают: на том Бору жили многие беглецы. В Раменях от старины остался ельник. По два обхвата елки-то. Страшно глядеть как высоки, одним словом – корабельные.
Зли Бора проходила дорога. Давно наезжена нашими дедами. У меня дед жил сто три года. Так он сказал – в старину велось так:
«Давно тому делу, как жил в Сельском Бору, в сторону от нас к Макарию, один крестьянин, имевший частую нужду – быть на Керженце. Крестьянин был сметлив и попусту времени не тратил. По солнцу, по звездам, по разным приметам пробил он прямую тропу на Керженец и стал опережать всех прочих. Разбогател наш крестьянин. Но старость пришла. Стал умирать. Собрал семью, собрал на весь мир – и заповедал на сходке, чтоб дети его чрез все болота набили сваек и на них намостили ходни выше воды. И дал на то денег: я-де нажился лесною тропою, пускай и люди по ней ходят и меня поминают! И долго поминали его люди! Мир его праху!» – говорил дедушка.
С тех пор открылась дорога через Лыковщину.
Не знаю, как для других, а кержаку такое дело простолюдина – по душе. Это все равно, что в глухом лесу колодчик вырыть. Темный крестьянин, без мысли на славу, заповедует деньги на общую пользу, тогда как деньги часто у нас зарывали, и сейчас порой прячут в землю.
На Лыковщине много было беспоповцев – поморцев, уренцев и других самых различных толков. У них с церковниками, с давних пор шли непримиримые споры. Церковники крестились щепотью, а старообрядцы – толстым крестом. Жали кержаки хлеб вместе, а молились по-разному.
Во многом чудными были керженские старообрядцы. В первые годы советской власти, в Хомутове у староверов, – не помню только, какого толка, – долгое время вожаком был Ефим Бесфамильный, считался у них проповедником. Собрал он как-то своих единоверцев и заявил, что он уже как бы их святой. И после одного моления объявил: полетит на небеса. Простился со своими молящимися, и пошли его провожать на небеса. «С земли, – сказал он, – подняться не можно, полезу на кровлю часовни. С крыши мне привольнее будет лететь». Так и было. Встал он на самый конек. В последний раз распростился, захлопал в ладошки и прыгнул…
Два года страдал Ефим. Когда поправился, стал первейшим пьяницей. И все же старообрядцы не осудили Ефима. Они уверяли: «Его на это лукавый соблазнил».
У кержака на жизнь был свой взгляд. Каждый по-своему добывал себе блага. Конечная цель всех стремлений кержака – быть сытым. Каждый год он ревностно проводил праздник «отжинальник». Он у кержаков справлялся два раза: когда убирали яровые и аржаные. Теперь в последний день уборки колхозникам, например, поставят обед на гумне. Председатель колхоза обнесем мужичков по стаканчику – по два вином для веселья. Женщины на гумне песни запоют, попляшут.
А раньше на поле после ярового посева устраивалось моленье. По всякому случаю молились, даже когда начинают навоз возить. Молодой народ и тогда мало молился – только перекорялись. Хотелось по Лыкову пройти – на модников посмотреть. Старики молились, а молодые в это время выходили гулять.
В рождество было гулянье в Заречице. Съезжались кавалеры, катались на баских саночках, а барышни стояли на «порядке» – ждали: посадит модник… Иную на десяти лошадях покатают, а иная не проедет и на одной. Такой девке невесело было.
На святках рядились, кто как сумеет. Что чуднее, то и хорошо. Были беседы, девушки гадали.
Троица – был престольный праздник у всех кержаков. Праздновать ходили в Лыково, а оттуда в Заскочиху. С вечера вырубали березки, ставили их у окошка. Утром рядятся в хорошие платья и уходят к обедне. Богачи – в шелках, беднота – в ситцевых. Ребята наряжаются в хорошие пиджачки, рубашки, в сапоги, а уж на моей памяти стали форсистее – ходили в ботинках, не глядя на то что сапоги дороже. Обедня пройдет, ребята из церкви выходят, встают все рядами. Барышни выходят – они примечают, кому какая нравится.
Нынче город и деревня год от года полюбовно сближаются. Не узнаешь ни Керженца. Ни Лыковщину, ни людей, коих знал. Как жизнь, так и дороги наши пролегли в глухих лесах. Старые дома сгнили или сгорели. Молодые шабры не баят уже, как мы. Все перевернуто вверх дном.
Да, разучились у нас и пиво варить.
Ныне на то и время-то недостает. Да и молодые-то бабы не сручны на это, не умеют. Солод ухода к себе требовал.
Перво-наперво наложат, бывало, в кадку ржи, зальют ее водой – и на гумно, где хлеб молотили. Рожь три дня и три ночи мокнет. И выскочат, возродятся из нее отростки, прибытки жизни. Воду хозяйка сольет, а рожь развалит на гумне ладони на две толщиной. Разгладят, разровняют ее, прикроют леснинками, и опять она три дня и три ночи лежит. Рожь так сращивалась, сдруживалась. Руками растирали ее и опять разваливали на пологу, под полог стлали мелкую мякину и овсяной пелевой покрывали. И так все это добро согревалось суток пять. Идешь, бывало, мимо гумна, а там тебя и опахивает приятным духом, да таким хорошим, покорительным. Когда полог раскроют – пар валит. Разгребут плесень, завалят в середку и опять закроют суток на трое. После этого в овине на колосники положат тесины, на них расстелют солому и ссыпают на нее экую-то рожь, но перед тем опять ее разотрут руками. Уложат теплиной вершка на четыре и каждый часик будоражат – сохла бы равненько. Рожь так высохнет – зубами не раскусишь. Дадут ей остынуть, провеют, сложат в мешки и свезут на мельницу. Намелют из ржи сладкий-пресладкий солод. Из него, точно из злаченого, и вторили квас и пиво хмельное. Пиво готовилось к свадьбам. Брали черепяные корчаги, в боку, ближе ко дну провертывали дырочки. Хозяйка возьмет солоду, прибавит немного муки, обварит, воскормит крутым кипятком и затворит как бы хлебы. Потом добрую смесь кладет в корчагу. На дно положит палочки, на них расстелет стриженой соломки и заводит на солоде тесто… Таких корчаг наставит три-четыре. Зальет тесто водой и ставит корчагу в вольную печь. И преет все это добро до другого дня. Вынет она эту пахучую сладость из печи. В этот душистый солод хозяйка ложит ракушки, обдирку от дикуши гречневой – дырочку-то у корчаги не защипило бы – и добавляет теплой воды. Постоит это все уповод часика четыре. Затытечку у корчаги откроют, и начнет литься удивительное сусло. Первый выгон идет краснущий, густущий, медяной. Наберет хозяйка такого сусла ведерка два-три, потом добавит в корчагу еще водицы. Ставит на лотки, сделает скатец. Ототкнет опять у корчажки затычечку, откроет дырочку, и в кадку побежит пиво; хозяйка водицу подливает разика три. И вот спускает она живительную благодать. И отведывает – не густо ли?.. Ежели кому угодно пиво – сбирают хмеля и кладут в кадку да прибавят дрожжей. И все это вместе бурлит, ходуном ходит дня два, пока пена покажется. Случается, наше пиво-то бочата разрывает. Оно что твое баварское. Немцы-то, слышь, у нас учились варить пиво-то. Вот ведь оно што. Оставшееся сусло хозяйка насытит медом и угощается с товарками. Ни вина, можно сказать, ни водки до «царских казенок» у нас не знали – пили только свое, наше, керженское, пивцо, оно не сморит, а удовольствием и простодушием, марьяжным интересом и тому подобным наградит.
Бывало, отцы наши выпьют экого пивца-то и поучают: трудитесь, дети. Радейте трудовую копейку. Берегите землю русскую и православную веру. И мы трудиться начинали сызмальства. И так трудились – рубаха не просыхала. Тянули все на своем горбу. В темноте плутали. В засуху с голоду умирали, но в своей Лыковщине, возле своего очага, в своей избе. Да и как можно было киржаку уйти из наших лесов!
Сейчас на моде ласапед. До советской власти их не было. Да и не видывали такой диковины. А теперь в нашей деревне, чуть маленько годно живут, каждый парень ласапед имеет. А если живут негодно, сын заставит корову продать – а ласапед ему родители покупай. Иной мужичок налога не платит, весь в долгах, а сын на ласапеде ездит. Подумать только – ныне девок не воруют и катают. В колхозе нет парня без ласапеда. Нынешний бедняк, пожалуй, не опередил ли бывалошного богача. Хотя бы у того же Инотарьева – ласапеда у него не было и гармошки не имелось. Сейчас в Заречице малых ребят человек пятнадцать, и, смотришь, только кто-то из них подрос – у него уже гармонь. В мою молодость гармонь была «алексеевская». Так она называлась. Делал их мужичок в Осинках. Цена экой гармошке была три рубля. «Алексеевская» гармошка – четырехладная. И два подголоска. Мастер этих гармоний жил очень складно.
Играли на «алексеевской» гармонике – так называлось – «в растяжку», и под эту игру пели частушки:
Мамонька родная на горе породила.
Лучше бы ты, маменька, меня не родила.
А коли родила, лучше бы растоптала,—
Меня бы молодчика в солдаты не забрили.
А почему так слезно пели?.. В старину такая служба бывала: на двадцать пять годов забирали в солдаты. Уходили из своей сторонушки и – как в омут головой: дома не побывают. Цари такие были. Одежда солдату – сюртуки и шинели одинаковы: на тощего сюртук-то бы ладно – хорош, а на рослого кержака – застежка не сходится вершка на два – на четыре. Тогда прикажут застегнуть на нем мундир. Ежели, стоя не застегнут, так положат: один унтер мнет коленом живот, а другой застегивает. Так и шинель натягивают. Выйдет на учение такой вот стянутый солдатик, не то чтобы маршировать – пройдет несколько шагов и… грохнется без памяти.
Но потом уж служба стала покороче – пятнадцать лет.
У моего родителя брата взяли в солдаты от пятерых детей. Закон был такой – солдат брали от волости. Старшина назначит – кержаки шли и служили. Случалось, кто-то повздорит со старшиной или подрался с кем-то, такого провинившегося назначали в солдаты.
У моего родителя было три брата. И все они жили в одном дому. Мой отец был старший, третий брат – холостой. И был он краса детина. Другого такого не сыскать в Хахальской волости.
Дядя мой, Григорий Емельянович, женился годов двадцати пяти и прижил пятерых детей. Старшиной в Хахалах был тогда Иван Васильевич Кузнецов. В престольный праздник, кажись это был покров, пришел Григорий Емельянович погостить к тестю, рассорился со старшиной, мироедом его назвал. Он дяде и пригрозил: «Ну, помни, Гришка, ты, миляга, уйдешь в солдаты?» А на очереди в солдаты был холостой брат – Сергей. Его бы обязательно взяли, а старшина вместо Сергея запросил Григория Емельяновича. А ему в то время было уже годов сорок. Получил он бумажку. Явился в воинское присутствие. «Да что вы, господин начальник, у меня пятеро детей, – взмолился Григорий, – почему вы меня хотите взять на службу?» А ему отвечают: «Не мы тебя берем, а старшина». Отец Григория еще был жив. Он приехал в присутствие. И холостого сына Сергея привел. Упал в ноги и заявляет начальству: «Ваше высокоблагородие, помилуйте! У Григория пять человек детей, служба – пятнадцать годов! Возьмите моего младшего сына, а детей Григория пожалейте…»
Начальство смилостивилось, стало просить старшину. Он был тут же, в присутствии. «Никакого прощения Григорию нет, – говорит старшина. – Он пойдет на службу». Начальство было сжалилось: «Надо взять младшего. Парень здоровый, красивый, его только в хоромы царские – гвардеец!» – «А что же вы не спросите Григория, за что я посылаю его в солдаты?» Стали спрашивать Григория. И он сказал: «Я повздорил со старшиной. За это он меня и назначил». «Ну, Кузнецов, – говорят старшине, – можно ли отпустить мужика?..» – «А ты что же, Гришка, не сказывал, как ты меня обозвал?..» Григорий отвечает: «Я не помню». «Он меня обозвал мироедом», – говорит старшина. И тут начальство не могло пойти против старшины.
На Лыковщине Кузнецов был богатым человеком. Его трудно было смилостивить. В губернию ездили. Холостого Сергея Емельяновича брали с собой – показать, какого взамен солдата давали. И в губернии не могли освободить. Вернулись домой в слезах.
Пришло время Григорию отправляться на службу. Отец и дедушка говорили: слез-то сколько было! С чужих деревень Григория провожать пришли. Была у него старшая дочь – замуж уже вышла. Глядя на такую надсаду, чай, все бабы с ума сходили. Цари законы писали, а мужику, крестьянину разве можно было сказать не только против воли царя, но и против старшины?
Прошло время – и служба военная стала: в пехоте – четыре года, в коннице – семь лет и во флоте – семь лет. Одежда солдата стала – какой надо быть. Но все-таки солдатства боялись. Вот нынче служба в армии два года. И парень свободен. На днях у нас провожали новобранца. Мать и сестры плакали, а он смеялся: «Утрите, маменька, слезы! Прослужу и не увижу, как пролетит время». Некоторых нынче бракуют. Там таким парням, видать, стыдно – сами просятся: возьмите, я – здоровый… Вот ведь какое пришло время. С охотой идут. Нашего парня Сироткина, – живет он напротив меня, – отбраковали. В воскресенье сошлись бабы погулять и бают: «Ах, Агафья, какое счастье-то тебе – парня-то твоего не взяли, второго солдата у тебя бракуют». А я не удержался и говорю: «Ах, бабы, бабы, да он бы в солдатах, чай, всяку бы угоду сполнял, а вы, словно старая деревенщина, польстились на што! Да разве матери счастье, ежели ее сына отбраковали?..»
На Лыковщине первым начал пилить дольной пилой Иван Николаевич Марков. И это было чудом. Купил он пилу в Нижнем. Мне теперь вот восемьдесят восемь годов. За тридцать лет до советской власти на Керженце не имелось пил ни поперечных, ни продольных. Я сам топором рубил лес строевой и на дрова. Порядишься к купцу, так, чай, только топором разделывали делянки-то. Чудно сейчас даже вспоминать. Железных ходов не было ни у одной телеги. И вся телега была без единого гвоздя, деревянной. Ось дубовую делали. Курки деревянные. И теперь еще от телеги сохранился у Сергея Андреича деревянный задок. Потом уж только у богачей появились тарантасы на железном-то ходу.
Работали мы и жили больше зли землянок. Они зимничками называются. Дымище скапливался в них такой – одуреешь, не продохнешь. Встанешь утром – сам себя не узнаешь. Это все равно что разложить костер в избе. В стужу приедешь домой-то – и на печи не согреешься. А в зимничке и лапотки, и портянки на огне просушиваешь. Случалось, по всей зиме не разували ног. Того гляди, ноги сгниют. Вот как копейку-то добывали! Подвинешь ногу к огоньку – и гоже. Приедешь ночевать – варежки вешаешь над огнем на крючок. Тут и варевцо кипит. Но варево тут бывает вкусней, чем из, печки.
Теперь лесорубам настроили жилища метров на тридцать длины. У каждого коечка железная, подушечка, матрац, одеяльце. Помещение ежедневно промывается, убирается. Кипяток хоть днем, хоть ночью. Вари хоть суп, хоть щи иль кашу. На то есть помещение. Тут не страшен ни снег, ни ветер, ни дождь. Приезжаешь вечером из леса. Ставишь лошадь. За ней конюх смотрит, а ты идешь в красный уголок газетку, книжечку почитать. Экие жилища настроили от нас километров за пятнадцать. И все тебе предоставлено: и духи, и кожаная обувь, и мануфактура, и водочка. Как человеку, все тебе дается.
Я уже говорил: на Лыковщине каждая деревня имеет по два названия. И у кержаков часто бывает две фамилии. Я, например, Иван Михалыч по батюшке – Дашков, а народ прозвал меня годов с двадцати – «Расея». Меня так и до сих пор окликают – «Расея». А почему? Я часто пел песню про Расею. И случилось с моей песней так – чуть было меня вожжа не захлестнула. Бурлаки собирались гнать плоты. Я пришел к своим мужичкам в харчеву и слышу – меня кличут из соседней харчевы: «Иван, иди-ка к нам, спой песню!» Харчева была Тимофея Никифорова. Уже тогда тревожная молва шла и время было беспокойное. Рабочие в Сормове с красными флагами ходили, пели: «Вставай, поднимайся, рабочий народ…» Бурлаки слышали об этом, но говорить громко боялись. Я вошел в харчеву, не зная, что там на полатях лежал подвыпивший наш хахальский стражник. Бурлаки тоже были уже во хмелю. И только я показался, они закричали: «Ванька! Спой нам про Расеюшку». А я посмеялся: «Коль поднесете стаканчик винца, так, может быть, в охотку и спою». Бурлаки зашумели, кто-то меня толкнул на средину харчевы. «Да не то что стаканчик, и двумя, и тремя почестим, пой только!» Все им тогда казалось нипочем, спьяна забыли, что у них лежал урядник, а мне о нем и невдомек.
– Мать Расея, мать Расея,
Мать расейская земля,
Про тебя ли, мать Расея,
Слава далеко прошла…
Далеко слава прошла
Про немудрого царя…
Что наш царь-то государь
Всю Расею распродал.
Я песню не допел. Стражник с полатей подымается.
«Ты про што это, мужик, поешь?..»
И теперь, как вспомню тот грозный голос – дрожь пробежит по телу. А я тогда, обернувшись к двери, только и сказал: а что, мол, из песни слов не выкинешь.
Стражник было ко мне, а я – бежать. Бурлаки ему перешли дорогу. А была весна. Кержанец-то широко разлился. Ну, думаю, пропал: успею ли на берег.
Прибежал домой без памяти. А через некоторое время слышал – стражник-то расспрашивал: «Кто это такой у вас Расея?» Но мужички знали про мою оплошность и говорили: «Нет у нас такого».
Вот так-то и получилось. По отцу-то я – Дашков, а по песне – «Расея».
НА ШПАЛЕРНОЙ

– Наши деды праведные, чай, всю землю обошли. Где только они не хаживали. Видели, где солнышко-то восходит и где оно прячется от нас. Кержак исходил свою земельку вдоль и поперек и чужеземные страны видел.
Наш лыковский Федор Коротаев семь лет по морям и океанам на русских кораблях плавал, видел мир всякой веры, не встречал только старообрядцев. Семен Марков Порт-Артур отстаивал. Шабер его Иван Волков в Цусимском бою раны имел. Митрий Бекетов на Шипке против турков в штыки ходил. Егор Фадеич от германца бежал домой, через многие чужеземные государства прошел. Мужичок он по старой вере – скрытный, лишнего слова не скажет, а баить выучился и не по-нашему. Как-то на базаре в Семенове изъяснился с гостями заграничными по-англицки. И хотел было идти к своей лошади, а иностранцы его не отпускают. Но Фадеич – роду старинного, гордый кержак, – снял картуз, раскланялся и пошел. Заволжский ельничек ему был дороже любой другой земли. Хотя земля зли Керженца страсть как неудобна в крестьянстве, но экую-то скудную земельку разделывали его деды-прадеды. Отец Фадеича строился на рамени, занимался хлебопашеством, охотничал. Его сосед Александр Михалыч – рода бы не богатого, но уж больно гож – красотой, ростом соблазнил царское начальство. В Петербурге был произведен в жандармы – шесть лет служил верой и правдой Александру Николаевичу – освободителю, но освободителя какие-то вольные люди убили. Бомбу кинули под его коляску… И Александр Михалыч принимал присягу наследнику.
Послужил он царям, как полагается, верой и правдой и вернулся в родительский дом к вдовой матери. Жила она недолго. И он кормил сестер-девок. Выдал их замуж и сам женился. Было у него три сына. Двоих сыновей в германскую войну убили. Один выжил. В гвардии служил на персидской границе. Вернулся со службы. – в десятниках ходил, лес принимал, в автомобилях в Семенов ездил…
С Александром Михайлычем ведь как сядешь покалякать – заслушаешься, коли он начнет вспоминать бывальщину. Одно время он поряжен был сторожем в деревне. Придет Михалыч к кому-нибудь на завалинку и разбаится. Мужичок он был всегда ласковый, добрый. И будто наша керженская березынька зашелестит, и слышишь от него сказку за сказкой, как, бывало, старики-то наши маялись.
«Ай-яй… что вам нонче не жить-то? – часто говаривал Александр Михалыч. – У вас и кочетки на дворах поют, а ведь, бывало, на Керженце голоса валевашной собаки не услышишь. Всю жизнь, кажись, не забуду, что мне видеть-то пришлось».
В Петербург я позван был царем Лександром Николаевичем. Службу отбывал в жандармском дивизионе. Вот только запамятовал месяц-то и число, когда в Зимнем-то дворце получилось смятение. В тот день эскадрон наш сменился с караула, и вечером нас проводили в Александрийский театр. И вот во время действия на театре во дворце получилась встряска: взрыв… я так полагаю – от того взрыва весь Петербург содрогнулся. Господа, кои были в театре, оцепенели. Мы сами тоже один другого глазами спрашивали: «Что это могло быть?.. Взрыв?.. Где?..»
В казарме дивизиона нам сказали: взорван Зимний дворец. Стены остались нетронутыми, но из окон все стекла вылетели. А окон-то во дворце, милые мои, больше полтыщи. Нашего брата на постах раскидало, словно пушинки. Тринадцать солдат уложило насмерть и многих покалечило. Вот какой силищи-то был тот злоумышленный заряд. Во дворце получилась большая трещина. Государя и родственников бог миловал. Чуточку угоди бы удар посильнее – и его величеству несдобровать бы. Государь, слышь, отделался только испугом.
Такое происшествие и на вас, наверное, нагнало бы страху.
Начальство наше хитро и любопытно, стало дознаваться… Кто натаскал динамит в царский дворец?.. Видать, перебирали верующих и неверующих. Поначалу схватили слесарей и дворцового столяра Степана Халтурина сцапали. И, как у нас полагалось, скрутили Степана и – в каземат, а с ним и смотрителя дворца… Я этого господина видел. Смирнейший, набожный человек, у его камеры, пока он у нас находился, разочка два стоял. Так он только молился. Я так полагал – он невиновен был. Но все же как-то ночью за ним приехала карета – мне приказали: «Выведите смотрителя дворца!» И его увезли… А вот уж куда… нашему брату знать не полагалось. Но хоша мы и присягали государю императору молчать о всем виденном, но ведь понимать-то мы понимали: уж ежели кого увозили в карете, он утреннего рассвета не увидит. Столяра-то тоже увезли в карете, но не в мою смену. До того я его видел. Он не молился, а уж больно только серчал: «Чего, слышь, хотел, – не получилось».
В службе моей все обстояло в совершенном порядке, а вот государя-то ухлопали… После взрыва во дворце, можно сказать, и года не прошло. Государь находился в Михайловском манеже на разводе караула. По дороге от манежа к Зимнему он заехал в Екатерининский дворец. Там жила Екатерина Михайловна Долгорукова – любовница его. Долго он у нее не задержался – показался на Екатерининском канале.
Его сопровождала охрана – шесть казаков, седьмой казак форейтором и кучер. Следом за государем всегда ехал на паре лошадей полковник Дворжицкий. А из наших, видать, никто не знал, что его величество поджидает на канале Иван Рысаков. И он под царскую-то карету и бросил бомбу. Но, видать, паренек-то промахнулся малость. Бомба-то разорвалась, сразила наповал форейтора, мальчонку с корзиной на голове – мясо он нес кому-то, а государь-то остался невредимым – задок оторвало у его кареты, и все. Он, слышь, отворил дверцу-то, вышел из кареты, перекрестился. «Где же этот, – спросил он, – отчаянней злоумышленник?..» А парня уже скрутили. Государь подошел к нему, спросил: «Как твоя фамилия?» – «А зачем вам знать? Не все ли равно, кого вам вешать – Ивана или Петра». – «Отправьте его в сыскное отделение!» – приказал государь. И он пошел было взглянуть, как бомба разворотила дорогу, а Рысаков обернулся и крикнул: «Не удалось мне. Промахнулся!» Дружье его прибежало со стороны Невского. Поравнялся второй паренек с государем и – бац! – ему под ноги вторую бомбу. И вот он-то ловко угодил – изрешетил государя.
Начальство нам сказывало: царь получил до двухсот ран. Вот ведь как дело-то обернулось. В тот же день стало известно о смерти царя. Жители Петербурга всполошились. Все были на ногах.
Наше начальство наводило порядок. Так надо было: даже господ высаживали из колясок и подавили многих людей. Нас погнали присягу принимать новому государю. До нас Александру Александровичу присягнуло знатное начальство и генералы всех полков и дивизий. И зажили по-старому. На Шпалерной улице у нас готовились казнить виновных. Был суд или не было его, но первым к повешению наряжали Рысакова-мещанина, затем Михайлова, Желябова – из Псковской губернии и дворянскую дочку – Софью Перовскую. Молоденькая барышня – всего-то ей двадцать пять годков. Пятым был Кибальчич и шестая, приговоренная к повешению, – Геся. Ее казнить повременили – бабочка в положении была. Она на Шпалерной девочку родила. Ребеночка у нее отобрали, а она на одиннадцатый день богу душу отдала. В день смерти я был в карауле. Нам приказано было положить ее на одеяло и перенести из камеры на главный пост. Гроб оковали железными обручами и ночью поставили его на телегу и увезли. Куда?.. Об этом нам не приказано было знать.
В апреле нас нарядили сопровождать живых людей к виселице, на казнь. Негоже бы, но мы люди подчиненные, присягу принимали и пришлось в весеннюю красу идти на такое дело. Все то, что творилось в тот день на Шпалерной, – по гроб не забуду.
Накануне к осужденным пришел какой-то большой генерал и объявил: «Господин Рысаков, завтра в 8 часов утра вы будете казнены через повешение». Рысаков ему на это ответил: «Ну так что ж… от вас никуда не денешься». И этот генерал, то, что сказал Рысакову, вычитал и остальным. Кроме нас никто этого не слышал. Но и наши рта не раскроют – не моги! Насчет этого у нас было очень строго. Ежели кто попадал на Шпалерную, – не вырывался. У каждой камеры стоял жандарм нашего дивизиона с оружием наголо. Второй жандарм в коридоре расхаживал, и дежурный офицер.
В одиннадцать часов ночи во двор заехали два «лишафота», тарантасы с местами для сиденья. Ну, как бы это вам сказать – на телеге сколочен вроде бы продолговатый ящик. На одном «лишафоте» можно сидеть двоим, а другой был – трехместный.
В пять часов утра дали приказ – дать смертникам чай. Не помню уж, кто чай пожелал. Никто из них в ту ночь не спал. Только слышны были шаги по камере – похоже, пичужки метались в клетке. На зорьке Перовская попросила дать ей чай с лимоном. Подали ей чай. Лимон-то она ложечкой подавила, да так чаю-то и не глотнула.
На дворе, на главном посту готовились ехать. Первого из камеры вывели Рысакова. Палач еще не приехал, его ждали помощники. На вид им было лет по тридцати-сорока, оба в бороде. Они заставили смертников надеть чистое белье, такие же штаны, сапоги желтые – нечерненые, из неотделанной кожи. На голову нахлобучили шапки с наушниками, вроде бы картуз без козырька, из простого серого сукна, и экий же бушлат. Один из палачей попросил «возжанку» – веревку. Подобрал у парня одну руку, другую и на сгибе локтя стал затягивать, видать, чтоб не барахтался руками, и затягивал так – парень-то даже крикнул: «Да ведь больно!» И тут наше начальство распорядилось сажать Рысакова на двухместный «лишафот». Посадили его и еще раз привязали широким ремнем с пряжкой. Стянули и ноги таким же ремнем. Всех так обрядили и связали. Перовская была в женском одеянии – серое платье простой ткани, голову покрыли белым платком, ноги обули в желтые башмаки.
Рядом с Рысаковым посадили Желябова, на трехместном «лишафоте» тесненько, но уместились Михайлов, возле него Перовская и Кибальчич. Все они, милые мои, сидели спокойно. Эку-то страшную казнь готовили на главном посту дома предварительного заключения.
Наше начальство осмотрело, надежно ли все привязаны. Дало распоряжение ехать. Нам приказали идти возле повозок. Кучера взялись за вожжи, ну а лошадкам – хошь не хошь, кака бы поклажа ни была, везти надо.
Отворили ворота. И только «лишафоты» выехали со двора, а улица уже была запружена войсками. Впереди строя с десяток стояло барабанщиков, и, чтоб не слышно было голоса привязанных, грянула барабанная дробь.
Выехали «лишафоты» на Литейный проспект, и Михайлов, похоже, порывался что-то кричать. Я шел рядом с повозкой и заметил. Перовская, видать, уговаривала его. Поговорить-то им до того не довелось. Одевали их поодиночке. На Литейном народу собралось видимо-невидимо. Один из казаков – тоже из охраны – показывает нашему офицеру на балкон: дескать, смотри как плачут. А на балконе стояли, обнявшись, какие-то миловидные дамочки. Офицер кивнул кому следует, и плачущих, наверное, утешили, как полагается.
Наконец «лишафоты» появились на Семеновском плацу. И тут собралось миру столько – глазом не окинешь. «Лишафоты» подъехали к деревянному помосту, окрашенному темной краской. На помосте возвышалось пять столбов. У каждого столба наверху – кольцо, и в кольцо вдета возжанка с петлей.
Готовых к смерти поодиночке подвели к столбам. На правом фланге первым ввели на помост Рысакова. Поставили лицом к востоку и привязали к столбу. В помощь палачам из какой-то тюрьмы доставили арестантов. Они что-то около парня долго суетились. К следующему столбу поставили Желябова. Он у них, слышь, главным был. Третьей подвели к петле Софью Перовскую. Возле нее встал Михайлов. И на левый фланг поставили Кибальчича. Когда их всех привязали, к ним подошел какой-то генерал, и тут грянули оркестры. Вокруг помоста собрали музыкантов. Шума было больше, чем на Шпалерной. От барабанного боя, от музыки ничего нельзя было понять, какие слова говорил генерал. Он подходил к каждому осужденному и читал какую-то бумагу. Закончил он читать, к помосту подъехали две кареты. Из них вышли пять священников, каждый с крестом и евангелием в руках. Перовская покачала головой – не пожелала целовать ни крест, ни евангелие. Тощенький батюшка от нее торопко вернулся в карету. И тут главный распорядитель казни приказал отвязать от столбов осужденных и разрешил им проститься друг с другом. Они обнималась, низко кланялись народу на все четыре стороны. Видать, что-то пытались сказать, но не слышно было: голоса их заглушала барабанная дробь.








