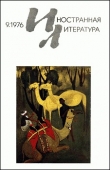Текст книги "Век 'Свободы' не слыхать"
Автор книги: Валерий Коновалов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Коновалов Валерий
Век 'Свободы' не слыхать
Валерий Коновалов
Век "Свободы" не слыхать
Посвящается моим соратникам по перу,
русским офицерам
Игорю Морозову, Виктору Верстакову,
Валерию Борисенко, Александру Гурову,
Александру Маргелову, Валерию Чебану,
Геннадию Стефановскому и Владимиру Пластуну
ОТ АВТОРА
Первые шесть глав книги в 1998-1999-м годах были опубликованы в еженедельнике "Литературная Россия". В настоящее издание включена их дополненная и частично переработанная версия, лишенная каких-либо цензурных купюр. Я – русский. Как и генерал Альберт Макашов, я привык называть вещи своими именами, особенно когда речь идет о моей собственной жизни и о моем личном отношении к тем или иным событиям, очевидцем и участником которых я был. Книга эта – опыт мемуарного жанра. В ее основе – почти тринадцать лет моей работы в мюнхенской штаб-квартире американской радиостанции "Свобода" – "Свободная Европа". Последние пять лет существования радиостанции в Мюнхене я занимал должность военного редактора Русской службы РС. В книге рассказывается о воссозданном мною на новом уровне военно-политическом обозрении "Сигнал" – радиопрограмме Русской службы, собравшей на своих страницах русских офицеров-патриотов, которым небезразлична была судьба их раздираемой на куски Отчизны, обреченного на нищету и вымирание народа, оплеванной и преданной армии. Разумеется, на контролируемой американскими сионистами, русофобской по своей сути радиостанции, политика и вещание которой, теперь уже из Праги, ориентированы на развал и окончательное уничтожение России как державы и русских как нации, такая программа долго просуществовать не могла. Со дня моего ухода со "Свободы" прошло уже более семи лет – достаточный срок, чтобы осмыслить пройденный этап жизни и предложить его на суд российского читателя.
Глава 1
В ЭТОЙ ГЛАВЕ НЕМНОГО О СЕБЕ
И ЧУТЬ МЕНЬШЕ O РАДИО "СВОБОДА"
... есть поэты в изгнанье,
нет в изгнанье солдат...
ВСТУПЛЕНИЕ
Аллах свидетель, я долго бы еще не вспоминал о той организации, в которой довелось проработать более десятка лет, ни устно, ни письменно. Да и мемуары мне, казалось бы, писать пока что еще рановато; вот разменял бы полста – тогда другое дело. Но мои московские друзья Игорь Морозов, Виктор Верстаков и Валерий Борисенко рассудили по-иному. "Пиши, Валера, потом может быть поздно, да и не интересно уже никому",– практически в один голос заявили они. В принципе так и есть, ибо кто знает, может, скоро "Свободы" этой мы больше уже никогда и не услышим, хотя, если честно, перефразируя известную зэковскую забожку, в нынешнем виде "век бы ее не слыхать". Так что вместе с предложением стать собственным корреспондентом "Литературной России" в Германии я принял и предложение поработать над созданием своих скороспелых мемуаров. Однако, находясь в редакции газеты весной сего года, обговорил я все же одну существенную для меня деталь: рассказ мой большей частью будет не о "Свободе" как таковой, а о моем Военно-политическом обозрении "Сигнал" и авторах, которые помогали мне его создавать. Ибо, на мой взгляд, в большинстве своем мелкие людишки, населявшие коридоры и кабинеты радиостанции, и их столь же мелкие дрязги не стоят того, чтобы марать о них руки и тем более перо. Мне гораздо приятнее будет рассказать о моих российских авторах, ибо каждый из них – это личность с большой буквы, достойная того, чтобы вспомнить о ней самому и поведать другим. В замысле этой работы я постараюсь, если, конечно, смогу, каждому из авторов программы "Сигнал" уделить место и время в моих воспоминаниях, попутно рассказывая и о том, что происходило в те времена на "коммунальной кухне" радиостанции. О "свободовских" делах постараюсь рассказать все же с юмором, ибо, говорят, ничто так убийственно не действует на "князя мира сего" и его слуг-приспешников, как здоровый смех здравого человека. Начать же позвольте с краткого изложения моей собственно "досвободовской" биографии бывшего гражданина СССР, прожившего в этой, уже не существующей сегодня, стране чуть более двадцати лет.
О СЕБЕ
Как правило, очень сложно писать автобиографию. Слова лезут на бумагу все какие-то корявые, казенные, словно из милицейского протокола. Но таково уж требование жанра, а посему рассказать о себе придется. Родился я в 1961 году в День Победы в небольшом белорусском городе Речица в простой семье служащих. Покойная мать более тридцати лет занимала должность старшего экономиста местного деревообрабатывающего предприятия. Бабка происходила из зажиточных крестьян, семью которой революция, комиссары да интервенция лишили всего нажитого. Дед со стороны матери был из обрусевших татар, учился за границей, а потом работал инженером-наладчиком на спичечной фабрике, был членом партии. В бытность товарища Бермана начальником ОГПУ Белоруссии, в одну из темных ночей 34-го, его попросили "на выход". Больше бабка и мать его никогда не видели. Хотя в 37-м, когда и самого Бермана отправили к "макару", ей сообщили, что "ошибочка вышла". Рос я без отца, мотавшего к тому времени свой четвертый лагерный срок, с которым, кстати, довелось-то по-настоящему увидеться первый раз только в 1970 году. Поэтому-то и фамилию ношу материнскую – Коновалов, а не отцовскую Кожедуб. Батя мой, Николай Васильевич, тоже, понятно, не с пеленок в зэки подался. Как поется в одной песне: "Не мы такими были, была такая жизнь..." А жизнь была такова, что его отец, мой дед Василий Иванович Кожедуб, погиб в 42-м, защищая Москву; мать отца, моя бабка, осталась одна с целым выводком детишек на руках (Николай был среди них старшим), а тут и освобождение Белоруссии от немецко-фашистского ига подоспело. В общем, сошлась она с одним старшим офицером из военной контрразведки СМЕРШ, да, к сожалению, долго не прожила (сказались тяготы войны и оккупации), отдала богу душу. Меньших братьев и сестер моего бати забрала к себе тетка Евдокия, а офицер тот, прежде чем армейская фронтовая судьба повела его дальше на Запад, успел сделать-таки доброе дело, определив моего папаню на годичные курсы СМЕРШа, открытые к тому времени в освобожденном Бобруйске. Год проходил батя в курсантских погонах, и ехать бы ему в Ленинград, в открывшееся там военное училище, чтобы учиться дальше, да вот бес попутал на уголовщине. Говорит, мол, братья и сестры меньшие плакали, кушать хотели. Одним словом, по указу "семь-восемь" вместо Ленинграда и училища военных контрразведчиков пошел мой папаня этапом в места куда более отдаленные. Однако с этапа он сорвался в бега и снова был пойман только в 46-м в Ашхабаде. В этот раз попутал не бес, а природная стихия. "Если бы не пошел помогать разбирать завалы после землетрясения, черта лысого менты б меня снова взяли",– с горечью вспоминал папа Коля за стаканом водки. Из Ашхабада отца этапировали на Колыму, и на "материк" он вернулся уже по известной ворошиловской амнистии осенью 53-го, но ненадолго. Потом были зоны в Горьком, в Караганде, и где только не были... Одним словом, из более чем трех десятков лет, навешанных ему за подвиги народными судами, отсидел мой батя двадцать один с половиной год, был признан особо опасным рецидивистом и успокоился только с середины 70-х, уже обзаведясь второй семьей. Завязал. Получилось так, что 75-м отцовская воровская стезя засветила и мне – еще в ранней юности. Правда, волею случая дальше малолетки в Могилеве я все же не пошел. Хотя после оной еще два раза побыл под следствием. Не буду здесь плохим словом поминать свою зону. Это тоже была школа жизни (малолетка – школа-пятилетка), научившая меня понимать и принимать реальность и строя и страны, в которой я тогда жил, а главное, научившая самостоятельно думать, принимать решения да и выживать в экстремальных ситуациях. В конце 77-го я откинулся с хозяйской дачи, закончил среднюю школу, и тут встал вопрос дальнейшего определения в жизни. Имея природный дар и способности к изобразительному искусству, я попробовал поступить в Минское художественное училище, но это оказалось не так-то просто. Одних талантов, оказывается было, мало, а ни "мохнатой лапы", ни фамилии Рабинович, ни тем более бешеных денег на взятки я не имел. Но мне повезло гораздо больше, чем Адольфу Алоизевичу Шикльгруберу, который, если помните, тоже не смог поступить в Венскую академию искусств по схожим причинам, а посему перебрался в Мюнхен, ударился в политику и впоследствии стал печально известен под фамилией Гитлер. В политику я ударюсь еще, когда и сам переберусь жить в Мюнхен, а тогда, в 1979-м, в частном порядке я начал учиться живописи и иконописи у моего ныне покойного друга и земляка Александра Исачева. Саша был художник от бога, избравший темой своего искусства христианство, расписавший в Белоруссии несколько православных храмов и вернувший меня самого к истокам российской духовности.
Вот с этого все и началось, да так, что переломило под корень мою дальнейшую жизнь. Я попал в поле зрения органов государственной безопасности. Сначала в родной Белоруссии, а потом уже и в Ленинграде. Не знаю уж, чем руководствовалось 5-й отдел Управления КГБ по Ленинграду и области (наверное, талмудом и каббалой), но так называемым диссидентом я стал по милости именно этого управления КГБ. О других подразделениях Комитета госбезопасности ничего плохого сказать не могу, они выполняли полезную для государства работу. Одним словом, квартирные выставки моих полотен и графики на религиозную тематику и мое достаточно робкое участие вместе с Галиной Григорьевой, Татьяной Горичевой и Игорем Дорошенко в литературном самиздате в Ленинграде, вкупе с интересом к религиозному семинару Пореша-Горичевой, привели к тому, что в один прекрасный день я обнаружил в своем лице очередного "матерого врага Советской власти". Подозреваю, что некоторые сотрудники 5-го отдела в Ленинградском управлении КГБ уже заранее сверлили дырки в погонах. Врага ведь надо разоблачить, а за это, как известно, и дают звездочки. И враг-то этот какой-то странный... Больной, наверное? Вместо того чтобы, как все "здоровые" диссиденты, требовать выезда на "землю обетованную" к желанной свободе и демократии, этот талдычит что-то про "русское да православное". Закончилось все это тем, что по приезде из Ленинграда к себе в Речицу в начале 81-го я был взят, как говорится, под "белы ручки" и помещен в местную психбольницу, куда также на всякий пожарный случай доставили и Сашу Исачева. Основание для помещения в "психушку" (его я прочитал в наших личных делах, проникнув ночью в кабинет главврача), заставило меня усомниться в психическом здоровье сотрудников 5-го отдела Гомельского областного управления КГБ. Нам с Исачевым инкриминировали ни много ни мало как замысел и подготовка терактов против делегатов ХХI съезда КПСС. Из "психушки" нас выпустили только в марте 81-го года, а тут как раз подоспел и весенний армейский призыв. Не то чтобы я не хотел идти в армию. Нет! Была, правда, одна проблема – мое заикание. Но не настолько оно было проблемой, чтобы я не смог четко повторить слова воинской присяги. Я хоть и заика, особенно когда злой и нервный, но, слава богу, хоть не картавый. На память и дикцию никогда не жаловался. Все медкомиссии проходил я исправно и регулярно и даже помог майору (начальнику 2-го отделения горвоенкомата) оформить наглядную агитацию. Тем более что и сосед мой по подъезду, Серега Степанов, отслуживший срочную в разведбате на территории Венгрии, в Южной группе войск, а потом закончивший школу прапорщиков (до недавнего времени он служил в дивизии Российских РВСН), вопрос этот понимал просто: не служил не мужик. Кстати, именно он первым и привил мне то отношение к армии, которое проявилось позднее в моих передачах на "Свободе". Самого же Серегу от армейской службы должны были комиссовать по-любому – один глаз у него почти не видит. Однако он обманул медкомиссию, а по стрельбе не знал себе равных в городе, часами не вылезая из тира (вот только щурил не тот глаз). Степанов часто приходил ко мне, приходили и его друзья-сослуживцы. За бутылкой да закуской разговоры велись разные. Мужики знали о пристальном внимании ко мне со стороны комитетчиков и понимали, чем это может грозить им по служебной линии, но, слава богу, как-то все обошлось. Особенно я запомнил одного из Серегиных сослуживцев, капитана, не раз упоминавшего в разговорах Афганистан. Серега, когда напивался, на чем свет стоит клял власть, которая посылает умирать простых необстрелянных пацанов, а не его, профессионала. Сам он написал два рапорта с просьбой отправить его "за речку", но начальство оставило их без внимания. С его слов я понял тогда еще одно: дети "власть имущих" в Афгане не воюют. Дескать, дураков нет. Как раз еще ранней осенью 80-го пришел в соседний с нами двор "цинкач". Парня я знал по школе. Нам всем, кто был на его похоронах, сказали, что это, мол, несчастный случай на учениях. От Сереги я узнал, что гроб из Афгана. В военкомат по повестке я, конечно, пошел. Хотя, наверное, не надо было мне тогда спрашивать: "В каком Афганистане служит сын первого секретаря горкома партии?" Глядишь, и судьба моя могла сложиться бы по-иному. Но сделанного не воротишь, и прямо из горвоенкомата поехал я по "знакомому адресу" – в психбольницу, где доктор терпеливо и очень доходчиво втолковывал и вкатывал мне через шприц эту самую разницу между мною и сыном первого секретаря горкома партии.
Летом 81-го я окончательно перебрался из Белоруссии в Ленинград, а точнее в Выборг, где и решился на отчаянный по тем временам шаг – отказ от советского гражданства по политическим причинам. С предупреждением по "190-й прим." терять мне было уже нечего. Следующее предупреждение могло быть только по "70-й". Письмо в Верховный Совет с приложенным к нему паспортом, кстати, юридически очень грамотное, составленное на основе духа и буквы Закона о гражданстве СССР, я отправил заказной почтой в начале 82-го и стал ждать результатов. В принципе, как выяснилось, в СССР можно было прекрасно жить и без советского паспорта. Главное, нужно было иметь прописку, работу и не попадаться на глаза милиции. В Выборге я работал грузчиком в продовольственном магазине, и из-за близости к спиртоводочным изделиям меня знали в лицо все местные менты – мои клиенты до открытия и после закрытия магазина. В Ленинграде я соблюдал осторожность и старался не попадаться им на глаза. Комитетчики и так прекрасно знали, где находится мой паспорт. Результаты моего "диссидентского демарша" не заставили себя долго ждать. В конце 82-го умер Брежнев, и у кормила власти оказался сам шеф КГБ Юрий Андропов. В органах МВД и КГБ грянули чистки и перестановки. Куда-то пропала и моя выборгская милицейская спиртоводочная клиентура. Водку теперь продавали от восхода до заката, так что надобность в моих услугах с черного хода отпала. К слову сказать, я лишился и приличного по тем временам левого заработка. Не мог же я жить на одну зарплату грузчика в семьдесят целковых! В общем, в декабре 82-го меня вызвали повесткой в Ленинградский ОВИР. Попутно выяснив у знакомых, где находится сие примечательное учреждение, ранним утром я отправился электричкой на Финляндский вокзал, а оттуда, слегка опохмелившись для храбрости, на улицу имени террориста-народовольца Желябова. Ждать в ОВИРе пришлось несколько часов. Сидел я в окружении "избранного народа", отъезжавшего или ожидавшего разрешения на отъезд в Израиль. Народ этот, глядя на меня, недоумевал: что этому-то тут надо? Наконец объявили и мою фамилию. Мне сообщили, что ввиду того, что мне пришел вызов от непонятно, правда, чьих родственников, принято решение разрешить мне убираться подобру-поздорову за пределы СССР. В ответ я набрался наглости и заявил, что в своем письме на имя покойного Леонида Ильича просил только о лишении меня гражданства СССР в знак протеста против политики КПСС, а не о выдворении из страны. На что получил спокойный ответ: дескать, Леонид Ильич умереть-то умер, но дело его живет и психушки, а также, исправительно-трудовые учреждения новая власть в лице Андропова, по всей видимости, пока что отменять не собирается. Намек этот я понял быстро, спорить перестал и потащился с зажатой в руке непонятной овировской "ксивой" заказывать себе билет на самолет в Вену. На следующий день надо было ехать в Москву за визой. В австрийском посольстве мне шлепнули эту самую визу, а в голландском, представлявшем интересы государства Израиль, одарили еще и пятью сотнями деревянных, пообещав, правда, взыскать с меня сей "безвозмездный долг" уже по приезде на Запад. Окончательно оформив визу, я от расстройства забурился в какой-то очень дорогой по тем временам ресторан ("Интурист", наверное,– хоть убей, не помню) и спустил дар "голландско-еврейских благодетелей" за один вечер, попутно напоив какую-то братву и околачивавшихся там "топтунов" из "наружки". Нет денег – нет и долгов. На последний кровный червонец взял билет на ночную "Стрелу" да пол-литра в дорогу.
Однако билет на самолет все же нужно было выкупать. Признаюсь, выручил меня покойный митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний (Мельников), к которому я и пошел на прием в Александро-Невскую лавру. Секретарь митрополита хорошо знал меня и поэтому пропустил беспрепятственно. Преподнеся в дар владыке собственноручно писанную икону, изображавшую апостола Петра, я поведал о своей проблеме, не утаив ничего из московской истории с 500 рублями. Владыка Антоний, внимательно выслушав меня, спросил вначале о здоровье Саши Исачева, (их связывала дружба еще в бытность Антония митрополитом Минским и Белорусским) и лишь потом перешел к рассмотрению моей весьма странной просьбы:
– Уезжаете, значит... Вот, говорят, и евреи тоже едут?..
– Ну это уж их дело, отче, я ведь не по своей воле, да и не еврей я...
– Знаю, Валерий, знаю... Сколько вам нужно?
– Ну хотя бы те же пятьсот на билет... или сколько дадите.
Понимаю, конечно, всю неуместность такого диалога в храме Божьем, в лавре; но кто не без греха... Вот только камни, пожалуйста, кидать не надо!
Между тем, продолжая расспрашивать меня о житье-бытье, Антоний достал из стоявшей на столе красивой шкатулки несколько купюр и передал их мне. Я машинально не глядя побыстрее запихнул деньги в карман.
– Здесь тысяча рублей. Хватит? – спросил митрополит Антоний
Пробормотав смущенно слова благодарности и приложившись к руке владыки, я поспешно вышел из кабинета. Деньги жгли карман. У врат лавры меня уже ждал мой выборгский дружок и тезка Валера Марышев. Когда-то он был первым секретарем горкома комсомола, потом отсидел по сфабрикованному обвинению в спекуляции валютой и экслибрисами (у него до сих пор сохранилась хорошо подобранная и дорогая коллекция книжных знаков). Теперь Валера частный предприниматель, однако без "бешеных бабок". Как он сам говорил при нашей с ним встрече через более чем десять лет: "В "новые русские" я своей русской мордой как раз и не вышел".
Окинув меня с ног до головы долгим взглядом, Марышев спросил, в чем дело, и как-то сразу развеял возникшее было сомнение относительно взятых у митрополита денег.
– Ну и что тут такого,– сказал он,– радуйся, уедешь на православные деньги.
– Хоть на мусульманские, лишь бы не на израильские подачки! Но все равно некрасиво как-то вышло...
В общем, пошли мы с ним выкупать авиабилет и менять рубли на валюту. Так у меня оказалась валютная декларация и сто с лишним баксов. Валера Марышев тут же предложил зайти в "Березку" на Невском и взять пару бутылок джина и виски.
– А баксы в дорогу? – спросил я с сомнением в голосе.
– Достану,– заверил Марышев.
– Как же, ты достанешь,– уныло протянул я, но потратиться на выпивку согласился.
Заграничное спиртное мы приговорили в кинотеатре "Нева", где наш общий приятель Вадим Алексеев работал в ту пору киномехаником. Был канун Нового, 1983 года, и до моего отъезда на Запад оставалось чуть более трех недель. Я успел еще смотаться на несколько дней к себе домой, попрощаться с матерью и отцом, а потом в Ленинград с картинами приехал и Саша Исачев, который, конечно же, негативно отнесся к моему визиту в резиденцию митрополита Антония.
– Попросил бы денег у меня,– сказал Саша.
– Ага, как же! – огрызнулся я в ответ.– У тебя что – станок на чердаке?
Прекрасно зная его собственные, далеко не блестящие финансовые возможности, я предложил Исачеву добавить мои картины к его работам на квартирной выставке, открывавшейся на Гражданском проспекте. Чуть помедлив с ответом, Саша все же дал "добро". К сожалению, эта наша совместная выставка продлилась всего три дня. На четвертый ее закрыли "искусствоведы в штатском" – под предлогом того, что все самодеятельные, как они выразились, художники теперь выставляются в Салоне. Им прекрасно было известно, что нашу религиозную тематику в Салон этот никто не пустит. Выставку пришлось закрыть, но к тому времени большая часть работ Исачева уже была продана, а мои картины подмел на корню какой-то никому не известный хмырь-коллекционер. Марышев шутил потом, что коллекционер этот, похоже, также был из Большого дома. Работ, правда, было немного – всего семь, но это было последнее, что я написал на российской земле.
Организацию моей "отвальной" Валера Марышев взял на себя. Грандиозная "последняя пьянка в России" состоялась на Пряжке, на квартире зэка со стажем Женьки Николаева. Как 23 января 1983 года я оказался в Пулковском международном аэропорту, простите, не помню. Марышева со мной в самолет, понятно, не пропустили мои провожатые с Литейного, 4, хотя он и ухитрился проскочить следом за мной через таможенную зону. Однако в моем состоянии тяжелого алкогольного отравления был и свой плюс – отсутствие долгого и унизительного шмона. Международный рейс Ленинград – Цюрих и так уже прилично задерживался. Пришел я в себя только в Венском аэропорту. Голова раскалывалась от невыносимой боли, во рту сушняк, а самое паскудное было в том, что я прекрасно знал: денег у меня нет и опохмелиться, следовательно, будет нечем. Но благодарение Богу! Сунув руку за "Беломором" в порванный левый карман куртки, через подкладку нащупал я несколько смятых бумажек. Это были стодолларовые купюры. Мысленно вспомнив добрым словом Валеру Марышева, я обменял часть баксов на шиллинги, основательно опохмелился и уже в более благостном расположении духа поехал в сторону австрийской столицы к новой и, как мне тогда казалось, радужной западной жизни. А еще через неделю, благополучно приехав на поезде в пограничный Зальцбург и миновав все полицейско-пограничные кордоны, я оказался на территории Федеральной земли Бавария, в городе Мюнхене. Потом и американцы и немцы спрашивали меня: "Кто вам помог перейти через границу?" Завели даже уголовное дело, потом, правда, закрыли. Если бы они знали, как выглядит госграница СССР с Финляндией на Карельском перешейке, наверное, не задавали бы столь глупых вопросов.
О "СВОБОДЕ"
Почему местом жительства я выбрал Германию? Признаюсь, первоначально я подумывал о том, чтобы перебраться жить в Штаты, однако общение с американцами из контрразведки ВВС на их военной базе в мюнхенском районе Гизинг как-то поостудило эти мои намерения. Но обо всем по порядку. Еще в Вене тамошний представитель Народно-трудового союза (НТС), некий господин Руткевич, намекнул мне, что если пройти в Германии через американцев, то право на убежище и вид на жительство можно получить без особых проблем. От него же я получил и сведения, как и где найти этих американцев, а также информацию о том, что в Мюнхене расположена и штаб-квартира радио "Свобода". (По наивности своей, еще живя в СССР, я думал, правда, что данная организация вещает на нас из Америки.) Поэтому-то, оказавшись на мюнхенском вокзале, я, недолго думая, плюхнулся в тачку и молча сунул под нос таксисту бумажку с адресом по-немецки. То ли этот венский энтээсовец что-то напутал в своей бумажке, то ли таксист не так разобрал его каракули, но подвез он меня прямо к парадному входу командования базой, охраняемому двумя здоровенными неграми в форме военной полиции США. Проскочив мимо них в холл, я начал что-то быстро бормотать на ломаном по тем временам английском, из чего они и присутствовавший там офицер управления командира базы поняли только одно слово "убежище". Потом в зарешеченной сзади машине военной полиции меня доставили по искомому адресу. На американской военной базе прожил я с 1-го февраля по конец апреля 83-го года. Американцы поняли, что секретоносителем я не являюсь, и интерес у них ко мне быстро поостыл. Хотя одному моему мюнхенскому знакомому, Роме Шаламберидзе, повезло задержаться "в гостях" и подольше. В Германию он перебрался из Хельсинки, где жил в браке с финской гражданкой, которую же и ограбил. Битых шесть месяцев он рассказывал сказки американским воякам о своей якобы службе при военном атташе посольства СССР и о спрятанном в лесу под Хельсинки сейфе с секретными документами. А те слушали и все носили ему карты местности, чуть ли не "миллиметровки", пока до них наконец не дошло, что тот попросту вешает им лапшу на уши. Спохватились, да поздно – с их же помощью вид на жительство в Германии у находчивого грузина уже был оформлен. Американцы сдали меня на оформление бумаг немецким властям, а заодно один из этих американских контрразведчиков, полурусский по происхождению, отвез меня на радио "Свобода".
Вначале поразило меня само здание. Длинное, приземистое, с высоким забором, кое-где украшенным "путанкой" из колючки. Оно сразу напомнило мне что-то "родное" – то ли "крытку", то ли "психушку", уже точно не помню. Внутри оказалось получше и не так сурово, хотя все равно что-то давило на психику... Позже я узнал, что до переезда в него "Свободы" в комплексе располагался американский военный госпиталь.
На "Свободе" я, как это было заведено, хоть и с огрехами пополам, но сразу же дал свое первое сумбурное интервью в культурную программу одного из старейших сотрудников радиостанции, покойного ныне Саши Перуанского, и начал потихоньку присматриваться к обстановке на радио, ибо быстро понял, что это сулит работу, без которой на Западе ты никто и ничто. Вначале меня взяли свободным сотрудником за двести с лишним марок в так называемый "Красный архив" (часть Исследовательского института "Свободы") на обработку советских газет, а с сентября 83-го, еще до получения мною вида на постоянное жительство в Германии, я был фактически принят в штат радиостанции "Свобода – Свободная Европа". Моим поручителем был главный редактор Русской службы радио "Свобода" Олег Туманов. Да! Тот самый Туманов, который потом вернулся в СССР и выступил с рядом разоблачительных материалов о деятельности радиостанции. Я не осуждаю его за это, тем более что мы были друзьями. Я часто пропадал у него дома, пользовался его огромной и по-своему уникальной библиотекой научной фантастики, ставшей после его ухода моей. А сколько было выпито вместе! И вспоминать не хочу... Меня пытались расспрашивать о Туманове после его ухода в апреле 84-го и американские, и немецкие контрразведчики. Я отказывался беседовать с ними, ибо это мое право, а в случае принуждения намекал на вмешательство адвоката. Работал ли Олег Туманов на КГБ или нет – это его личное дело. Я знаю только, что кадровым сотрудником комитета он не был, как знал и то, что он вернется на Родину, еще до его ухода. Это было видно по его настроению и по разговорам. Олег был моим другом, и я считал и считаю бесчестным примыкать к той кампании охаивания, которая началась после его ухода в СССР и разоблачительных выступлений. Более того, Туманов очень многое из того, что знал о радио, не сказал. Хотя наговорил, простите, того, что говорить бы не следовало – явно не без диктовки бывшего руководителя 5-го Главного управления КГБ генерала армии Филиппа Бобкова. Вопреки утверждениям Туманова ЦРУ не имело прямого отношения к "Свободе" уже с 76-го года, и Туманов, занимая начальственный пост, не мог не знать, что в случае войны между НАТО и Варшавским Договором на Европейском ТВД радио "Свобода" и его сотрудники (и то не все) переходили под контроль 4-й группы армии США (Форт-Брэгг), но уж никак не ЦРУ. Зачем же грешить против истины? Кстати, прямой начальник Туманова в то время, Константин Гальской, был офицером именно этого спецподразделения армии США по пропаганде. Другое, что Туманов тоже сделал необдуманно,– это объявление агентом ЦРУ Николая Петрова – ассистента директора радио "Свобода" Николая Васлева (Васлев в прошлом служил в военно-морской разведке США). Надо сказать, по тем временам на "Свободе" сложилась уникальная ситуация, когда руководящие должности заняли американцы русского происхождения, что сказалось и на тематике передач, переставших носить не то что антисоветский, уж бог с ним, а русофобский характер. После выступления Олега Туманова они все были смещены со своих постов. Коля Петров когда-то действительно был сотрудником ЦРУ (резидентуры в Ливане и в Италии), но именно он старался делать все, чтобы искоренить русофобию на "Свободе". Как урожденному американцу ему, понятно, трудно было выбирать между идеологическими установками Госдепа и Конгресса (последний нас финансировал) и между своим русским происхождением и православной религией, однако выбор он сделал в пользу последних и, к сожалению, проиграл. В остальном же Туманов не погрешил против истины, описывая обстановку на радио "Свобода". Потом я видел Олега в 93-м возле пресс-центра МИДа, он меня не узнал, хотя взгляды наши несколько раз скрещивались. Подходить к нему я не стал, помня рекомендацию начальника пресс-бюро Службы внешней разведки России Юрия Кобаладзе, что в моей работе журналиста "Свободы", вхожего в силовые структуры России, это может быть лишним и вызвать определенный негатив как в России, так и в Германии. Потом я понял, что Кобаладзе имел в виду, когда по-немецки вышла книга Туманова о "Свободе", где он привел протоколы допроса в КГБ нашего с ним коллеги Джованни Бенци, еще в бытность того студентом в Москве. По всем уставам и положениям контрразведывательной деятельности к этим далеко не архивным документам у Туманова не должно было быть никакого доступа. Джованни потом говорил мне, что данная публикация явилась для него шоком. Эти же слова он сказал и генералу МБ РФ Александру Гурову, с которым я его познакомил в 92-м. Выводы делайте сами. Но закончу здесь о Туманове и вернусь в "свободовские" коридоры.
Кое-кто из моих бывших коллег, читая эти строки, наверняка с нетерпением ждет, когда же я наконец перейду к главному, к своего рода, так сказать, "изюминке", а именно к евреям на радио "Свобода". Ведь не все же знают, что в Русской службе "Свободы" наряду с покойным главным редактором Женей Кушевым, нашим специалистом по перебежчикам из КГБ Алексеем Лёвиным и русским по происхождению, но не по рождению (Китай) и тем более не по духу (американца переамериканит) Виктором Федосеевым я находился в числе так называемого нацменьшинства. Хотя все же проблема радио "Свобода" заключалась не только в еврейском засилье. Да и откуда американцам было получать приток свежих кадров, как не из состава так называемой третьей и четвертой волн эмиграции? Просто были люди – и была мразь, как она бывает везде, зависимо или независимо от национальной принадлежности. И если тот же Юрий Львович Гендлер был подонком, то не только по вине своего папы-еврея. На "Свободе" были и другие евреи, без русофобских заскоков, правда, всего несколько человек. Равно как русофобов этих хватало и среди неевреев. У меня язык не повернется сказать что-либо плохое о тех людях, кто ко мне отнесся по-доброму, кто бы они ни были по национальной принадлежности. Пусть их было немного, но все-таки они были. Это Юлия Вишневская и Ирина Каневская – супруга автора известной книги о Рудольфе Абеле "Охотник вверх ногами" Кирилла Хенкина. Вишневская вообще, на мой взгляд, была одним из лучших аналитиков-специалистов по проблемам Союза в Исследовательском отделе радиостанции. Это и мой бывший начальник и коллега по "Красному архиву" Хервиг Краус, удивительный по-своему немец, прекрасно говорящий по-русски и собравший уникальнейший архив по биографическим данным партийно-правительственной номенклатуры за все годы советской власти, почти безвозвратно утерянный при переезде радио в Прагу. Мы остались друзьями и по сей день. Это и Владимир Матусевич – директор Русской службы, при котором получила "путевку в жизнь" моя программа "Сигнал". Получила именно в том виде, какой ее знали и, надеюсь, еще помнят мои российские радиослушатели. Матусевич (по специальности он кинокритик, специалист по творчеству Ингмара Бергмана) оказался большим умницей, быстро понявшим, что в прежнем своем виде радио "Свобода" проиграет в вещании на Россию. Он старался изменить лицо программ. В моем случае ему было плевать, заикаюсь я или нет. Главным критерием для него было то, что я умел работать и умел делать то, что называется интересной радиопередачей. В бытность Матусевича директором Русской службы я сделал ряд передач, в которых шли беседы с генералом Филатовым, Александром Прохановым, интервью с Каремом Рашем и генералом Макашовым. Эти передачи уходили в эфир, невзирая на коридорные перешептывания, а то и прямые доносы американскому начальству, что Коновалов на деньги Конгресса США пропагандирует русский фашизм. При умном директоре Матусевиче эти передачи шли в эфир без проблем, потому что были интересны и вызывали положительный резонанс у аудитории, делая радио "Свобода" конкурентоспособным на рынке российских СМИ. После, конечно же, отнюдь не добровольного ухода Матусевича с поста директора Русской службы моя программа "Сигнал" существовала в условиях почти непрекращающейся травли со стороны его недалекого умом преемника Юрия Гендлера. Впрочем, развернутая им кампания травли моей программы затронула и моего покойного друга, одного из заместителей директора Русской службы Евгения Кушева, которого Гендлер косвенно обвинил в потворствовании моим националистическим "выходкам в эфире". Сам Гендлер, как и его "подельник" Савик Шустер, ставший при нем начальником Московского бюро РС, в отличие от не обделенного даром божьим Кушева, ничего примечательного, кроме чересчур завышенных амбиций, собой не представляли и не представляют. Выкрест Гендлер с его пустопорожней болтовней, к месту и не к месту любивший подчеркивать, что он де "гусский и пгавославный", тут же "ничтоже сумняшеся" мог заявить и такое: "Стагик, гусский народ – дугак и раб! Его нужно учить". Порой он неожиданно менял вдруг гнев на милость и, приглашая меня в кабинет на очередное собеседование по поводу содержания программы "Сигнал", не забывал налить рюмку-другую виски да рассказать очередную "хохмочку". К Гендлеру и к тому, как мне удалось на время отвадить его от моей "военно-националистической программы", я еще вернусь не раз, а пока кратко обрисую еще нескольких из числа сотрудников мюнхенской "Свободы", с кем доводилось иметь дело по работе. Над звуковым оформлением программы мне часто помогали работать Наташа Урбанская и Борис Бурштейн (Архипов). Еще я сошелся с Васей Фрейдкиным (Крупским), который работал в Белорусской редакции, где на какое-то время с его подачи подвизался и я, пока не был принят в штат Исследовательского отдела РС/РСЕ. Родился Вася в белорусской деревне Миоры в Гродненской области. Потом закончил факультет журналистики БГУ. Одно время работал в окружной газете ПрибВО. Вася неплохо разбирался в западных, да и в отечественных образцах вооружений и боевой техники, так что со временем кое-что давал и для моей программы, хотя его дурная привычка с апломбом доказывать превосходство всего американского и израильского раздражала, а потом окончательно достала. Уже почти к закрытию радио из Белорусской редакции Вася перешел в Русскую службу РС. Сейчас он, насколько я знаю, работает в качестве спеца по России для разведслужб НАТО. Приезжал даже с их делегацией в Москву. Все-таки куда ни кинь, а в кармане у него паспорт США, предписывающий соблюдать интересы этого государства. Как-то сей американо-израильский подданный позвонил и похвастался мне, что помогал "натовцам" разбираться с картами минных полей в Чечне. Слушал я этот бред "оф сивый кэбыл" и думал: "Надо же! Новая саперная тактика НАТО на минном поле всем в пример еврей заменит БМР..." Близко сошелся я, несмотря на разницу в возрасте, и с Алексеем Лёвиным, радиосвободовским специалистом по КГБ. Здесь сказывался и мой собственный интерес к этой теме плюс к тому наш общий интерес к компьютерам и баварскому пиву. Нам с Алексеем всегда было о чем поговорить. Сейчас он на пенсии в Нью-Йорке. Но все же самым близким моим другом на радио "Свобода" был покойный Женя Кушев, о котором я постараюсь рассказать более подробно в последующих главах.