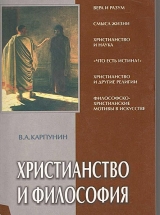
Текст книги "Христианство и Философия"
Автор книги: Валерий Карпунин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц)
ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ СМЫСАА ЖИЗНИ: КАТОЛИЧЕСКИЙ, ПРАВОСЛАВНЫЙ И ПРОТЕСТАНТСКИЙ ПОДХОДЫ
Смысл жизни – это высшая ценность, которую мы пытаемся обрести в нашей жизни, это цель, к которой мы стремимся. Для христианина высшей целью и ценностью является Сам Иисус Христос. Другими словами, смыслом жизни христианина является стремление к жизни во Христе и обретение этой жизни – жизни, о которой апостол Павел сказал: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
Каким же образом обретается этот смысл жизни? Христиане различных конфессий, то есть вероисповеданий, давали различные рекомендации относительно этого пути. Не претендуя на полноту изложения, упомяну три характерных варианта рекомендаций:
первый вариант – католический; он принадлежит Фоме Кемпийскому;
второй вариант – православный – принадлежит святому Серафиму Саровскому;
и, наконец, третий вариант – протестантский, принадлежащий Жану Кальвину.
Суть рекомендаций Фомы Кемпийского – католического монаха, жившего в XV в., можно выразить так: «Подражай Христу и презирай мир и всю суету его».
Святой Серафим Саровский – русский православный монах, современник Пушкина, в свою очередь, смысл жизни христианской высказал в таких словах: «Пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения её. Истинная цель жизни нашей христианской – есть стяжание (то есть приобретение, добывание. – В.К.) Духа Святаго Божия. Пост же, бдение, молитва, милостыня и всякое Христа ради делаемое добро суть средства для стяжания Святаго Духа Божия… Лишь только ради Христа делаемое добро приносит нам плоды Духа Святаго, все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды (то есть выгоды. – В.К.) в жизни будущего века нам не предоставляет, да и в здешней жизни благодати Божией не дает».
И, наконец, великий протестантский реформатор Жан Кальвин указывает на следующие «ориентиры» в мути ко Христу:
во-первых, направь всю силу своего разума на служение Богу;
во-вторых, терпеливо неси свой крест и страдания, как данные нам Богом;
В-третьих, отрешись от себя (хотя бы отчасти); точнее, отрешись от своего «узкого», эгоистического «я»;
и наконец, в-четвертых, добросовестно трудись.
Предельно кратко суть трех вариантов рекомендаций относительно пути обретения смысла христианской жизни можно выразить так:
первый вариант: подражай Христу;
второй: делай добрые дела ради Христа;
и третий: терпеливо неси свой крест и трудись, подчиняясь Богу.
Логических противоречий между этими тремя вариантами нет. Есть лишь различие акцентов, а именно: для первых двух вариантов, то есть для католического и православного, характерна большая мистичность (созерцательность); для последнего же – протестантскому – характерна большая практичность, ориентация на труд.
Еще одно замечание, с содержанием которого, думаю, согласятся и католики, и православные, и протестанты: необходимой предпосылкой (условием) нашего успешного движения к жизни во Христе являются: во-первых, любовь к Богу больше, чем к себе; и, во-вторых, любовь к ближнему, как к самому себе.
Господь наш Иисус Христос говорит: «По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые; а худое дерево приносит и плоды худые: не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их», – повторяет и тем самым подчеркивает Господь. И продолжает: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!", войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день (Господь говорит о великом дне Страшного Суда. – В.К.): «Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли! и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф. 7: 16–27).
Так говорит Господь! Главное, чего Он ждет от нас, христиан – это жизни по Его заповедям, а не внешнего богопочитания и не «слов» к Нему и о Нем, то есть не «обрядов» и не «богословия». Конечно, ни обряды, ни богословие не отменяются, но они – не главное. Главное для христиан – жить по Христу и во Христе!
Разнообразие цветов, растений, животных радует наш взор. Убежден, что подобным образом радуют Господа различные виды христианского служения, не противоречащие друг другу в понимании смысла христианской кой жизни.
Ну, а как все же оценивать богословские разногласия, которые, несомненно, существуют? А вот как: пусть будут! Но пусть они не становятся поводом для душегубительной вражды между христианами различных вероисповеданий, конфессий и деноминаций. «Ибо Надлежит быть и разномыслиям между вами, – говорит апостол Павел, – дабы открылись между вами искусные» (1 Кор. 11:19).
Что обычно является основанием богословских разногласий?
Основанием этих разногласий, споров и даже вражды, доходившей в прошлом до взаимоистребительных войн, является убежденность каждой из сторон, что только она знает истину, а прочие ее не знают. «Мы и только мы познали Бога (Иисуса Христа, Троицу и т. д.) Правильно, а вы – все прочие, находитесь во лжи, заблуждаетесь» – так, или примерно так, часто думают Представители различных конфессий. Говорить подобное – все равно что утверждать: «Мы прошли бесконечное расстояние, а вы нет!» Ясно, что это – в высшей степени самонадеянное утверждение, ибо шаг за шагом Пройти бесконечность нельзя. Более того, сколько бы "шагов" мы ни сделали на бесконечном пути познания Бога, перед нами будет лежать все та же бесконечность.
Когда представитель того или иного вероисповедание говорит: «Мы знаем истину!» – он очень часто говорит правду. Но когда он продолжает: «Истина есть лишь то, что я знаю как истину!» – он заблуждается, ибо в данном случае дело обстоит примерно так.
Представим себе сферу с бесконечным диаметром, а внутри – меньшие сферы с конечными диаметрами, причем некоторые из этих меньших сфер, возможно, пересекаются друг с другом. Ясно, что никогда ни одна из сфер с конечным диаметром не совпадет с бесконечной сферой, как бы ни увеличивался диаметр конечной сферы. Таким образом, никогда ни одна из богословских концепций не даст абсолютного, исчерпывающего познания Бога (Иисуса Христа, Троицы и т. д.).
Но как же избежать ненужных вероисповедных богословских «битв»? Для этого есть два возможных пути: первый – игнорировать, «не замечать» друг друга; и второй – стремиться понять друг друга. Убежден, что второй путь предпочтительнее, ибо, идя по нему, богословы различных вероисповеданий получают хорошую возможность для взаимообогащения, так как богословие каждого из вероисповеданий содержит в себе истины, которые наиболее глубоко продуманы лишь в рамках данного вероисповедания.
Понять ту или иную богословскую доктрину – это значит прежде всего реконструировать (восстановить, воспроизвести, продумать) вопросы, на которые она отвечает. Наряду с общими вопросами перед богословами различных вероисповеданий стояли и стоят особые, присущие только их вере вопросы. Различие вопросов порождает разнообразие ответов. Каждый из этих ответов может быть правильным на соответствующий вопрос.
Завершая, хочу сформулировать общий вывод в форме призыва к богословам различных вероисповеданий: будьте скромнее и терпимее в предъявлении «претензий» друг к другу при обсуждении богословских вопросов!.. Уместно также вспомнить завершение великопостной молитвы святого Ефрема Сирина: «Господи, дай мне видеть мои грехи и не осуждать брата моего…»
ДОБРО И ЗЛО
Эти понятия очень часто представляют собой некие стандарты, по которым мы оцениваем поступки и мотив поведения людей и других сознательных существ – духовных существ (ангелов, бесов). Понятие «добро» выражает положительную оценку, понятие «зло» – отрицательную. Мы говорим: «Этот поступок добр», имея и виду, что он правильный, положительный. Мы также говорим: «Этот поступок зол» и имеем при этом в виду, что он неправильный, предосудительный, отрицательный.
Кроме того, понятиями добра и зла мы обозначаем сами поступки, оцениваемые, соответственно, как добрые и злые. Именно это имел в виду «святой доктор» Федор Петрович Гааз (1780–1853), когда говорил: «Спешите делать добро». Именно об этом говорит наш Спаситель Иисус Христос словами: «По плодам их узнаете ИХ. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: не Может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7:16–18).
И истории человечества, начиная с древних времен, прослеживается два противоположных варианта понимания добра и зла. Первый вариант – материалистический. Он ориентирован на преходящие, временные "ценности" материального, вещественного мира и связывает понятия о добре и зле с узко, «приземленно» понимаемыми человеческими материальными потребностями и интересами. С такой точки зрения добро – это вещественное богатство, приобретения, здоровье, теми пая красота… А зло – это материальные лишения, нищета, болезнь, телесная неказистость… Именно об этой позиции говорит наш Спаситель в притче: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле; И он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лк. 12:16–21).
Второй же вариант понимания добра и зла – религиозный. Религиозное понимание ориентировано на непреходящие, высшие ценности – на Бога и Его заповеди. Религиозные учения о зле, как правило, тесно связаны с теми или иными представлениями о дьяволе, о сатане, о злой темной силе, враждующей с Богом – тщетно враждующей, ибо «Бог поругаем не бывает» (Гал 6:7).
Однако в рамках религиозных взглядов с древности и до настоящего времени существуют и такие представления, согласно которым злое начало («злой бог») борется с Добрым Началом (с «добрым Богом») как бы «на равных»…
Такова, например, манихейская доктрина, которая получила свое название по имени перса Мани, жившего в III в. Согласно этой доктрине, существуют два вечных начала – добро и зло. Они борются друг с другом в душе человека. Когда человек совершает злой поступок, то это – не что иное, как победа злого начала над добрым, а сам человек оказывается как бы ни при чем, Он, так сказать, представляет собой лишь «поле битвы». Таким образом, с человека снимается ответственность за его поступки.
Один из великих учителей христианства Августин Аврелий, живший в IV–V вв. по Р.Х., прежде чем стать осужденным христианином, долгое время был манихеем. Но в конце концов он отошел от этой доктрины, увидев ее ложность именно в том, что она снимает ответственность с человека. В этой связи он пишет, что, когда был манихеем, он «не считал себя грешником, и Ты, Всемомогущий Боже, – обращается он к Богу, – вопреки Твоему всемогуществу, являлся как бы побежденным по мне… Моей гордости нравилось слагать вину с себя на что-то другое», то есть на злое начало.
Единственную твердую религиозную опору в представлениях о добре и зле дает лишь христианское учение, основанное на вере в Бога и абсолютность Его заповедей. Если этой веры нет, то логически неизбежны безнравственность, мнение, что любые нравственные нормы «относительны», то есть то, что представляется добром или злом в одно время и одним людям, вполне Может и не быть таковым в другое время и для других модой. Подобная позиция называется релятивизмом в сфере нравственности, в области морали, в области учений о том, «что такое хорошо, и что такое плохо».
Характерным примером нравственного релятивизма является марксистско-ленинское понимание нравственности, о котором Ленин сказал такие слова: «Для Коммуниста нравственность это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов». Такое понимание нравственности предполагает зыбкий, условный подход к явлениям, которые подлежат нравственной оценке. Поэтому марксисты-ленинцы считают, например, что если заниматься вооруженным грабежом нехорошо (является злом), то «экспроприировать экспроприаторов», то есть «грабить награбленное», особенно если требуются деньги на партийные нужды, – дело хорошее (добро)…
Христиане же считают Божьи заповеди, определяющие что есть добро, а что – зло, абсолютными, твердыми, безусловными. Библия говорит о Божьих заповедях, в частности, такими словами: «И изрек Бог (к Моисею) все слова сии, говоря: … Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради» (Исх. 1,13–15). Эти и другие заповеди тверды и абсолютны.
Добрая, добродетельная жизнь – это жизнь в соответствии с замыслом Бога о мире и человеке, жизнь в соответствии с Его заветами, жизнь, приближающая людей к Богу. Зло же – это все то, что удаляет нас от Бога, прежде всего – наши грехи.
Зло исходит не от Бога, а от сатанинских сил и от человека, употребляющего свободу своей воли во зло. А отнять свободу Бог у нас не может, поскольку она представляет собой Его высший дар своим творениям, наделенным разумом.
Уже упоминавшийся выше Августин Аврелий утверждал, что зло имеет всецело отрицательную природу, Зло – это всего лишь неполнота, несовершенство, недостаточность бытия, отрицание добра, а не какая-нибудь самостоятельная отрицательная сила во вселенной. Августин связывает понятие зла как отрицания добра, отклонение от него, извращение воли творений, связанной с произвольным отпадением сатанинских сил и человека от Бога, – с идеей нравственного беспорядка, нарушения божественной гармонии. Причем зло, в конечном счете, влечет за собой не только страдание того существа, по отношению к которому совершен злой поступок, но и возмездие тому существу, которое совершило злой поступок. Можно сказать, что возмездие, по замыслу Бога, «встроено» в механизм греха: грех содержит в себе самонаказание! Злой поступок, конечном счете, обязательно будет наказан: причиняющий страдания другим и сам будет страдать!
Философ Лейбниц, живший в XVIII в., пришел к выводу, что в мире существуют три вида зла, которые с необходимостью присущи миру, созданному Творцом.
Первый вид он назвал метафизическим злом. В данном случае под злом понимается подверженность тварей страданию, связанная с их конечностью в пространстве и времени, то есть с тем, что они занимают небольшие объемы пространства и живут недолго.
Второй вид зла Лейбниц назвал физическим злом. Мод ним он понимает страдание разумных существ, подвергающихся наказанию как воспитательному мероприятию.
И наконец, третий вид зла – зло в собственном смысле слова – Лейбниц назвал нравственным злом. Под ним он понимает грех, сознательное нарушение Божьих заповедей.
Очень часто атеисты, выражая сомнение в христианском объяснении зла, говорят: ладно, пусть часть происходящего в мире зла объяснима действиями людей и демонов, употребляющих Божий дар свободы их воли во зло. Возможно, бедствия, происходящие с людьми, Могут быть «списаны» на наследуемый людьми первородный грех – «отцы вкусили запретный плод, а у потомком оскомина…».
"Но как вы оправдаете, – обращаются атеисты к христианам, – землетрясения, тайфуны и тому подобные бедствия, в которых гибнут и получают увечья невинные животные? Последние, кстати сказать, не обладают свободой воли, не совершили «первородного греха» – за что же они-то страдают?.. Огромное количество бедствий, происходящих с живыми существами, нельзя подвести ни под один из указанных Лейбницем видов зла, в том числе и под метафизическое зло: разнообразные животные, проживающие в определенной местности, достаточно страдают от своих немощей, связанных с их ограниченностью в пространстве и времени. За что же им посылаются дополнительные бессмысленные страдания и преждевременная, до исчерпания запаса их жизненных сил, гибель в результате, скажем, извержения находящегося поблизости от их местопребывания вулкана? За что?..»
На этот вопрос нужно ответить словами Бога, сказанными Им нашему первопредку Адаму после вкушения последним запретного плода. «…Проклята земля за тебя», – сказал Господь Адаму (Быт. 3:17). Эти слова указывают на то, что наш фундаментальный первородный грех (ибо все мы согрешили во Адаме) послужил началом катастрофической порчи вселенной. И не нужно удивляться, что в такой – пораженной нашим первородным грехом – вселенной возможны и случаются и тайфуны, и извержения вулканов, и многое другое, несущее увечья и гибель… «Вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22) по нашей вине!
ОБ АБСОЛЮТНОСТИ БОЖЬИХ ЗАПОВЕДЕЙ
Твердую опору нашим представлениям о добре и зло дает вера Богу – вера в абсолютность Его заповедей…
Для христианина Бог – это абсолютное Добро, давшее нам абсолютные заповеди. К этим заповедям относятся все заповеди, данные Богом Моисею, – от заповеди, гласящей, что мы должны поклоняться только Ему, до заповеди, которая гласит, что мы ни в коем случае не должны завидовать другим людям, ни в коем случае не должны желать для себя ни жены ближнего, ни его имущества В Ветхом Завете содержатся и другие заповеди. И среди них – важнейшие, а именно две заповеди любви. Первая из них говорит, что мы должны возлюбить Господа, Бога нашего, всем сердцем нашим, всею душою нашею, всем разумением нашим и всею крепостью нашею. А вторая предписывает нам любить ближнего нашего, как самого себя. Эти заповеди были повторены в Евангелии Господа нашего Иисуса Христа.
Божьи заповеди должны быть абсолютны для нас. Они должны быть абсолютными правилами нашего поведения. Они должны быть абсолютными ориентирами для пас в этом мире. Мы не должны подвергать их ни малейшему сомнению. Малейшее сомнение, малейшее колебание в данном случае – уже грех и, как его следствие, возможность погибели души. Ибо грех отделяет Нас от Бога, а отделение от Него – погибель для нас.
Очень поучительна в этой связи история соблазнения Евы змеем-искусителем. Я цитирую: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3:1–7).
Так произошло наше падение. Так мы свершили первородный грех, ибо Адам с Евой, наши прародители, живут в нас…
В какой момент свершился первородный грех? Это не такой простой вопрос, как можно подумать. Во всяком случае он свершился до начала поедания плодов. Он свершился в мысли, в душе, в колебании мысли наших прародителей.
Для внимательного читателя ясно, что история падения первых людей началась с готовности Евы вступить в беседу со змеем. Эта история – история нашего грехопадения – началась с отклика Евы на первый, самый невинный по видимости, но самый важный в деле искушения вопрос змея. История нашего грехопадения началась с готовности Евы «приступить к обсуждению» дьяволова вопроса, который, напоминаю, был сформулирован так: «подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?»
Дьявол действовал как опытный провокатор, а Ева, а затем и Адам поддались на провокацию. Как действуют провокаторы? Как действуют соблазнители и растлители людей? Какой хорошо действующий даже в наше время прием они обычно применяют? С помощью какого приема молодого человека, например, приобщают к наркотикам? Прием этот очень прост – заинтересовать и, так сказать, «взять на слабо». Молодежь очень часто примерно так провоцируют на бунт против родительского авторитета, против авторитета моральных принципов: «Ну что, маменькин сынок, слабо попробовать?». А «коготок увязнет – вся птичка пропадет».
Когда Ева откликнулась на коварный вопрос искуси теля, когда она вступила с искусителем в беседу, она попалась на крючок провокации – «коготок увяз…».
Причем создается впечатление, что она торопливо откликнулась, как бы поспешила навстречу греху. Я вижу след этой торопливости в ее словах «и не прикасайтесь к ним», то есть к плодам этого дерева. На самом же деле в запрете Бога нет этих слов. Он, Господь, ранен» сказал человеку лишь следующее: «от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:16–17). Запрета на прикосновение к плодам в словах Бога нет! В этой связи возникает очень интересный вопрос: почему Ева при писала Богу слова, которые Он не произносил? Здесь мы можем только гадать. Я же склонен видеть в этих произнесенных ею «добавочных» словах проявление тайного желания Евы не только прикоснуться к ним, но и попробовать их на вкус. Возможно даже, что она сама не догадывалась о своем тайном желании, пока дьявол не заговорил с нею – причем повел беседу так, что ее желание из тайного стало явным, а затем и осуществилось.
Итак, Ева откликнулась на коварный вопрос искусителя. Но в чем же коварство вопроса змея, вопроса, который начинается словами «подлинно ли…»? Это коварство заключается в двух буквах, из которых составлена Частица «ли», призванная посеять хаос в головах Евы и Адама. В этом вопросе, в этой частице «ли» содержалась и нова провокации искусителя. Самым первым своим вопросом искуситель хотел заронить в душу Евы зерно сомнения в Боге, и ему это удалось. «Возможно, Бог и мог бы запретить есть плоды с любого дерева, что, конечно, нелепо, так как противоречило бы прежде данному разрешению есть от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Значит, Бог мог бы сотворить нелепость?» – примерно такой сумбур возник, видимо, в голове и сердце нашей праматери после первого вопроса врага Бога и рода человеческого. Примерно такой же сумбур возникает и в нашей голове, и в нашем голове, когда мы грешим, нарушаем заповеди Божьи… Первородный грех уже был свершен в момент возникновения этого сомнения. А поедание плода – это уже не более чем логическое следствие. Действия нашего тела – это лишь последствия действий нашей души. Душа приказывает, тело выполняет!
Так зарождаются сомнения в Боге… Так зарождаются сомнения в абсолютности Божьих заповедей… Так мы грешим!..
Мы грешим, когда наши мысли, сердце и нравственные ориентации двоятся, когда мы начинаем думать примерно так: «А нельзя ли чуть-чуть скорректировать Божью заповедь?». Нет! Нельзя! Нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах! Как сказал апостол Иаков: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иак. 1:8).
Добро и зло резко разграничены. Существует, тем не менее, точка зрения, согласно которой это разграничение не является таким уж резким. Такая позиция популярна среди некоторых философов и даже богословов, так сказать, «либеральных» богословов. Яркое выражение этой позиции содержится в знаменитой (на мой взгляд, незаслуженно знаменитой) поэме Гете «Фауст».
Герой поэмы – Фауст – это разочаровавшийся в жизни и утративший и смысл, ученый, к которому ловко «подворачивается» один из ловцов душ человеческих Мефистофель – черт среднего разряда (не сатана, но и не «мелкий бес»).
– Ты кто? – спрашивает его при первой встрече» Фауст.
На что Мефистофель дает очень характерный ответ:
– Я – часть той силы, что «без числа творит добро, всему желая зла».
Из дальнейшего текста поэмы выясняется, что эти слова не ложны и не являются лишь уловкой, то есть, по мысли автора, зло действительно может творить добро, Существует, так сказать, «доброе зло».
Другие авторы высказывают также мысль, что в дополнение к «доброму злу» существует и «злое добро». И первая мысль о существовании «доброго зла», и вторая – о существовании «злого добра» несомненно ложны с библейской, с христианской точки зрения. Перефразируя слова английского поэта Киплинга, мы можем твердо сказать: «Зло есть зло, добро есть добро – и вместе им не сойтись».







