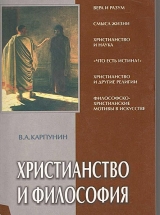
Текст книги "Христианство и Философия"
Автор книги: Валерий Карпунин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НАУКА «ДОКАЗАЛА», ЧТО ДУШИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ?
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля о душе написано так: «Душа – бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею, человек без плоти, бестелесный, по смерти своей; жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела». Однако материалистическая философия утверждает, что наука «доказала» несуществование души. Так ли это? – Посмотрим…
Вряд ли кто-либо сомневается в том, что состояние нашего сознания и – шире – нашей психики зависит от состояния нашей телесной организации и нашего мозга. Грубые, но убедительные свидетельства в пользу этой зависимости дают факты механических повреждений мозговых тканей, например ранения головного мозга. Специально проводимые операции на мозге человека могут оказать существеннейшее влияние на его психические процессы…
Вот что пишется об операциях на лобных долях мозга в одном из современных учебников по психологии: «В 30-е годы была разработана методика, находящая сейчас все меньшее применение. Речь идет о хирургических операциях на головном мозге. Эти операции включают разрушение отдельных участков лобных долей (лоботомия) и перерезку нервных пучков, связывающих их с некоторыми нервными центрами. Было отмечено, что такие операции, проведенные на обезьянах, делают животных более спокойными. У человека лоботомию впервые произвел португальский психиатр Мониз (Moniz), который получил сходные результаты. Не коре, однако, заметили, что наряду со снижением агрессивности у пациента происходит изменение личности, проявляющееся в исчезновении интереса к повседневной жизни и отсутствии эмоций. А ведь восстановить что-либо после такой операции нельзя, и поэтому больные были обречены на бесцветную жизнь автоматов».
Вспомним, как выглядел после лоботомии безнравственный и склонный к преступному поведению, но внешне очень привлекательный Макмерфи, превосходно сыгранный Джеком Николсоном в фильме Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки»…
Кстати, Мониз за свои работы по лоботомии в 1949 г. получил Нобелевскую премию…
Существует много свидетельств, подтверждающих зависимость нашего сознания, состояний нашей психической жизни от состояний нашего мозга. Посмотрим, однако, нет ли противоположных свидетельств, то есть свидетельств в пользу независимости или, по крайней мере, в пользу относительной зависимости нашей психической жизни от состояний мозга. Оказывается, имеются и такие свидетельства…
Далее я привожу обширную выдержку из книги «Свет и тьма». Эту книгу написал наш современник Л. И. Корочкин, доктор медицинских наук, член корреспондент Российской академии наук.
«Об удивительном случае, имевшем место в одной из больниц Москвы, рассказал мне один известный нейрофизиолог. В этой больнице вели наблюдение над пациентом с редким заболеванием (вариантом рассеянного склероза), в ходе которого неумолимо разрушалась нервная ткань. Больной постепенно терял способность к активным движениям – погибали клетки мозга, контролировавшие работу мышц. Мышечные клетки, будучи лишенными функциональной активности, также погибали. Настал момент, когда больного пришлось перевести на искусственное кормление, в результате он в тяжелом уже состоянии прожил более 10 лет. Патологический процесс тем временем распространился и на мышцы лица, но нервы, управлявшие движениями глазных мышц, чудом сохранились – больной мог открывать и закрывать глаза. И на этом было построено общение с ним – можно задавать вопросы и получать ответы, пользуясь заранее обговоренным «кодом», можно, хотя и с трудом, на основе такого общения узнавать, в каком состоянии находится психика больного, его мышление. Жизнь этого человека оборвалась случайно и трагически. Зимой в Москву неожиданно пришли морозы, а нерадивая медсестра забыла утеплить больного, и он скончался от переохлаждения. Скончался в полном сознании, при полной сохранности своих мыслительных способностей Но когда при патологоанатомическом вскрытие извлеки и исследовали мозг, то оказалось, что за исключением некоторых жизненно важных центров… все остальное погибло. И уж во всяком случае не осталось и следа от так называемой второй сигнальной системы, которой материалисты приписывали мыслительные функции. Тем не менее у больного сохранились мыслительные способности, хотя, с материалистической точки зрения, ему нечем было мыслить – ткань головного мозга практически была разрушена».
Вот такие дела! Существуют серьезные факты, свидетельствующие в пользу зависимости состояний психики от состояний мозга. Но существуют также не менее серьезные факты против этой зависимости – факты, которые позволяют подвергнуть утверждение об этой зависимости основательному сомнению. Во всяком случае ясно, что утверждения материалистов, согласно которым «сознание возникает в результате совместных действий множества клеток мозга, так же как пищеварение есть результат совместных действий клеток пищеварительного тракта» (так пишут в одном современном западном учебнике по физиологии мозга), выглядят слишком самоуверенными и безапелляционными. Мы имеем серьезное и вполне научное основание для мнения, что вопрос о возможной самостоятельности психики по отношению к мозгу – вопрос о нашей душе – не так уж бессмыслен, как думают материалисты.
Уже на основе изложенного можно смело утверждать, что материалисты не представили убедительного доказательства несуществования души.
Наиболее убедительным доказательством чего бы то ни было считается логическое доказательство. В частности, если мы хотим доказать, что нечто не существует, то применяем так называемое «доказательство от противного», а именно – показываем, что предположение о существовании этого нечто приводит к логическому противоречию. Ничего подобного в отношении предположения о существовании души никогда не было продемонстрировано, хотя материалисты в течение многих веков (и до сих пор!) предпринимают попытки представить такое доказательство… Систематические провалы этих попыток свидетельствуют в пользу предположения о существовании души…
Современный российский философ В.Н.Тростников справедливо предполагает, что хотя и слабым, но тем не менее заслуживающим внимания доводом против существования человеческой души могло бы стать создание искусственного кибернетического устройства, воспроизводящего какие-либо важные моменты поведения человека. Тогда можно было бы сказать: «Вот видите, мы знаем, что в этом механизме нет души, а чем он отличается от нас?». Таким образом, если бы удалось построить искусственное кибернетическое устройство, хорошо имитирующее деятельность нашего сознания, то у материалистов появился бы более или менее серьезный довод в пользу утверждения о несуществовании души. Но систематические попытки в этом направлении с треском провалились. Отсюда вывод: душа существует.
Ранее я говорил лишь о косвенных свидетельствах в пользу существования души – о свидетельствах «от неудач» материалистов… Но посмотрим, нет ли в нашем распоряжении прямых свидетельств в пользу существования души?..
Достаточно лишь чуть-чуть задуматься, приглядеться к деятельности нашего сознания, и мы легко обнаружим прямые свидетельства в пользу существования нашей души. Их мы получаем изнутри нашего самосознания… Оказывается, здесь и доказывать-то (в смысле построения неких «цепочек рассуждений») нечего!.. Требуется лишь некоторое волевое усилие для избавления от «материалистического гипноза», от навязчивого внушения, что «души нет», и мы увидим очевидное, а именно: мы непосредственно знакомы лишь с нашей душой, а все остальное знание о мире, о нашем теле, о других людях, вещах и т. д. получаем лишь через посредство нематериального центра нашего самосознания, то есть нашей души!
Так что скорее требует доказательства утверждение о существовании материи, чем утверждение о существовании души.
Христиане, кстати, не отрицают существования наряду с духовным и материального мира, ибо как говорит Библия: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1), то есть духовный и материальный миры.
Ну, а как же быть с указанными мною вначале фактами, свидетельствующими в пользу зависимости психики от мозга? Думаю, что они вполне объяснимы с такой позиции: мозговой аппарат является не более чем посредником между нашей душой и вещественным миром. Он связывает нашу душу с этим миром, подобно тому как радиоприемник «связывает» радиоволны с нашим ухом. Радиоприемник не вырабатывает волны, но лишь воспринимает их. Мозг не «производит» сознания, но лишь воспринимает деятельность души. Неисправность приемника сказывается на приеме. «Неисправность» мозга оказывает влияние на психическую жизнь.
И, наконец, остается еще один очень важный «старый» вопрос о душе – вопрос о продолжительности ее существования, то есть бессмертна ли она? Ведь логически не исключен вариант, что душа может существовать и даже переживать смерть тела, но со временем, в свою очередь, скончаться – развеяться, как пар…
В этой связи вспоминаются слова русского писателя Ивана Алексеевича Бунина, который, по воспоминаниям одного из своих современников, категорически отрицал возможность бесконечной загробной жизни. Он утверждал, что «противоречило бы высшей логике, если бы после "минутного" пребывания на этой планете … предстояли мириады лет какого-то непонятного, не-расшифруемого существования, поскольку ничего не было до рождения. Раз есть начало, значит, должен быть и конец».
Звучит на первый взгляд впечатляюще… Бунин был одним из лучших мастеров слова в русской литературе… Но изрек он в данном случае лишь красивую ложь. Поскольку принцип, выраженный Буниным словами «раз есть начало, значит, должен быть и конец», можно легко опровергнуть.
Этот принцип легко опровергается элементарным арифметическим фактом, предельно ясно демонстрирующим, что этот принцип выполняется далеко не во всех случаях. Таким контрпримером (фактом) является бесконечный, то есть не имеющий конца, ряд натуральных целых чисел: 1,2,3…
Ясно, что мы можем сколь угодно продолжать этот ряд: начало у него есть, а конца нет!
Так что насчет «высшей логики» Иван Алексеевич был неправ.
Другими словами, существует логическая возможность бессмертия души!.. А раз так, то мы имеем право верить в ее бессмертие!..
БЕССМЕРТИЕ ДУШИ
В одной из радиопередач я постарался обосновать мнение, что бессмертие нашей души логически не исключено, то есть вполне возможно. Но христиане веруют в нечто более «сильное», а именно: они убеждены в том, что наша душа бессмертна. Превосходное, на мой взгляд, обоснование этого убеждения содержится в одной из статей «Дневника писателя за 1876 год» Федора Михайловича Достоевского. Статья эта называется «Приговор». В ней обоснование бессмертия нашей души дается, так сказать, «от противного» – через опровержение рассуждении воображаемого самоубийцы-материалиста, убежденного, что мы умираем «насовсем», следовательно, жить вообще не стоит, а нужно покончить жизнь самоубийством …
Достоевский убежден, что человек не может быть счастлив под условием грозящего завтра нуля, то есть смерти. Более того, жизнь для нас выносима лишь в том случае, если у нас остается хотя бы малейшая надежда на бессмертие души, одна лишь возможность которого уже придает жизни смысл. Утрата именно этой надежды приводит героя Достоевского к «естественному логическому выводу» – самоубийству.
Далее я привожу большую выдержку из Достоевского. Он пишет:
«Вот одно рассуждение одного самоубийцы от скуки, разумеется, материалиста…
и…Какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу сознал: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть страдающего, но я не хочу страдать – ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий…»
Небольшой комментарий: Достоевский в данном случае имеет в виду то, что обычно называется физико-телеологическим доказательством бытия Божия. Суть этого доказательства состоит в следующем: целесообразность, то есть гармоническая «взаимоподогнанность» вещей и обстоятельств, наличествующая в мире, свидетельствует в пользу существования Организатора этой целесообразности – в пользу существования Бога.
Герой Достоевского продолжает:
«…Природа говорит мне, что я, – хоть и знаю вполне, что в "гармонии целого" участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, – но что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь… Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания…. Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество – обратимся в ничто, в прежний хаос. … Я не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это – чувство, это непосредственное чувство и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна и человечеству срок – такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, – все это тоже приравнивается завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное, и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого…»
Завершается «обвинительная» по своему характеру речь героя, а вместе с ней и статья Достоевского, вынесением «приговора»:
«Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе, как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах -
Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе – и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить -
Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) меня же самого, и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе) -
Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупой, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унизительным -
То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание – вместе со мною на уничтожение… А так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».
Так завершается статья «Приговор».
Сам Достоевский прокомментировал ее содержание такими словами: «Статья моя "Приговор" касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия – необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего "от логического самоубийства" человека – это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо». Нравоучение своей статьи он выражает такими словами: «Если убеждение в бессмертий так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно».
На мой взгляд, рассуждение Достоевского безукоризненно. Но я, дополняя его, сделал бы еще один вывод, а именно: если люди продолжают жить, значит, они – в той или иной степени – надеются на бессмертие. О бессмертии иногда говорят даже материалисты, понимая под ним «память» о людях и делах их, сохраняемую потомками. Ясно, что с подлинным бессмертием такая трактовка не имеет ничего общего. Нет, не на материалистически понимаемое бессмертие надеются люди, продолжающие жить и не считающие свою жизнь бессмысленной. Они надеются на подлинное бессмертие – бессмертие души. Не всегда эта надежда полностью, сознательно понимается ими. Часто она в той или иной степени неосознаваема – теплится, так сказать, на «дне души». Но она – эта надежда – несомненно, существует. Наша душа непосредственно, без доказательств, знает, что она бессмертна. Ей не нужны доказательства самоочевидного для нее.
С христианской точки зрения, смерть нашего тела – это кара, постигшая человечество за грех, совершенный нашими предками Адамом и Евой: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Но смерть побеждена Иисусом Христом: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» – восклицает апостол Павел (1 Кор. 15:55). «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Иисусе Христе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Вера в воскресение Христа, знаменующее собой Его победу над смертью и гарантирующее возможность нашего спасения от греха и его последствия – смерти, – основа христианства. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», – говорит апостол Павел (1 Кор. 15:14).
Христианство учит, что человек имеет не только смертное тело, но и бессмертную душу. По смерти тела душа отделяется от него и попадает в новые условия, продолжая жить сознательной жизнью. При этом «дела наши идут за нами» – свершенное нами во время нашей земной жизни будет иметь посмертные последствия для нашей души. Страшный и окончательный выбор – спасти свою душу (то есть идти после смерти к добру, к Богу, в рай…) или погубить ее (то есть пойти ко злу, в ад…) – мы совершаем здесь и сейчас, в нашей земной жизни, в каждый ее момент. Возлюбившие зло, а не добро, сами уготовали себе вечные мучения в жизни вечной. Это их выбор!
Итак: начатое здесь будет продолжено там. Нас ждут ответственность и возмездие за совершенное во время земной жизни. Однако стать на правильную дорогу – покаяться в грехах и получить прощение от Бога, никогда не поздно. Об этом говорит евангельское повествование о разбойнике, распятом рядом со Христом: искреннее покаяние непосредственно перед самой смертью спасло его душу – принесло ему прощение грехов и вечную жизнь со Христом в раю. Но медлить с покаянием нельзя, времени на него может и не остаться! Кроме того, оттягивая покаяние, мы все глубже погружаемся в трясину грехов, из которой нам все труднее будет выбираться. Нельзя медлить!
«ПЕЧАТЬ» ПЕРВОРОДНОГО ГРЕХА
Очень часто атеисты (те, кто отрицает существование Бога) и агностики (те, кто считает, что мы в принципе ничего не можем ни утверждать, ни отрицать относительно Бога) говорят, что существеннейшим отличием научных теорий от христианского вероучения является то, что научные доктрины проверяемы опытом, а важнейшие библейские истины, например творение мира Богом, грехопадение первых людей, воскресение Иисуса Христа, не подлежат научной, опытной проверке. Впрочем, иногда они склонны делать исключение, но лишь относительно некоторых исторических фактов, которые получили свое отражение в Библии. Например, они вполне могут сказать, что Содом и Гоморра действительно существовали и были разрушены «природным» катаклизмом, потому что на дне Мертвого моря были обнаружены развалины этих городов. Но ни атеисты, ни агностики ни в коем случае не согласятся с тем, что причиной их разрушения был гнев Божий, который покарал жителей Содома и Гоморры за их преступное развратное поведение. Они могут даже согласиться с тем, что, скорее всего, существовал человек Иисус, но Он никак не мог воскреснуть, ибо воскресение невозможно с точки зрения науки. Мнение о том, что Иисус воскрес, с их точки зрения, – не более чем миф.
Библейская доктрина первородного греха, основанная на повествовании Библии о грехопадении первых людей, – тоже не более чем миф, который невозможно проверить научно. На этом примере я постараюсь доказать, что некоторые из важнейших христианских доктрин вполне могут быть проверены научными методами.
Как проверяются научные теории? Какими методами ученые устанавливают, что та или иная теория применима к реальной действительности? Обычно они это делают путем логического выведения из рассматриваемой теории тех или иных фактов реальной действительности. Этот путь называется объяснением и предсказанием фактов действительности.
В случае объяснения мы логически выводим из рассматриваемой (проверяемой) теории уже известные факты. А в случае предсказания мы выводим еще неизвестные факты. Если теория выдерживает подобную проверку, то ученые говорят, что данная теория отображает реальную действительность, то есть излагает некоторую истину о мире. Так, например, классическая механика Ньютона, которую все мы изучали в школе, считается проверенной (то есть истинной) научной теорией, поскольку она хорошо объясняет и предсказывает видимые движения тел в окружающем нас мире, с ее помощью мы можем с большой степенью точности вычислять изменения местоположений тел в пространстве с течением времени.
Общая логическая схема объяснений и предсказаний, на основе которой мы признаем, что та или иная теория действительно истинна, такова: мы предполагаем, что данная теория отображает действительность. В этом случае из нее должны логически следовать определенные факты. Далее мы ставим какие-то эксперименты, осуществляем те или иные наблюдения. В результате убеждаемся в том, что из проверяемой теории следуют уже известные факты, или в том, что из нее следуют доселе неизвестные факты. Затем делаем вывод, что наша теория успешно прошла опытную проверку, то есть ее претензии на истинность вполне обоснованы.
Таким же образом обстоит дело с библейской доктриной первородного греха. Это утверждение говорит нам, что человек, который в прошлом добровольно отпал от Бога, должен обнаруживать в своей жизни постоянную и едва ли преодолимую собственными силами (то есть без помощи Божьей благодати) тягу ко греху. И это действительно так. Все мы, говоря несколько архаичным стилем, удобосклонны ко греху. Другими словами, если верна библейская доктрина первородного греха, то все мы должны быть удобосклонны ко греху; но все мы, действительно, удобосклонны ко греху; следовательно, библейская доктрина первородного греха подтверждается на опыте!
Все мы удобосклонны ко греху в нашем прошлом, в настоящем и, к сожалению, в будущем, вплоть до нашего смертного часа. И сугубо собственными силами, то есть без помощи Божьей благодати, нам не выбраться из засасывающей нас трясины греха!
Мы буквально каждодневно убеждаемся в справедливости доктрины первородного греха. Лишь люди, ослепленные грехом, могут этого не видеть! Сама эта ослепленность, на мой взгляд, является подтверждением доктрины первородного греха!
Опытное подтверждение доктрины первородного греха, на мой взгляд, не менее надежно и убедительно, чем подтверждение любой фундаментальной физической теории – механики ли Ньютона или релятивистской механики, то есть теории относительности Эйнштейна.
Ярчайшее подтверждение тому находим в признаниях апостола Павла, который в Послании к римлянам слезно сокрушается о конфликте между своим духом и плотью: «…не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих (Рим. 7:15–24).
Я убежден, что все сказанное апостолом есть истина от первого и до последнего слова. Подозреваю, что не только я, но и вы, дорогие читатели, обнаружите свою удобосклонность ко греху, по меньшей мере ко греху в своих мыслях и замыслах, то есть удобосклонность, по крайней мере, к мысленному греху. Наша душа несет на себе четко выраженный оттиск печати первородного греха – греха наших прародителей, то есть нами же в нашем прошлом совершенного греха, ибо все мы согрешили во Адаме и Еве.







