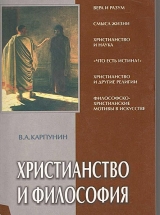
Текст книги "Христианство и Философия"
Автор книги: Валерий Карпунин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
КОГДА НАМ СТАНОВИТСЯ ВЫГОДНО НЕ ВЕРИТЬ В БОГА?
Митрополит русской православной церкви Антоний Сурожский в одной из своих бесед рассказал очень поучительную историю, которая хорошо мне запомнилась.
Однажды встречает Антоний, будущий митрополит, а тогда еще священник, своего старого знакомого, молодого мужчину, которого он знал еще ребенком, росшим в очень добропорядочной православной семье. Этот мальчик верил в Бога, как его учили в семье и школе. Причем не просто верил, а отличался несколько демонстративной, в какой-то степени показной, набожностью и благочинностью в поведении. Замечу, что дело происходило в дореволюционной России, когда школьные учителя еще не боролись с Богом.
Итак, они встретились и разговорились. В ходе беседы этот человек между прочим сказал Антонию, что он уже давно утратил веру в Бога. Антоний не стал заострять внимание на этом факте, а перед расставанием, тоже как бы между прочим посоветовал ему вспомнить, что явилось непосредственным толчком к утрате веры. Собеседник ответил, что он вряд ли сможет вспомнить это начальное событие, поскольку эта утрата происходила постепенно и незаметно, как бы «сама собой» и в продолжение длительного времени. Вполне возможно, что этого «начального» события, которое знаменовало начало его отхода от Бога, вовсе и не было.
«А ты все-таки попробуй вспомнить, – попросил его Антоний, – когда тебе стало выгодно не верить в Бога». Тот пожал плечами – мол, дело безнадежное, но «для приличия», «из вежливости» обещал все-таки попробовать вспомнить. На том и расстались.
Прошло много времени, и они вновь встретились. И Антоний с первого же взгляда увидел важную перемену, произошедшую в этом человеке. А прошлую их встречу он беседовал, хотя и с молодым, но «разочаровавшимся» в жизни, людях и Боге человеком, «без искры» в душе и в глазах, опустошенным и преждевременно душевно постаревшим. Теперь же перед ним стоял совершенно иной человек – собранный, с живым взором и, хотя прошло уже несколько лет, он буквально помолодел, и это отражалось в его внешнем облике.
«Что с тобой произошло?» – спросил Антоний.
«Я опять обрел веру в Бога», – ответил он.
«Как это случилось?» – задал вопрос священник.
И человек рассказал: «Помнишь, ты посоветовал мне попробовать вспомнить, когда мне стало выгодно не верить в Бога. Я и не думал сначала, что меня так заденет этот твой совет. Но совершенно неожиданно я стал все чаще вспоминать его, стал думать, «прокручивать» в памяти свою жизнь, стал искать ответ на вопрос: какое же событие в прошлом явилось толчком к утрате моей детской веры? И я вспомнил это значимое тогда для меня событие, которое впоследствии я забыл…»
И дальше этот человек поведал, что когда он был маленьким мальчиком, то верил в Бога, как его учили взрослые. И без рассуждений доверял тому, что они говорили. Он старался соблюдать все православные церковные обряды, ему очень нравилось, когда его хвалили за образцовое поведение и называли «образцовым верующим мальчиком». Образцовость во внешних проявлениях поощрялась, и он стремился этому соответствовать. По воскресеньям они всей семьей ходили на службу в церковь. Перед церковью всегда сидели, собирая подаяние нищие, и среди них – один слепой, которому мальчик всегда клал в чашку для подаяний копеечку, выданную для этой цели родителями. В этот момент мальчик всегда мысленно любовался собою, смотрел на себя глазами окружающих людей и умилялся, какой он хорошенький, умытый, чисто одетый верующий мальчик, и как хорошо он проявляет христианское милосердие к несчастному человеку! В походах в церковь именно этот момент нравился ему больше всего, поскольку тогда он ощущал себя в центре всеобщего внимания, во всяком случае ему казалось, что он заслуживает восхищения, и что им действительно восхищаются. Так продолжалось довольно долго. Родители любили его, были довольны его поведением, дарили игрушки…
Мальчик рос и, наконец, вошел в такой возраст, когда ему захотелось иметь велосипед. В то время велосипеды стоили дорого, а его родители, хотя и не были достаточно богаты, чтобы сразу купить велосипед, сказали: «Что ж, начинай копить деньги. Для этого мы тебе будем давать копейки каждую неделю. Складывай их в копилку. Постепенно накопишь нужную сумму». И он стал копить. Чем больше накапливалась сумма, тем более страстно ему хотелось получить желанную вещь. Он вынул деньги из копилки и пересчитал их: оставалось набрать совсем немного. «Где же поскорее взять недостающие деньги?..» – мучительно раздумывал мальчик и придумал. В воскресенье вместо того, чтобы положить очередную копеечку в чашку нищего, он лишь сделал вид, что кладет, а придя домой, положил ее в свою копилку. И наконец, осталось накопить совсем чуть-чуть – буквально несколько копеек! Желание во что бы то ни стало получить велосипед стало нестерпимым! И в следующее воскресенье он не только не положил копеечку в чашку слепого, но незаметно взял у нищего недостающие копейки, он обокрал слепого нищего и купил велосипед.
После того как это произошло, некоторое время его мучила совесть: а ведь Бог-то накажет за воровство! Но время шло, Бог не торопился с наказанием, и совесть мучила все меньше и меньше… Вместе с тем начала убывать его детская вера. Ко времени отрочества он уже полностью утратил веру в Бога и совершенно забыл о своем воровстве. Вором-«профессионалом» он, к счастью, не стал, но он стал неверующим.
О своем проступке он не вспоминал до тех пор, пока Антоний не посоветовал ему вспомнить, когда ему стало выгодно не верить в Бога. И когда он вспомнил, при каких обстоятельствах начался его отход от Бога, он покаялся и вернулся к Богу, вновь обрел веру. Но эта уже была не детская, наивная вера, это была сознательная вера взрослого человека. Он ясно понял, что его неверие было не чем иным, как ложной и губительной для его души «самозащитой» от укоров совести, которые указывали на его грех и на необходимость исповедования и изживания этого греха.
Подобные укоры, хотя и мучительны, но справедливы и, в конечном счете, целительны. «Если Бога нет, то все позволено», – говорил Достоевский. Другими словами, если Бога нет, то как бы нет и греха. И мы с «чистой» совестью можем грешить, можем жить спокойной грешной жизнью, ибо нет Бога, нет ни прижизненного, ни посмертного воздаяния за грех. А смерть – это не более чем прекращение жизни, переход в «ничто», в небытие. «Умрешь – трава вырастет» – так говорил старый казак-охотник Брошка, один из героев повести Льва Толстого «Казаки». Живи, пока живется, и не думай ни о каком воздаянии за грех – такова глубинная мотивировка неверия, атеизма. Атеистам «выгодно» не верить в Бога, потому что вера предполагает ответственную, нравственную жизнь. А для человека слабого, грешного, не желающего признаться в своей слабости и В своих грехах, не желающего искренне, с глубоким сердечным сокрушением, покаяться перед Богом в своей греховной слабости, в результате покаяния обрести силу благодати, которую дает нам Бог для успешной борьбы со своей греховностью, для такого человека признание реального существования Бога мучительно, оно жжет его грешную душу! Поэтому все якобы научные доводы атеистов против существования Бога – это не более чем оправдание ими своей грешной жизни. Не «умом» своим атеисты «доказывают», что Бога нет, тем более, что «доказать» несуществование Бога невозможно. Нет, в сердце своем атеисты отворачиваются от Бога: «Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, совершили гнусные дела…» (Пс. 13:1).
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ФИЛОСОФСКОЙ ИСТИНЫ И АБСОЛЮТНОСТЬ ИСТИНЫ ХРИСТИАНСКОЙ
Каждый христианин знает, что философские истины, размышления и теории ни в коей мере не могут заменить истины христианской, ибо истины, которые открывает нам философия, относительны, а истина, которая открыта нам Богом (Иисусом Христом), абсолютна. В этой связи вспоминается известный анекдот о герое восточных легенд Ходже Насреддине.
Как-то пришел к нему сосед, который поссорился с другим соседом, и рассказал, как было дело. Ходжа внимательно выслушал и говорит: «Ты прав». Сосед ушел обрадованный. Вскоре пришел другой сосед и поведал о той же ссоре, но со своей позиции. Ходжа опять внимательно выслушал и сказал: «Ты прав». И тот ушел обрадованный. А жена Ходжи, по восточному обычаю, все это время была за занавеской и все слышала. Когда ушел второй сосед, она вышла и воскликнула: «Ходжа! Как ты мог каждому из них сказать, что он прав, если они утверждали прямо противоположное!?» Умная женщина намекнула супругу, что он нарушил закон логики, который запрещает противоречие. «И ты, жена, права», – ответил ей, немного подумав, мудрый Ходжа.
Если под поссорившимися соседями понимать представителей различных философских направлений – ориентации, школ и т. п., то я вполне солидарен с Ходжой: каждый философ прав по-своему, каждый выражает свою правду, которую он извлекает из глубины своего сердца. Например, для безумца, который сказал в глубине своего сердца, что «Бога нет», действительно, Бог не существует. Для разумного же человека, который в глубине своего сердца принял Бога, Бог, несомненно, существует. Каждый из них, и безумец, и разумный человек, прав по-своему.
Об относительной правоте, или об относительности правоты каждого человека еще в V в. до Р.Х. говорил греческий философ Протагор: «Человек есть мера всех вещей – существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют». Да, каждый из нас по-своему прав относительно тех принципов, которые каждый из нас выбирает в глубине своего сердца. Можно сказать и по-другому: каждый из нас прав настолько, насколько он логичен, насколько он следует правилам логики при разработке исходных интуиции и принципов, которые он принимает на веру.
Но отсюда еще не следует, что все философы изрекают истину, ибо далеко не все они выбирают в качестве исходных пунктов истину. Есть такие мыслители, которые философствуют, исходя из ложных принципов. Я думаю, однако, что при некотором усилии мысли и духа, а также при наличии некоторых интеллектуальных способностей вполне возможно встать выше относительной правоты спорящих сторон и в той или иной степени выяснить, на чьей стороне истина. Иначе говоря, всегда существует высшая точка зрения, с которой мы можем понять относительность правоты спорящих персонажей в ситуациях, которые подобны анекдоту о Ходже Насреддине, или в истории философской мысли. Всегда существует высшая истина, которая позволяет нам оценивать пи относительную правоту, относительные истины.
Попробую пояснить на примере, что я имею в виду, Когда говорю об относительных истинах. Зададимся, скажем, таким вопросом: какой цвет имеет трава, когда на нее никто не смотрит? Предположим, что я смотрю на свежую траву в мае и говорю: «Трава имеет зеленый цвет», или короче: «Трава зелена». Итак, сформулировано утверждение: «Трава зелена». Является ли это утверждение истинным или ложным? Я думаю, что для большинства нормально видящих людей, не дальтоников – трава, действительно, имеет зеленый цвет. Поэтому большинство людей на вопрос о цвете травы скажет, что она зелена, и будут правы, то есть скажут истину.
Но попробуем задуматься вот над чем: что означает зелень травы? Что мы фиксируем, когда мы говорим, что трава зелена? Ответ напрашивается сам собой: когда мы говорим, что трава зелена, мы имеем в виду, во-первых, наше восприятие цвета травы, а во-вторых, то, что трава сама по себе (как она существует вне нашего восприятия) также имеет зеленый цвет. Казалось бы, все просто и ясно. Но подумаем еще чуть-чуть: действительно ли в данном случае все так просто и ясно, как это нам представляется на первый взгляд? Вспомним, что такое цвет, с точки зрения физики. Физика говорит, что цвет – это не что иное, как свойство света (скажем, солнечного) вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн вызывает разные цветовые ощущения: фиолетовое, синее, голубое, зеленое, желтое, оранжевое, красное.
Вспомним, как нас учили в школе: зелень травы – это не более чем свойство ее поверхности отражать световые волны определенной длины. Эти отраженные волны вступают в контакт с нашими глазами. И венец этого сложного процесса – наше ощущение зелени травы.
Понятно, что, с точки зрения физики, зелень травы – это не характеристика травы в том виде, к котором она существует сама по себе, независимо от нас, а характеристика нашего ощущения, которое возникает в результате взаимодействия нашего органа зрения с волнами определенной длины. Причем эти волны отражаются от поверхности травы, то есть не являются собственной характеристикой травы. Получается, что цвет травы– это исключительно субъективное впечатление от нашего контакта с травой через посредство лучей света. Таким образом, с точки зрения физики, если на траву никто не смотрит, она вообще не имеет цвета.
Утверждение, что трава зелена – это неплохой пример относительной истины, истины, соотносимой с нами, с нашими органами восприятия, истины, которая утверждает нечто не только (или даже не столько) о мире, сколько о нас самих. Философские истины очень похожи по своей относительности на истину о зеленом цвете травы.
Философ за истину принимает то, к чему склонно его сердце. А сердце его далеко не всегда склонно к той или иной подлинной истине. Оно вполне может склониться и ко лжи. Философские истины, в лучшем случае, – это не более чем предвосхищения в большей или меньшей степени истины христианства. Например, отдельные моменты христианской истины были предвосхищены великими древнегреческими философами Сократом и Платоном, которых христиане первых веков часто называли «христианами до Христа».
Но зададимся вопросом, почему подобное предвосхищение оказалось возможным? Конечно же не потому, что Сократ и Платон были настолько умны, что самостоятельно «догадались» о том, о чем примерно через 100 лет возвестил Иисус, а потому, что какие-то моменты христианской истины были «записаны» в их сердце до явления Иисуса Христа в человеческой истории, до Его славного и спасительного для нас Рождества.
В отличие от относительных философских истин, истина, которую Своею жизнью возвестил нам Иисус Христос, является безотносительной, то есть абсолютной. И мы, конечно же, должны ориентироваться прежде всего на Иисуса, а не на относительные истины философских теорий.
ФИЛОСОФИЯ КАК СУМАСШЕДШИЙ ДОМ…
«Какую можно высказать еще нелепость, которая уже не была бы высказана кем-нибудь из философов!» – так в сердцах воскликнул в I в. до P. X. римский оратор и государственный деятель, к тому же неплохой философ, Марк Туллий Цицерон. Воистину он прав! Нет такой глупости и дикости, под которую не была бы подведена та или иная философская теория. Более того, нет такой безумной мысли или теории (в прямом смысле слова безумной!), которую не высказала бы та или иная философская доктрина.
– Итак, о безумных… доктринах, мыслях, утверждениях. Что может быть безумнее мысли, согласно которой «кроме меня ничего в мире не существует». Если подобная мысль всерьез и надолго овладевает «обычным» человеком, то психиатры обратят на этого человека серьезное внимание, поскольку мысль о нереальности внешнего мира, мягко говоря, является довольно-таки странной. В философии же издавна существует вполне «почтенная» теория, в основу которой положена именно эта мысль. Такая теория называется солипсизмом. Слово «солипсизм» происходит от двух латинских слов solus – единственный и ipse – я сам.
Этой доктриной в отрочестве увлекался Лев Толстой. Вот как он описывает свою увлеченность, называя сию теорию скептицизмом: «ни одним из философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я па них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас исчезают».
Признаюсь, что и я лет в 15–16 переживал нечто подобное тому, что описал Лев Толстой. Видимо, время перехода от отрочества в юность благоприятно для появления подобных иллюзий. Время от времени иллюзия нереальности внешнего мира может овладевать нами и во взрослом возрасте, особенно на фоне усталости, нервных напряжений и срывов. Но если подобные иллюзии овладевают нами не надолго, то ничего страшного нет. Гораздо хуже, если мнение о нереальности мира становится нашим глубоким убеждением. А именно подобное убеждение исповедуют и обосновывают некоторые философы.
Солипсистская идея – это далеко не единственная безумная идея философов. На мой взгляд, не менее безумна, например, материалистическая идея, согласно которой мир в целом представляет собой «самодвижущуюся материю». Последовательный материалист вынужден утверждать, что ни сознания, ни души в действительности нет. Они лишь «кажутся» существующими, но не существуют на самом деле.
Итак, один философский безумец – солипсист – утверждает, что внешнего мира на самом деле нет, а есть только он сам, его сознание. А другой философствующий безумец – материалист – утверждает нечто прямо противоположенное: материальный мир есть, а его самого (то есть человека) нет, поскольку нет его нематериального сознания, нет его души. И обе эти позиции, издавна существуют в философии и считаются специалистами философами вполне респектабельными.
Могут ли солипсист и материалист договориться друг с другом? Конечно же, нет! В этой связи мне припоминается забавный эксперимент…
Как-то в одной из американских лечебниц для душевнобольных психиатры поставили опыт. Целью этого опыта было выяснение того, насколько душевнобольные сохраняют способность к спонтанному, то есть непроизвольному, общению друг с другом, насколько они способны к взаимопониманию, насколько каждый из них способен действительно понять, о чем говорит его собеседник, и обсуждать именно то, о чем он говорит. Для опыта собрали за чаем ранее не знакомых друг с другом пациентов из разных палат и отделений. (Разумеется, были собраны лишь те больные, которые были приведены в нормальное психическое состояние). Медицинский персонал удалился, а за «чаепитием» было организовано скрытое наблюдение. Сначала преобладала естественная сдержанность: люди приглядывались друг к другу, как и все мы приглядываемся друг к другу, прежде чем вступить в беседу. Приглядевшись, пациенты начали «разговаривать» друг с другом, общение постепенно наладилось, образовались небольшие группки «собеседников». О том, что люди начали действительно общаться друг с другом, можно было заключить, наблюдая за их внешним поведением, – они говорили по очереди, не галдели, не перебивали друг друга. Но прослушивание их разговоров ясно показало, что никакой беседы, взаимопонимания и общения так и не возникло, ибо каждый говорил исключительно о своем – люди совершенно не соприкасались ни интеллектуально, ни эмоционально, ни, тем более, духовно.
Часто разговоры, в том числе и философские споры и дискуссии, напоминают картинку из сумасшедшего дома. «Философское самозамыкание» теории на самой себе – очень напоминает замыкание на самом себе мелкого чиновника Поприщина – героя «Записок сумасшедшего» Н.В.Гоголя. Его самозамыкание, как мы помним, привело его к мнению, что он является королем испанским. Примерно такими же «королями испанскими» являются многие философы.
Как же быть? Как «вылечиться»? Существует ли психотерапия, которая поможет нам выйти из философского сумасшедшего дома, если мы – не дай Бог! – чуда попадем? Несомненно, такой выход есть! Этим выходом является решительный отказ от философского самозамыкания, решительный выход из пределов бесплодного и безблагодатного философского умствования, выход из границ самозамкнутости в рамках безумных философских теорий. И куда же мы должны выйти? Мы должны выйти в полноту реальности, обратиться к высшей Полноте Реальности, которой является, конечно же, Бог.
ФИЛОСОФИЯ: СЛОВО И ДЕЛО…
В одном из предыдущих очерков я писал о том, что философия напоминает сумасшедший дом, однако нельзя утверждать, что вся мировая философия – это не более чем сборник безумных идей. Да, в ней есть безумные теории, но есть и много разумного, хорошего, поучительного и вечного, как и в человеческой жизни, в которой есть и разум, но есть, конечно, и безумие. Философия – это не что иное, как выражение сути и смысла жизни в понятиях.
Давайте подумаем: что для нас важнее – жить или философствовать, то есть «разговаривать» о жизни? Может быть, философствованию, то есть разговорам о мире и о жизни, всегда, или как правило, нужно предпочитать конкретные дела? Часто говорят: «Кто умеет делать дело, тот делает его, а кто не умеет, тот разговаривает о деле». Действительно, на свете немало людей, которые слова предпочитают делам. Их дела обычно ограничиваются тем, что они собираются сделать какое-нибудь важное дело, и долго обсуждают, как они будут это делать. Часто в таких обсуждениях незаметно проходит жизнь, дело так и не делается. Классическими литературными примерами таких «дельцов» являются: Подколесин из «Женитьбы» Гоголя, Манилов из его же «Мертвых душ», главный герой – Мечтатель – из «Белых ночей» Достоевского, а также Обломов из одноименного романа Гончарова. Должен признаться, что и среди моих собратьев по профессии, профессиональных философов, преподавателей философии – таких «дельцов» немало, может быть, даже больше, чем среди представителей иных видов интеллектуальной деятельности. Но все ли философы таковы? И является ли боязнь конкретного дела, так сказать, одним из «видробразующих» признаков философа как такового? Конечно же, нет! Для подлинного философа ответственное слово – это и есть его дело, которое к тому же имеет общечеловеческую важность, ценность и значение. Конечно, сразу вспоминаются великие философы – Сократ, Платон, Аристотель, Паскаль и другие. Умами, сердцами, устами и речами этих мудрецов человечество достигало самопонимания. А понять себя, уяснить свое место в мире и осмыслить свои взаимоотношения с миром – это очень важное, даже жизненно важное, дело. Во всяком случае, я так думаю.
Я упомянул великих мыслителей – мудрецов. Но и «обычные» мыслители далеко не всегда представляют собой лишь безответственных болтунов на философские темы. Естественно, возникает вопрос: при каких условиях, обстоятельствах и на каких основаниях философ имеет моральное право на благожелательный интерес со стороны внимающих ему людей? Думаю, что единственным критерием качественности философствования, единственным серьезным основанием для того, чтобы пробудить людской интерес к тому или иному философствованию, является извлечение содержания философствования из глубины сердца философа. Если философ извлекает содержание своих рассуждений из глубины своего сердца, если в его рассуждениях выражается, как у нас говорили в старину, «сокровенный сердца человек», то его рассуждения вполне оправданны, их вполне можно приравнять к делам, скажем, мостостроителя, который соединяет своим сооружением берега широкой реки. Соорудить мост, то есть создать прочную связь между противоположными берегами реки, – это очень хорошее дело. Но и высказать нечто важное, правильное и истинное о человеке – о том, «кто он, откуда он и куда он идет», – дело не менее хорошее и вполне сопоставимое со строительством мостов, ибо хорошие философы способствуют соединению душ людей – сооружают мосты, устанавливают прочные связи между нашими душами.
Я убежден, что люди похожи душами друг на друга. Более того, мы родственны друг с другом нашими душами. Но очень часто мы либо забываем, либо не догадываемся об этом, и поэтому думаем, что наши тревоги и печали, страдания и сомнения уникальны, единственные. Поэтому часто мы печалимся и страдаем в одиночестве – нам «и скучно, и грустно, и некому руку подать». Но если мне удалось высказать нечто важное о глубине моей души, моих страданий и печалей, моих радостей и восторгов, то тем самым, вполне возможно, что Мне удалось высказать и нечто важное также и о глубине вашей души.
В глубинах наших душ мы – все люди – сходимся и объединяемся друг с другом, что и неудивительно, ибо нее мы произошли от одного общего предка, и все мы едины в Адаме. Вы услышали меня и поняли, что другой Человек в чем-то очень важном похож на вас, родственен вам. И вот вам уже не так одиноко, мост взаимопонимания и взаимоучастия построен.
Но подобным «наведением мостов» между душами людей занимается художественная литература. Не является ли дело философии «дублированием» дела литературы? Если есть хорошая литература, то, может быть, можно обойтись без философии? Я бы ответил на эти вопросы так. Хорошая художественная литература отвечает на достаточно глубокие вопросы человеческого духа о самом себе. Но художественная литература отвечает на глубинные вопросы нашего духа о самом себе лишь в той степени, в какой она берет на себя задачу философии – является, так сказать, философичной. Я склонен проводить грань между философией и собственно литературой даже внутри литературного произведения.







