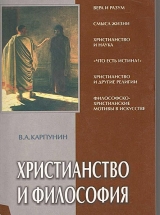
Текст книги "Христианство и Философия"
Автор книги: Валерий Карпунин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
БЛЕЗ ПАСКАЛЬ
Есть старинная восточная притча, которую в своем произведении «Исповедь» Лев Толстой изложил такими словами: «Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи разъяренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскакивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от разъяренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелинах колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет отдаться погибели, с обеих сторон ждущей его; но он все держится, и пока он держится, он оглядывается и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обломится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их».
Эта притча про нашу обыденную жизнь, про людей, которые еще не обрели подлинного смысла своей жизни, не обрели Бога и радостной перспективы жизни в Боге.
Таким людям финал их жизни, конечно же, должен представляться в высшей степени жутким. Две мыши – белая и черная – это день и ночь, то есть сутки. Две мыши работают, они работают неустанно… Конечный, ограниченный отрезок времени, который нам суждено прожить в этом мире, неуклонно сокращается. Вода жизни вытекает по капле, и чуть раньше или чуть позже сосуд жизни опустеет, и мы умрем. Большинство людей ведет себя подобно путнику из притчи – тешат себя каплями меда призрачных удовольствий этого преходящего мира. Люди придумывают самые разнообразные «обманки» и «заглушки», с помощью которых они более или менее успешно отвлекают свой взор от лицезрения жуткой, но и самой важной правды о том, что все мы чуть раньше или чуть позже умрем.
Но не все люди ведут себя подобно путнику из притчи и закрывают глаза на основную правду жизни – любой физический объект рано или поздно разрушится. Не все паникуют перед неизбежностью смерти. Такими бесстрашными перед лицом смерти людьми являются подлинные христиане. Таким духовно бесстрашным человеком был великий француз, выдающийся ученый и мыслитель-философ, и прежде всего великий христианин, человек глубокой и живой веры – Блез Паскаль.
Жил он очень недолго – родился в 1623, а умер в 1662 г. Очень рано проявились его способности к занятиям точными науками – математикой, физикой. Впоследствии он стал одним из основателей математической теории вероятностей. Сделав ряд выдающихся открытий в разных областях физики и математики, Паскаль, будучи еще молодым человеком, разочаровался в науке, поскольку не нашел в точных (математизированных) науках ответов на волновавшие его вопросы нравственной жизни.
«Если я не знаю основ нравственности, – писал он, – то наука об окружающем мире не принесет мне утешения в тяжкие минуты жизни, а вот основы нравственности утешат и при незнании науки о предметах. Паскаль прожил совсем немного времени, но пережил, прочувствовал и передумал не столько умом, сколько сердцем очень и очень много.
Известно, что есть не только, так сказать, «ум ума», но и «ум сердца», который гораздо глубже первого. «Умом нашего ума» мы приспосабливаемся к этому физическому миру, к привычному для нас слою реальности. А «умом сердца» мы взыскуем Иного Мира, Иного Слоя Реальности… «Умом сердца» мы взыскуем и находим Бога или отвращаемся от Бога, отказываемся от Него. Оба вида ума были даны Паскалю Богом в превосходной степени – он был и выдающимся ученым, и великим христианином.
Основным и наиболее прославленным философским и богословским трудом Паскаля является сборник его очень глубоких и более или менее развернутых мыслей – о мире, о Боге, о человеке, а также об отношении человека к миру и Богу. Этот сборник так и назван: «Мысли». Он несколько раз издавался и на русском языке.
В качестве примера приведу рассуждение, которое получило название «Пари Паскаля». Это рассуждение представляет собой некий мысленный эксперимент – некую мысленную «игру в кости», причем эта «игра» обращена к неверующим людям. Я приведу ее в свободном пересказе.
Паскаль убежден, что в Бога нужно верить, несмотря ни на что, в частности на то, что существование Бога невозможно логически доказать.
Замечу, что если бы существование Бога можно было доказать логическими средствами, то вера в Бога была бы логически принудительной. Но Господь создал нас свободными. Поэтому Он не принуждает нас верить в Себя. Если мы хотим спастись, то должны свободно выбрать Бога.
Итак, конечно же, нельзя логически доказать существование Бога. Но на Бога нужно делать ставку, то есть нужно, точнее полезно, вести себя так, как будто бы Бог существует.
Основной ход рассуждения Паскаля таков: Бог или существует, или не существует. На что нам «ставить»? Что выбрать? Существование Бога? Или Его несуществование? Что счесть более правдоподобным, более вероятным? Если слушаться только «ума ума», то есть формальной логики, то не нужно ставить ни на существование Бога, ни на Его несуществование, так как чистая логика не может предпочесть ни первого варианта, который говорит, что Бог существует, ни второго варианта, который говорит, что Бога не существует. Но мы не можем не играть, мы жизнью нашей втянуты в эту игру, мы не можем не выбирать, мы должны выбирать] Так давайте же взвесим наш возможный выигрыш или проигрыш в случае того или иного выбора.
Первый вариант: мы ставим на Бога. В данном случае, выиграв, мы обретаем все – с Богом мы сильны в высшей степени. Проиграв же, не теряем ничего, мы всего лишь не обрели дополнительной (с точки зрения неверующего человека) силы и благодати.
Второй вариант: мы ставим на то, что Бога нет. В этом варианте, выиграв, мы не приобретаем ничего, ибо и так не верим в Бога. Проиграв же (в случае, что Бог действительно существует), теряем все, ибо мы безвозвратно теряем преизобильную полноту бытия в Боге.
Подобное рассуждение, убежден Паскаль, говорит нам, что нужно, отбросив колебания, ставить на Бога.
Но существуют ли, кроме «холодного расчета», который Паскаль образно выразил в виде «Пари», другие основания для веры в Бога?.. Да, убежден Паскаль, такие основания существуют, и важнейшим из них является то, что наша душа тянется к Богу, страстно взыскует «Пари Паскаля», обращено прежде всего к людям, которые еще не уверовали в Бога. Паскаль как бы призывает: «Друзья! Вы пока еще не верите в Бога, но, надеюсь, вы – разумные люди… Слушайте же меня…».
А.П. ЧЕХОВ – ХРИСТИАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
В советское время «официальные» исследователи творчества Чехова писали, что Антон Павлович был материалистом, то есть не верил ни в существование Бога, ни в существование и бессмертие человеческой души. Так ли это? Действительно ли Чехов был убежденным материалистом? Этот вопрос и поиск ответа на него не настолько просты и очевидны, каковыми они казались в изложении «официальных» исследователей. Верно, молодой Чехов иногда высказывал материалистические взгляды. Например, в письме к издателю А.С.Суворину от 7 мая 1889 г. (Антону Павловичу было около 29 лет) он пишет по поводу одного из романов французского писателя Бурже: «Роман интересен. Если говорить о его недостатках, то главный из них – это поход против материалистического направления. Подобных походов я, простите, не понимаю. Прежде всего, материалистическое направление – не школа и не направление; оно не есть нечто случайное, преходящее; оно необходимо и неизбежно и не во власти человека. Все, что живет на земле, материалистично по необходимости. Мыслящие люди – материалисты тоже по необходимости. Они ищут истину в материи, ибо искать ее больше им негде, так как видят, слышат и ощущают они одну только материю. По необходимости они могут искать истину только там, где пригодны их микроскопы, зонды, ножи. Воспретить человеку материалистическое направление равносильно запрещению искать истину. Вне материи нет ни опыта, ни знаний, значит, нет и истины».
Таким образом, молодой Чехов утверждает, что вне материи нет ни опыта, ни знаний, ни истины. Этими словами Чехов в высшей степени ясно характеризует себя как убежденного материалиста. Материалистические убеждения в XIX в. были широко распространены в среде российской интеллигенции, особенно среди людей, которые получили естественнонаучное и медицинское образование. Антон Павлович по образованию и по профессии, которой он, надо сказать, гордился, был врачом. Поэтому неудивительно, что молодой Чехов был материалистом. Но остался ли он материалистом?
Уже в 1894 г., то есть через 5 лет после исповедания материализма в письме к Суворину, он пишет свой замечательный рассказ «Студент». Об этом рассказе, кстати, сам Антон Павлович в конце своей жизни говорил как о самом любимом, наиболее «отделанном» своем рассказе.
«Студент» – это и по содержанию, и по глубокому чувству, выраженному в нем, христианский рассказ. Убежден, что нехристианин не смог бы написать его. А другие произведения Антона Павловича? «Архиерей», «Тоска», «Нищий», «Святая ночь» и многие, многие другие? Все это подлинно христианская проза.
Какой-нибудь материалистически мыслящий исследователь Чехова может сказать: «Чехов мог писать рассказы, которые вам кажутся христианскими, а мне, например, они не кажутся таковыми. В сфере же интеллектуального самоотчета, то есть отчета перед самим собой и перед другими людьми о своих философских убеждениях, Чехов мог оставаться материалистом».
Что я могу возразить на подобную реплику воображаемого оппонента? Прежде всего, я должен согласится с тем, что художественные тексты Антона Павловича являются, конечно же, не более чем косвенными (не прямыми) свидетельствами в пользу нематериалистических, христианских убеждений позднейшего Чехова. Поэтому моя дополнительная задача – разыскать прямые свидетельства изменения убеждений Чехова. В качестве таких свидетельств может выступать лишь прямая речь Антона Павловича, в которой он выражает свои изменившиеся убеждения. Чуть позже я предъявлю такие свидетельства. Но прежде приведу еще одну цитату из письма к Суворину: «Психические явления поразительно похожи на физические – не разберешь, где начинаются первые и кончаются вторые? Я думаю, что когда вскрываешь труп, даже у самого заядлого спиритуалиста (то есть человека, который убежден в существовании души. – В.К.) необходимо явится вопрос: где тут душа?». В этом отрывке Чехов высказывает материалистическое понимание деятельности нашей психики – понимание деятельности нашей души как некоей «функции» деятельности нашего мозга, как чего-то производного от деятельности мозга.
Считалось, а многие так думают и до сих пор, что состояния мозга – это причины состояний сознания и, соответственно, состояния нашего сознания – это не более чем следствия состояний нашего мозга. Поэтому, говорят сторонники такого мнения, когда перестает работать мозг, тогда прекращается и всякая психическая деятельность, прекращается всякая деятельность так называемой души. Короче говоря, никакой души, как чего-то независимого от конечного, смертного, бренного тела не существует. Так считали материалисты XIX в., так считают и современные материалисты. Точно так же в молодости считал и Чехов, который получил материалистическое медицинское образование.
И тем не менее, могу вполне уверенно заявить, что Антон Павлович впоследствии отказался от материалистического понимания деятельности нашей психики. Прямое свидетельство этого отказа в одной из его позднейших «Записных книжек». Антон Павлович пишет:
«В человеке умирает лишь то, что поддается нашим пяти чувствам. А то, что находится вне этих чувств, конечно же, остается жить. И это нечто в нас, что находится вне наших чувств и что остается жить после умирания нашей смертной части, вероятно, громадно и невообразимо высоко».
Это прямое свидетельство того, что наш великий писатель, в конце концов, поверил в существование души и в ее бессмертие!
В заключение скажу несколько слов об «убедительности» материалистической аргументации в пользу того, что, если вскроешь труп, то никакой души в нем не обнаружишь. В этой связи припомнился фрагмент публичного диспута большевика, материалиста, наркома просвещения А.В.Луначарского с обновленческим епископом Введенским. Этот диспут проходил в 20-х годах XIX в. Луначарский говорил: «Душа не существует: это доказала наука, ибо если мы вскроем человеческий мозг, то не обнаружим в нем никакой души!» В ответ ему Введенский же заявляет: «Мы все сегодня были очевидцами проявлений, несомненно, выдающегося ума моего глубокочтимого оппонента. Но если мы заглянем в черепную коробку Анатолия Васильевича, то мы там обнаружим лишь мозговое вещество и не обнаружим там никакого ума в собственном смысле слова. Так что же? на основе этого гипотетического эксперимента мы скажем, что у Анатолия Васильевича нет ума?! – Да ни в коем случае!».
Аргументация материалистов против существования души очень похожа на аргументацию Хрущева против существования Бога. «Бога нет, – сказал Хрущев, – ведь Гагарин в космосе летал и никакого Бога там не обнаружил».
ПУТЬ К БОГУ Н.И. ПИРОГОВА
Николай Иванович Пирогов (1810–1881) – выдающийся русский анатом, хирург, основатель военно-полевой хирургии. Он первым в 1847 г. произвел операцию под наркозом на поле боя, ввел неподвижную гипсовую повязку, разработал ряд новых хирургических операций, составил ставший всемирно знаменитым четырехтомный атлас по топографической анатомии; участвовал в обороне Севастополя 1854-55 гг., во франко-прусской войне 1870-71 гг., а также в русско-турецкой войне 1877-78 гг.
Опубликовал несколько ярких статей на педагогические темы. Эти статьи имели огромный успех в русском образованном обществе, и Пирогова назначили Попечителем Одесского учебного округа, то есть главным начальником в области образования Одесской губернии. Но его независимый и прямой характер, а также либеральные взгляды быстро привели его к конфликтам с местной администрацией. Либерализм Пирогова проявлялся в том, что он боролся с сословными предрассудками в области образования и выступал за автономию университетов. Его перевели в Киев на такую же должность. Там история повторилась, и его под благовидным предлогом – «по расстроенному здоровью» – освободили от должности. Он уехал в имение (село Вишня на Украине), где и жил до своей кончины.
Пирогов не получил специального философского образования и философом себя не считал. Но он обладал сильным незаемным, то есть самостоятельным, умом, что привело его к формированию цельного, продуманного и очень интересного философского мировоззрения.
В молодости Пирогов был последовательным материалистом. Материализм того времени состоял в убежденности в том, что все движения человеческого духа сводимы к «брожению соков» в человеческом организме. Можно сказать, что медик вполне «естественно» был материалистом, поскольку медицинская наука предпринимала систематические усилия, направленные на обоснование именно материальных преобразований в человеческом организме. И очень многие умные и достойные люди того времени попадали под влияние этой в высшей степени необоснованной гипотезы, многие, но далеко не все. К числу выдающихся ученых, которые, подвергнув материалистическую гипотезу беспристрастному логическому анализу, в конце концов отказывались от материалистического объяснения жизни нашей души, относится и Николай Иванович. Пирогов пришел к выводу о неосновательности материализма, который безраздельно царил в науке его времени, и перешел на позицию, которую сам назвал «рациональным эмпиризмом».
Суть этой позиции можно выразить так. С эмпирическими, то есть опытными, наблюдаемыми, фактами, несомненно, нужно считаться. Но в то же время факты нужно стремиться понять, что они выражают, какая реальность стоит за ними! В этом стремлении не нужно бояться выдвигать и логически разрабатывать различные смелые, но хорошо обдуманные, умозрительные (философские) гипотезы, то есть предположения. И Пирогов стал выдвигать такие гипотезы. Прежде всего он осознал невозможность чисто материалистического объяснения жизни и пришел к выводу, что жизнь непроизводна от материи (от вещества). Такое мировоззрение можно назвать биоцентрическим, в центре которого стоит понятие жизни. Исходный пункт этого мировоззрения – учение о мировом мышлении-жизни. Беспрерывно текущий Океан жизни (Вселенская жизнь) вмещает в себя всю Вселенную, проницает собою все материальные элементы Вселенной – атомы, их конфигурации и т. д. Вселенская жизнь группирует и перегруппирует эти элементы в более сложные образования (структуры), которые приспособлены к ее различным целям. Океан жизни в то же время представляет собой Высший вселенский разум. Наш же, человеческий, разум – это не продукт взаимодействия материальных элементов, как считают материалисты, а частица мирового разума. Наш мозг – это «аппарат, искусно сработанный для определенной цели самой жизнью. Эта цель – обособление мирового ума», – писал Пирогов. Более того, он пришел к убеждению, что вечно изменяющийся мировой ум в качестве своего источника должен иметь нечто Неизменное и Абсолютное, которым может быть только Бог, только Творец мира. Николай Иванович писал, что надо признать «верховный разум и верховную волю Творца, проявляемые целесообразно посредством мирового ума и мировой жизни в веществе».
Пирогов не разделял характерное для науки его времени представление о том, что в мире «царствует случайность» – якобы «случайно» появился человек, у которого не менее «случайно» образовался разум и т. д., и т. п. (Случайность в то время понималась как «беспричинность».) Ученый был убежден, что Творец целесообразно организует Вселенную через посредство мирового ума. Именно это убеждение является основанием для критики «случая», ибо случайного, то есть беспричинного, не существует, поскольку Творец целесообразно организует Вселенную через посредство мирового ума. Отсюда Пирогов делал вывод о существовании предопределения, согласно которому будущее однозначно определяется прошлым – полностью содержится в прошлом. Не могу не заметить, что, с моей точки зрения, вывод Пирогова о существовании предопределения представляется далеко не бесспорным. Впрочем, где философия – там и спор.
Сам Николай Иванович пришел к Богу сначала чисто умозрительным, философским путем: наблюдаемые опытные данные легли в основу идеи о существовании непосредственно не наблюдаемого, то есть мирового ума-жизни, от которого решительно шагнул к идее Бога-Творца.
Этот путь, видимо, наиболее подходил Пирогову по складу его ума. Но он не отрицал и другого, обычного для людей пути к Богу – пути веры. Он говорил, что вера – это живое ощущение Бога, таинственной реальности Личности Иисуса Христа. И сам он в конце своей жизни пришел к этой вере – к живому ощущению таинственной, но несомненной реальности Личности Иисуса Христа. Можно сказать, что в конце философского пути Николая Ивановича к Богу его ждал и принял в Свои спасительные объятья Иисус Христос, как Он ждет и примет всех нас, кто сердцем примет Его.
«SILENTIUM!» ТЮТЧЕВА
Передо мной стихотворение Федора Ивановича Тютчева, которое он назвал по-латински «Silentium», что в переводе на русский язык означает «Молчание!».
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими – и молчи.
Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи, —
Питайся ими – и молчи.
Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи, —
Внимай их пенью – и молчи!..
Стихотворение говорит о нашем безысходном одиночестве, о трагической самозамкнутости в самом себе: и хотел бы излить свою душу кому-нибудь, рассказать о том, что глубоко волнует, а не могу. Оно говорит о том, что невозможна исповедь, точнее говоря, невозможна передача сути действительного содержания жизни и глубоких эмоциональных движений души от одного человека другому. Например, если бы я очень хотел поведать другому человеку то, чем я мучаюсь или чему я радуюсь, то в принципе я не смог бы точно передать ему содержание ни моей муки, ни моей радости.
Прав ли Тютчев? Думаю, что во многом прав, но прав не абсолютно, прав относительно многих, но далеко не всех ситуаций, которые бывают в нашей жизни. Мы все же можем преодолевать преграды между нашими душами, в определенных ситуациях и при наличии определенной душевной одаренности можем преодолевать барьеры между нами.
Но прежде чем рассказать о том, каким образом мы можем преодолевать преграды между нашими душами, хочу привести некоторые факты современной психологии.
Важно уяснить: прежде чем мы сможем, говоря словами Тютчева, «высказать себя», мы должны понять сами себя, содержание своей душевной жизни. Самопонимание – это обязательное предварительное условие «высказывания себя» другому человеку (необходимое, хотя и заведомо недостаточное условие).
Психология утверждает, что существуют серьезные трудности, которые более или менее регулярно встречаются на пути нашего самопонимания (самопознания). Эти трудности были описаны австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом. Бесспорным вкладом Фрейда в современную психологию является описание и анализ, в частности, самозащитных механизмов нашей психики. Самозащитные механизмы нашей психики – это специфические приемы, которые психика применяет для поддержания своего равновесия, чтобы «не сломаться», и чтобы мы не впали в душевное недомогание или даже психическую болезнь. Принцип действия этих механизмов таков: равновесие нашей психики поддерживается путем исключения из нашего сознания и переработки неприемлемой для нас информации о мире и о нас самих, и прежде всего о нас самих. Мы очень часто подавляем и исключаем из нашего сознания тот или иной импульс, желание или воспоминание, – вызывающее в нас напряжение и мучительную тревогу. Так мы, точнее, наша «самозащищающаяся» психика, часто поступаем как с постыдными, то есть унижающими нас, желаниями, так и с постыдными воспоминаниями. Например, человек может «вполне честно и искренне» забыть, скажем, о своем некрасивом (недостойном) поступке.
Действие самозащитных механизмов нашей психики напоминает действие механизма, который поддерживает равновесие известной игрушки «Ванька-встанька».
Среди самозащитных механизмов есть прием, который называется рационализацией. Рационализация – это самообман, попытка рационально, то есть более или менее логично и разумно, обосновать абсурдный, нелепый, противоречащий требованиям нашей совести импульс нашей психики, или идею нашего сознания. Например, у несимпатичного нам человека без малейшего груда мы найдем уйму «недостатков», а у себя или у близких людей те же самые недостатки, так сказать, «в упор» не видим, а, наоборот, видим достоинства, которых, вполне возможно, и нет. Рационализация проявляется, в частности, в нашем самооправдании и в самовозвышении. Впрочем, иногда она может проявляться и в необоснованном самообвинении и самоуничижении, когда человек предстает перед собой в гораздо худшем виде, чем он является в действительности. Люди, нелишне заметить, довольно часто излишне суровы по отношению к самим себе. Кстати сказать, исповедь, о принципиальной возможности которой я говорю, очень часто и в значительной степени представляет собой именно рационализацию, то есть некую «подгонку под ответ», который по той или иной причине желателен для нас, желателен для нашей психики.
Итак, попытки самопознания очень часто оборачиваются ложью рационализации, самооправдания, напрасного самообвинения или какой-либо другой ложью. Таким образом, получается, что рациональное самопознание, то есть познание нами нашей же душевной жизни средствами нашего же разума, едва ли возможно. Но подумаем вот о чем: не располагаем ли мы каким-либо внерациональным способом или приемом самопознания? Подумав, мы сравнительно легко получаем утвердительный ответ, и понимаем, что истинное содержание нашей душевной жизни время от времени усваивается нами непосредственно, интуитивно, внерациональными прозрениями вглубь себя.
Интуиция – это хотя и таинственная, но, несомненно, существующая способность нашей души, которая позволяет успешно превозмогать всевозможные «самозащитные» психические препятствия в ходе наших стремлений понять как движения нашей собственной души, так и глубины чужой души.
Далеко не всегда «чужая душа – потемки». Таким образом, и свою, и даже чужую душевную жизнь вполне можно воспринять и понять.
Но можно ли выразить это понимание? Я убежден, что можно – взглядом, движением руки, интонацией голоса… Я думаю также, что передать течение душевной жизни можно и словами, ломая, казалось бы, непреодолимые преграды, о которых Тютчев говорил: «Мысль изреченная есть ложь». Кстати сказать, замечательным примером преодоления этих преград является само стихотворение «Silentium»! Думаю, однако, что и в случае словесного выражения содержания душевной жизни важны не столько слова, сколько паузы, недомолвки, жесты, выражающие интонацию…







