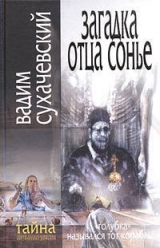
Текст книги "Загадка Отца Сонье"
Автор книги: Вадим Сухачевский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
Она не сразу заметила меня. Сидела на своей скамеечке и с какой-то странной застывшей на губах отрешенной улыбкой подстригала очередной куст.
Эти розовые кусты, кстати, тоже были странные. Где вы видели, чтобы даже в теплом Лангедоке розы цвели в январе? Уж не знаю, где такие розы добыл преподобный – небось там же, где своих ягуаров и гиен.
Наконец она увидела меня и оторвалась от своего занятия.
– А, это вы, Дидье… – сказала она, глядя на меня все с той же застывшей улыбкой. – Зачем надо держать садовника, если я сама подстригаю кусты?
– А куда делся ваш садовник? – спросил я.
– Не знаю, – пожала она плечами. – Сегодня рано утром куда-то сбежал. Сказал, чтобы мы себе нового садовника подыскивали. Говорит, запах тут какой-то, которого он не выдерживает. Даже не потребовал жалования. Быстро собрал вещи и сбежал. Что за запах ему примерещился, не знаю. Вы, Дидье, чувствуете тут какой-нибудь запах?
Боже, о чем она спрашивала?! Я ничего не ответил, хотя сам изо всех сил крепился, чтобы меня не вывернуло наизнанку от царящего тут смрада. От этого смрада все тут, кажется, притихло. Ветер, гулявший за воротами, не шевелил здесь ни одного листка, птицы молчали на деревьях, покачивались, но не скрипели оконные ставни, беззвучно падали на землю ветки, отстригаемые Натали. Когда же ягуар проурчал не особенно громко, она почему-то сказала:
– Недолго тебе, киска, осталось мурлыкать. – И затем бросила в сторону затихшего зверинца: – Всем вам – недолго осталось…
В эту самую минуту из кустов вынырнула птаха эта диковинная, марабу, – за четверть века у них сменилось штук пять этих самых марабу, причем всех их звали одинаково, Гарун аль Рашид, – залезла клювом в кармашек к Натали и вытащила оттуда монетку. Натали придержала птаху и, поглаживая ее по головке, сказала:
– И тебе недолго осталось, Гарунчик, птичка моя. – Потом снова повернулась ко мне: – Глупо сегодня получилось. Беренжер как раз нынче ждет священника из Каркассона, просил подстричь этот куст – и надо же, именно сегодня садовник что-то себе выдумал про какие-то запахи и сбежал. Так что приходится, видите, самой. – Она еще быстрее стала щелкать садовыми ножницами. – Не каждый же день приезжает священник для исповеди.
– Для исповеди? – удивился я. – К кому?
– К мужу моему, к Беренжеру, – совершенно спокойно, все с той же приклеенной к лицу улыбкой ответила она. – Еще вчера просил вызвать.
– Он что же, болен? – спросил я.
– С чего ты взял? – теперь уже удивилась она. – Твоя тетушка Катрин каждую неделю на исповедь бегает, а по-моему, еще и меня переживет.
А в следующую минуту и сам отец Беренжер в какой-то вовсе немыслимой, красной с черным хламиде появился во дворе. Для своих шестидесяти пяти лет он выглядел превосходно – никаких намеков на брюшко, по-прежнему статен, хорошо сложен. Если бы я не знал, сколько ему на самом деле, вполне мог бы принять за своего ровесника. Но вот смрад от него… Смрад шел такой, что если бы я не прошел через ретельскую тюрьму и через побег оттуда в бочке с дерьмом, то едва ли удержался бы на ногах.
Натали, однако, с улыбкой на губах спокойно продолжала подстригать розовый куст. Оба они явно ничего такого не чувствовали.
– А, это вы, Дидье? – сказал он. – Боюсь, что не ко времени, я как раз жду священника из Каркассона, отца Франциска; впрочем, я вам всегда рад… Кстати, возможно, вы слышали поутру какой-то странный вой? Даже гиена моя перепугалась и молчит как рыба. Не знаете, в чем дело? Неужто волки забрели в наши края?
– Нет, это собаки, – сказал я, не упоминая о причине, об этом смраде, заполнившем деревню.
– Всего лишь собаки? – ничуть не удивился отец Беренжер. – Впрочем, сказано же было там, в моих свитках: "И взвоют псы…"
– Перед концом света? – что-то дернуло меня за язык спросить. Наверно, потому, что эта вонь понуждала думать разве только о грядущем светопреставлении.
– Ну, это было бы слишком, – улыбнулся преподобный. – Хотя – в каком-то смысле… Ведь если уходит из мира всего один человек и меркнет свет Божий в его очах – чем это тебе не конец света? Так что конец света наступает ежедневно и многажды.
– Но не всегда при этом воют псы, – сказал я.
– Ваша правда, Дидье, – согласился отец Беренжер. – Но тут, видите ли, случай особый…
Я так и не понял, какой такой "особый случай" он имеет в виду, да и вообще был не в состоянии думать о его словах после того, что увидел в следующий миг.
Ворота открылись, и четверо мужчин внесли во двор явно очень тяжелый, судя по виду очень дорогой, из полированного черного дерева, с массивными позолоченными рукоятками и огромным золоченым крестом на крышке гроб. А вторая жена кюреМари Денарнан, как за ней в последнее время водилось, здорово пьяная, что было сейчас очень заметно, командовала, высунувшись из окна первого этажа:
– Несите в дом!.. Кто так несет, чтоб вас!.. Туда давайте, в гостиную! Только на лестнице поаккуратней, чтоб вас!.. Не поцарапайте, иродовы дети!
Придя в себя, я проговорил, не осознавая глупости вопроса:
– Что это?..
– Я так полагаю, что гроб, – усмехнулся отец Беренжер. – Мне трудно допустить, что вы впервые в жизни видите такую штуковину.
– Умер кто-нибудь из прислуги? – спросил я, что было, пожалуй, столь же глупо: никогда ни для какой прислуги не заказывают такие дорогие гробы.
Преподобный рассеянно переспросил:
– Из прислуги?.. Нет, при чем тут?.. – И обратился к Натали: – Кстати, где вся прислуга? Я почему-то с утра не вижу никого.
– А никого и нет в доме, – не отрываясь от своего занятия, сказала она. – Все сбежали вслед за садовником. Всем им какой-то запах мерещится.
– Всем что-то мерещится, – нахмурился преподобный и посмотрел почему-то на меня с таким видом, будто именно мне примерещилось все это – и вой псов, и вонища на всю деревню, и гроб этот, вносимый в дом. И добавил, обращаясь к Натали: – Значит, придется вам с Мари накрывать на стол, если отец Франциск после исповеди пожелает отобедать.
У той впервые сошла с губ восковая эта улыбка:
– С Мари? Еще чего! Она же, как всегда, с утра пораньше наклюкалась, всю посуду перебьет.
– Что поделаешь, значит тебе одной придется, – сказал преподобный.
– Ты думаешь, после твоей исповеди отец Франциск так уж сильно захочет есть? – с некоторой долей сарказма спросила Натали.
– Пожалуй, ты права, – согласился отец Беренжер. – Но наше дело предложить – а там уж как пожелает. Надо все же быть гостеприимными.
При этом их разговоре мое присутствие учитывалось обоими не более, чем копошение этого Гаруна аль Рашида в кустах. Чувствуя себя лишним, я пробормотал что-то на прощание, готовый уходить, но отец Беренжер неожиданно меня остановил:
– Постойте, Дидье. Пока священник не приехал, Я кое о чем хотел бы тут с вами переговорить. Прошу вас, пойдемте-ка со мной.
Я последовал за ним.
Когда мы с ним подходили к дому, мужчины, принесшие гроб, спускались с крыльца.
– Преподобный отец, – решился спросить один из них, – часом не протухло у вас в доме чего? Так и тянет на всю деревню.
– Нет, это не тухлятина, – сказал другой. – Просто запах какой-то…
Кажется, отец Беренжер их не слышал, настолько был погружен в какие-то свои мысли, совершенно от всего этого далекие.
– Что?.. – отрешенно спросил он. – Ах да, спасибо вам, дети мои, – и с этими словами он протянул им целых двадцать франков.
Те, однако, не отставали с расспросами:
– И собаки выли с утра. Не знаете, с чего бы это, преподобный отец?
– Собаки… – так же отрешенно отозвался отец Беренжер. – Да, да, собаки…
– А гроб-то для кого? Кто покойник?
Нет, никак им не удавалось отвлечь его от каких-то далеких отсюда мыслей.
– Да, да, гроб… – рассеянно проговорил он. – Еще раз спасибо, что принесли…
С этими словами, так ничего им и не объяснив, он пропустил меня в дом и, войдя следом, поскорей, чтобы не слушать больше их вопросов, затворил за собой дверь.
– Пойдем в гостиную, наверх, – сказал он мне. – А то по первому этажу бродит Мари, она, ты видел, нынче немного не в себе, я не хочу, чтобы она нам помешала.
"Ну а кто вообще тут в себе?" – думал я, поднимаясь вслед за ним по лестнице. Даже по отношению к собственной персоне я, признаться, на сей счет уже изрядно сомневался.
Мой последний разговор с преподобным.Бедный кюре Франциск!
Мы вошли в ту саму гостиную, где много лет назад, еще не побултыхавшись в бочке с дерьмом, я услышал от него про корабль под названием «Голубка».
– Диди… Давай-ка по старой памяти я так нынче буду тебя называть, – сказал он. – Так оно для меня привычнее. Тем более, что у истоков некогда стоял мальчуган Диди, а не господин Дидье Риве.
– Да, конечно… Как вам будет угодно… – ответил я так же рассеянно, как он сам отвечал мужчинам во дворе.
В эту минуту я даже почти не ощущал смрада, особенно сильно сгустившегося тут, в гостиной. И смотрел я вовсе не на отца Беренжера, а на этот самый гроб, тут как раз и стоявший на четырех стульях, на этот странный гроб, не обретший своего хозяина. Хотя мы были с преподобным наедине, меня ни на миг не покидало ощущение, что некто третий, кто должен был в нем лежать (а ведь кто-то же должен был!), также незримо присутствует здесь.
Я отвел взгляд в сторону – и там, клянусь, тоже было на что посмотреть. Там стояло огромное кресло, каких я никогда не видывал. Не кресло даже, а скорее трон. Сделан он был из красного дерева, с высоченной спинищей, на которой были вырезаны все те же странные письмена. Рядом с троном возвышался жезл, тоже испещренный письменами, обвитый лентами из золота с изумрудом на верхушке рукояти.
– А, вот ты чем любуешься? – перехватил мой взгляд отец Беренжер. – Это не что иное, как трон самого царя Давида. Не сам, конечно – тот исчез еще до разрушения Иерусалимского храма – а его точная копия, воспроизведенная прекрасными мастерами по рисункам, что были на свитках, которые мы с тобою нашли. А рядом столь же точно выполненная копия скипетра того же царя Давида, приходившегося мне, как ты знаешь, далеким предком. Помнишь, как речено в Писании: "И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем…" Ах, мой славный предок! Видел бы он меня, восседающего на его троне в этой деревенской глуши, куда меня занесло!
– Принц, унесенный ветром… – пробормотал я себе под нос, вспомнив давнишний сон своего друга Пьера.
Отец Беренжер, однако, при всей его, казалось, отрешенности, меня услышал.
– Ветром?.. Да, ветром… – задумчиво сказал он. – Возможно… Только ветры своенравны, и никому не ведомо, в какую сторону они тебя занесут. Быть может, не туда, где беднягу принца ждет воцарение? Допустим, ожидало его Царствие Небесное, а он возжелал царствия земного. Как, по-твоему, такого принца называть?.. – И сам же себе ответил: – В этом случае имя ему – легион…
– То есть… – попытался уточнить я и тут же осекся, боясь лишний раз помянуть имя нечистого.
– Да, Диди, – кивнул кюре, – ты думаешь в верном направлении. Кстати, поведаю тебе, откуда взялось в писании это слово – "легион". Легионом называлось большое, вроде нашей пехотной бригады, подразделение римской армии, а поскольку евреи отождествляли язычников-римлян с тем самым, о ком ты со страхом только что подумал, и так же, как ты сейчас, не желали его лишний раз поминать, то отсюда и легион ему имя… Отсюда же, к слову сказать, и его цифровое обозначение – 666. Тут, уверяю тебя, нет никакой каббалистики, скорее некоторое недоразумение. Иудея была столь мала, что полновесного легиона, по крайней мере до третьей Иудейской войны, в глаза не видывала. Максимум, что могли там, в Иудее, увидеть и пересчитать – это римский полк, то есть когорту. А в ней было, как известно, шестьсот солдат; прибавь сюда шестьдесят командиров манипулов, то есть десятников, и шестерых центурионов – как раз те самые шестьсот шестьдесят шесть и получатся, если правильно сложить. Так что…
– Но вы же… – прервал я его, – вы же не творили зла!
– Вопрос, пожалуй, дóлжно ставить иначе, – ответил отец Беренжер. – Творил ли я добро – то, которое кровь, текущая в моих жилах, кровь Грааля обязывала творить?.. Нет, я жил жизнью какого-то царька выдуманной мною Септимании и благоденствовал с своем царствии земном. А знаки были, о да, те самые знаки из Апокалипсиса. Да какие! Дракон, спустившийся на землю с Небес!
Мне показалось, что он бредит.
– Какой еще дракон? – с робостью спросил я.
Вместо ответа преподобный открыл книгу Святого Писания и прочел:
– "Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца." – И, отложив Писание, спросил: – Ну, много ли у меня наследников, Диди? Всех их во младенчестве пожрал дракон. Господь лишил меня наследников, Диди, – это явный знак. А я себе безмятежно царил в своей Септимании. И даже когда буду мертвый смердеть на всю округу…
"Ах, да вы и сейчас смердите, отец Беренжер! – подумал я. – И если бы вы знали как!"
– …даже тогда, – продолжал он, – я буду восседать на этом троне. Таково мое пожелание. И, заполняя смрадом округу, буду напоминать своим тленом о том, имя кому было легион. О том, кто возомнил себя едва ли не Богом, а сам палец о палец не ударил, чтобы уберечь от гибели этот несчастный мир, уже катящийся в тартарары…
И голос его, и слова были столь страшны, что я ожидал – вот-вот грянет гром Господень.
А в следующую минуту и действительно грянуло. Только то был не гром. И уж тем более не Господень, это точно. То была всего лишь пьяная Мари Денарнан. Просто за словами отца Беренжера я не услышал, как она, пошатываясь, вошла в гостиную. Услышал только после того, как она спьяну зацепила небольшой, должно быть очень дорогой столик с перламутровым покрытием, на котором стояла тоже, видимо, недешевая фарфоровая ваза, и он, с грохотом упав, вместе с вазой рассыпался на куски.
– Понаставил тут!.. – сказала она и вдобавок пнула ногой отвалившуюся ножку столика. – Сидишь – а там тебя кюре дожидается.
– Отец Франциск?
– Я почем знаю? Все вы тут отцы бездетные!.. – Она пьяно прохихикала. – Так чего, звать в дом или пускай гиену в зверинце исповедует?
– Оставайся тут, – сказал ей отец Беренжер, – а то ты в таком виде…
– В каком еще "виде"!? – возмутилась Мари. – Платье за двести франков! И румяна из Марселя! – Нарумянена она в самом деле была так, что и лица не разглядеть. – Чем тебе, спрашивается, мой вид не угодил!?
Преподобный только бессильно махнул рукой и крикнул в открытое окно:
– Приветствую вас, отец Франциск! Натали, проводи отца Франциска в кабинет на первом этаже, я через несколько минут спущусь! – Затем обратился ко мне: – Еще сказать хочу тебе, Диди. Ты скоро увидишь много странного, так вот, не удивляйся сверх меры ничему.
А то я мало странного уже успел повидать!
– И еще у меня к тебе просьба, – продолжал он. – Здесь текст телеграммы, – он протянул мне сложенный листок бумаги. – Попроси кого-нибудь, чтобы съездил на почту и отправил по назначению. Прощай, Диди! Не знаю, свидимся еще когда-нибудь на этом свете.
Спускаясь с крыльца, я повстречал кюре, от царящего повсюду смердения прикрывавшего нос платком – надо понимать, того самого отца Франциска из Каркассона, приехавшего за исповедью. Натали вела его в дом. Он был совсем молод, этот отец Франциск, не старше тридцати, розовощек, из-под шапочки виднелись черные, не тронутые сединой волосы. И несмотря на адскую вонь вокруг, был он до того улыбчив, что и на кюре не походил. Даже осеняя меня крестным знамением, когда я приложился губами к его руке, продолжал улыбаться открытой детской улыбкой.
Ах, скоро, совсем скоро, и часа не пройдет, как вы навсегда забудете об этой своей улыбке, добрейший отец Франциск!..
Когда я вышел за ворота, на улице никого не было, лишь издали доносился вой псов, а люди, верно, попрятались по домам от этой вонищи. Я долго расхаживал по деревне, ища, кого бы послать на почту, что находилась в нескольких лье отсюда, в Ренн-лё-Бэн, но так и не повстречал никого. И все вспоминал с содроганием наш недавний разговор с отцом Беренжером, а также раздумывал, что за телеграмму такую и куда преподобный собирался послать.
Наконец любопытство пересилило стыд, и я развернул листок. Он по сей день в одной из этих папок, сохраненный бережливым ангелом моим по имени Регуил. Вот он, исписанный крупным почерком отца Беренжера:
РИМ, ВАТИКАН
СВЕРШИТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ДНЕЙ
КАРДИНАЛЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИЛОЖИТЬСЯ К МОЕЙ РУКЕ, МОГУТ ПРИБЫТЬ В РЕНН-ЛЁ-ШАТО, НО ПУСКАЙ СДЕЛАЮТ ЭТО ПОЗДНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА, ИБО НЫНЧЕ ПОМЫСЛЫ МОИ СЛИШКОМ ДАЛЕКИ ОТ НИХ
ПУСТЬ НЕ УДИВЛЯЮТСЯ НИЧЕМУ УВИДЕННОМУ, ТАКОВА МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
И ПУСТЬ НЕ СКУПЯСЬ ОКРОПЯТ СВЯТОЙ ВОДОЙ ТО МЕСТО, В КОТОРОМ Я ЖИЛ
РОДА ДАВИДОВА
БЕРЕНЖЕР СОНЬЕ
Прошло, пожалуй, не менее часа, я успел добрых три раза обойти деревню, пока не очутился снова у того же места, от которого начал путь – у ворот преподобного. Там-то и заметил наконец человека.
Это был мой друг Пьер – уж не скажу сейчас, в одном любопытстве тут дело или еще и в том, что ангелы не боятся замарать свое обоняние смрадом.
Он тотчас же согласился отправить телеграмму из Ренн-лё-Бэн и бережно спрятал листок в карман. Листок этот останется непомятым даже спустя пятьдесят лет – такова она, ангельская аккуратность.
Я же почему-то остался у ворот. Уж не знаю, чего я ждал, но, как оказалось ждал отнюдь не напрасно.
Спустя еще полчаса ворота открылись и со двора, чуть пошатываясь, выбрел человек. Лишь по одеянию можно было узнать в нем того молодого, улыбчивого кюре из Каркассона. О нет, теперь он не улыбался!
– Отец Франциск! – с удивлением воскликнул я, увидев его вытаращенные глаза и (о Боже!) теперь совершенно седые пряди волос; а щеки его, совсем недавно розовые, как у младенца, были теперь серыми, как дорожная пыль. – Вам нездоровится? – спросил я. – Может, помочь?
Кюре как-то неестественно замахал руками и словно слепой побрел прочь.
…Позже мне рассказывал знакомый, приехавший из Каркассона, что после той исповеди бедный кюре Франциск вообще ни разу в жизни больше не улыбнулся. И ни одного слова более не произносил, так, молча до последних дней и прожил в одиночку.
Впрочем, и жить-то ему бедняге оставалось уже совсем недолго. Он скончался спустя два года в полном одиночестве, превратившись в старика от прикосновения Тайны моего преподобного. И похоронили его, сочтя безумцем, за кладбищенской чертой.
…А в тот день, ближе к вечеру набежало еще неведомо сколько псов и выли громче и громче с каждым часом. И весь вечер выли, и всю ночь.
Боже, как они в ту ночь выли!..
Похороны.Конец зверинца, или о том, что означала улыбка НаталиДа увижу я мщение Твое над ними…
Иеремия (20:2)
А к утру псы вдруг все разом на время притихли. И вонь как-то по-незаметному улеглась сама собой.
Завыли псы только через пять дней. Ибо как раз через этот срок свершилось… Надо полагать, именно то, о чем пророчествовал в своей телеграмме отец Беренжер.
Вот когда к нам кардиналов понаехало!.. Столько наверняка и в Париже не собиралось за один раз.
А прах отца Беренжера, – ибо накануне он вдруг в одночасье без всяких видимых причин скончался, – восседал на троне царя Давида, который был выставлен перед его домом, и смотрел, словно живой, лишь глубоко задумавшийся человек куда-то в одну точку, как будто все тайны этого мира были сосредоточены именно в ней.
И одет он был в красный балахон с начертанными на нем черными языческим письменами – должно быть, именно так был когда-то одет и его давний предок царь Давид. А Кардиналы будто не замечали ни странного этого для кюре облачения, ни вообще того, что на троне восседает покойник, по одному подходили к нему и, прикрывая платками носы (ибо смрад к тому дню снова окутал деревню), под гулкое завывание псов прикладывались устами к желтой, как восковая, руке мертвеца.
А по обе стороны трона стояли две вдовы католического кюре, чего кардиналы тоже как бы не замечали – по одну сторону пьяная, едва державшаяся на ногах Мари, а по другую – так и не ставшая моей Натали все с той же, что тогда, во дворе, странной улыбкой, словно приклеенной к губам.
Потом его переложили с трона в тот самый гроб и понесли на наше деревенское кладбище. Могила уже была вырыта рядом с могилой никому тут, в деревне, кроме меня, неведомой маркизы Мари де Бланшефор, вдовы другого католического монаха. Уж не знаю, известно ли было кардиналам что-нибудь о ней, но если они что-то и знали, то наличие и у того монаха вдовы в этот день едва ли чрезмерно удивило бы их, как мне кажется.
И только после того, как последний ком земли упал на крышку гроба и кто-то произнес: "Вот и все…" – тогда только разом стихли все псы, и вонь вмиг исчезла, будто никогда ее тут, в Ренн-лё-Шато и не было.
Что меня и по сей день удивляет: в нашей деревне, где о любом мало-мальском пустяке бывало судачили неделями, ни о вое псов, ни о зловонье, мерзостном, как дыхание ада, ни о нашествии кардиналов, ни вообще об этих более чем странных похоронах в последствии наши селяне между собой почти никогда не разговаривали. Я могу объяснить такое лишь подсознательной защитой людей от неведомого и страшного. Каждый, должно быть, понимал, что существуют в мире такие Тайны, тужиться проникнуть за черту коих – то же, что дробить гранит лбом. Тот же результат: только мозги всмятку.
Был, правда, в деревне одноглазый пьянчужка Клеман по прозвищу Циклоп, который года через два после тех событий, выпивая дома со своим приятелем Гийомом, рассказал тому, что давеча, во время поездки на базар в Каркассон явно подхватил там от одной шлюшки срамную болезнь и оттого, видать, скоро провоняет, как покойный кюре. Однако его жена, подслушавшая этот разговор, так отделала беднягу скалкой – и за пьянство, и за болезнь эту, и за шлюшку каркассонскую – что нечаянно выбила ему и второй глаз. Но в этом я вижу скорее случайность, нежели Провидение Божие.
…Ну а в тот день, в день похорон отца Беренжера, я отправился с кладбища не домой, а, сам не зная зачем, побрел к дому преподобного. Вдруг из глубины парка, с того места, где находился зверинец, послышался звук выстрела. Боясь недоброго, я рванулся туда.
Натали стояла у одной из клеток со здоровенным дробовиком в руках. Дробовик еще дымился, а на полу клетки лежал труп гиены с размозженной головой.
Моего появления Натали не заметила.
– Вот тебе, адская тварь, драконья доченька, – проговорила она. – Это тебе за сыночка моего, за Лулу. Ему бедняжке было от роду восемь деньков, когда твой сородич пожрал его. – С этими словами она разрядила в распластанный труп второй ствол дробовика.
– Так их, так! Тварей, детишек драконьих! – подхохатывала пьяно стоявшая рядом с нею Мари.
Между тем Натали перезарядила оба ствола патронами с кабаньей картечью и перешла к клетке с притихшим от страха ягуаром.
– А тебе, драконий выблядок, – сказала она, – за сыночка моего Жерико, – и шарахнула по зверю дуплетом.
Ягуар распластался на полу клетки пятнистой тряпицей.
Мари захлопала в ладоши:
– Так его, так!
Лицо Натали уже было забрызгано капельками крови, но в тот миг самым страшным мне казалось не это, а ее улыбка – все та же неживая улыбка на забрызганном кровью лице.
Она снова всунула в ружье два патрона и перешла к клетке с гепардом.
– А тебе, – сказала она, – за моего мальчика Сосо. Ему и двух дней не исполнилось.
Ударили оба ствола, и мозги гепарда посыпались, как пыль.
– Так его! – захлопала в ладоши Мари.
А Натали, опять зарядив ружье, подошла к клетке, где, сжавшись в углу, смотрела на нее полными ужаса глазами черная пантера.
– Ну а тебе… – проговорила Натали, – Тебе, исчадье чертово – за сыночка моего, у которого и имени-то не было. Мертвеньким родился!
Бабах! – и черная голова твари разлетелась вдребезги.
– Так ее! Так ее, засранку! – ликовала Мари.
Живых зверей в клетках больше не оставалось, но Натали достала еще два патрона с кабаньей картечью и перезарядила дробовик.
– Гарунчик! – позвала она. – Гарунчик, ты где, моя птичка? Иди сюда!
Послышалось шевеление, из кустов выбежал марабу и сразу полез клювом к ней в карман. Натали, однако, в правой руке сжимая ружье, левой придержала его за головку.
– Птичка моя… – сказала она. – Ласковая птичка… Но ты – адская птичка. Передай своему папаше дракону, что он не пожрет моего мальчика, которого я ношу в животе. Он родится, мой мальчик! Как в Писании сказано: "И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его…" Ты не уворуешь его, птичка моя, ласковая моя птичка! – Это она говорила, уже на шаг отойдя от замершего на месте марабу и целясь в него из дробовика.
Зная уже, чем кончится, я стал удаляться по аллее.
Одновременно раздался выстрел дуплетом и возглас Мари: "Так его! Пусть отправляется к папаше своему!"
Когда я обернулся, там лежала только кучка окровавленных перьев, все, что осталось от несчастного марабу. И еще я увидел, что Натали в этот миг смотрит на меня. Но глаза ее были пусты, как у праха ее супруга, когда он восседал на своем смертном троне, и даже застывшая на ее губах улыбка не делала ее лицо более живым, чем было тогда у него.
…Впрочем, она была жива. И спустя восемь месяцев она родила на свет мальчика. Имя ему нарекли, как брату Христову, Жак. Меня Натали избрала быть его крестным.
Но и в церкви, во время крещения, держа на руках его дышащее, уворованное у дракона тельце, тельце потомка царя Давида, я вспоминал ту, в зверинце, с окровавленным лицом Натали, вспоминал его отца, мертвым восседавшего перед кардиналами на троне, и думал о том, оправдает он богоугодное имя свое или возжелает, подобно своему отцу, царствия земного – и тогда снова окутает смрадом нашу Ренн-лё-Шато, и взвоют сбежавшиеся невесть откуда псы, оглашая на всю округу уже не имя человеческое, а звериное число 666.








