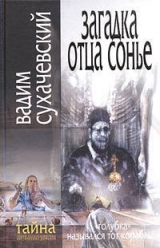
Текст книги "Загадка Отца Сонье"
Автор книги: Вадим Сухачевский
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
( Окончание)
Незнакомец еще что-то хотел сказать, но не успел. Дверь барака распахнулась, впустив метель и лютую стужу, и в барак вошли трое охранников в сопровождении кого-то четвертого, одетого в реглан на меху с генеральскими погонами на плечах.
– Этот, что ли? – спросил генерал, указывая на бесстатейного. Затем обратился к нему самому: – Вы, что ли, под литерой "Ф"?
– Да, кажется, именно такую мне привесили, – отозвался тот.
– Забирайте в машину, – скомандовал охранникам генерал, – поедет со мной.
– А распоряжение? – спросил один из охранников.
Генерал вытащил бумагу с непомерно большой печатью и сунул ему:
– На, читай.
– Лэ Пэ Бе… – начал по слогам читать охранник подпись на бумаге. И вдруг выдохнул с ужасом в голосе: – Берия!.. Да ни хрена ж себе!.. А ну, Авдеюшкин, чего стал?!..
Бесстатейного быстро завернули в несколько одеял и торопливо вынесли из барака.
Не помню, сказал ли он нам "прощайте" напоследок. Вообще кусок памяти вывалился. Потом уже осознал, что, видимо, заболеваю, что у меня страшный жар.
И от этого жара на какой-то миг пришла невесомость и чувство свободы. И такое же чувство свободы вдруг нахлынуло на всех. Ибо был благословенный день. И была весна. А даже колымская весна – это время, когда свобода трогает своим касанием здешнюю вечную мерзлоту.
– Господь с нами, он не оставит нас, Господь! – плакал от умиления Миша-баптист.
– И воскреснет Бог, и расточатся врази Его!.. – хорошо поставленным баритоном выводил враг народа – православный поп. – И да бежат от лица Его ненавидящие Его… Яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси…
– "…И на черной скамье, на скамье прокурора…" – ликующим от свободы голосом пел единственную, что он знал, песню матерый уркаган Федя Воркута.
– Амнистия!.. Чую – амнистия скоро!.. – выкрикивал забытое, как и время тут за ненадобностью, слово мелкий урка Палёный.
– Братцы, я вспомнил, я вспомнил!.. – завопил из угла барака считавшийся безумцем, не помнящим имени своего, инженер-путеец. – Вспомнил! Мы назвали вторую дочь Конкордией!.. – И дальше с таким же восторгом произнес вовсе непонятное, чудом воскресшее в колымской мерзлоте: – Братцы! Еще вспомнил! По теории Эйнштейна, время относительно! Оно способно растягиваться, когда ты находишься в движении, ибо оно растягивается пропорционально минус первой степени из квадратного корня от единицы минус "вэ" квадрат, деленной на "це" квадрат!
И хотя никто не понимал его – эти слова уже не воспринимались как бред безумца. Это тоже была она, свобода!
И почуявшие воздух свободы жирные колымские вши зашагали по нашим телам колоннами. Весь барак чесался – но как-то весело, без угрюмых матюгов, ибо и в том все почувствовали свободу – пускай даже эту, вызывающую зуд.
А Пьер, бедный мой старенький Пьер, которому было под восемьдесят, вдруг начал совершенно невесомо, как моль, порхать над нарами и выкрикивать, мешая русский с почти забытым французским:
– Je suis le prince! Par hasard j'ai été emporté de mon palais! Я свободнее вас всех. Я улечу туда, когда захочу. Vive la liberté! Regardez, regardez, comment je sais voler! [58]58
Я принц! Меня случайно унесло из моего дворца! Да здравствует свобода! Смотрите, смотрите, как я умею летать! (Фр.)
[Закрыть]
Его как-то весело пытались поймать, но он с необычайной легкостью упархивал ото всех, не переставая повторять, что он принц, ветром унесенный из дворца и при каждой неудаче его поймать восклицая: "Vous ne n'attraperez pas! Vive la liberté!" [59]59
Вы не поймаете меня! Да здравствует свобода! (фр.)
[Закрыть]
А вместе с ним порхал по бараку освободившийся из объятий вечной мерзлоты, давно сдавившей его прах на скосе у реки, херувим Двоехоров и тоже с криком: "Свобода! Я свободнее всех вас, ибо не обременен телом. C'est la liberté supérieure!" [60]60
Это высшая свобода! (фр.)
[Закрыть]– парил над нарами, иногда зависая над моей спиной, но я не боялся, не боялся его! Ибо я тоже был свободен – в том числе и от страха перед своими друзьми, неважно в чьей руке мог бы оказаться стилет.
И только отец Беренжер, точнее прах его, восседал на своем странном троне и, не в силах двинуться, наблюдал застывшими глазами это кружение.
Поль попытался прервать полет Пьера, ухватил его за подол бушлата, но тот, на миг зависнув над ним в воздухе, нанес ему невесть откуда взявшейся дубинкой такой основательный удар по голове, что тот мигом безмолвно затих на нарах, а сам Пьер, вырвавшись, полетел дальше с криком: "Pourquoi élés-vous couchés? Ne voyez-vous pas que c'est magnifique de voler?" [61]61
Почему вы лежите? Неужели не видите, как это прекрасно – летать? (фр.)
[Закрыть]
И тут возлетели все остальные, даже враг народа поп, даже грузный Федя Воркута. Даже скрючившийся, с неразлучной заточкой в руке Жиган – и тот летал. И летал безумный путейский инженер, выкрикивая какие-то свои никому тут непонятные формулы. Они порхали, как бабочки в каком-то немыслимом хороводе. Ибо подступала весна, и был благословенный Богом день.
И только я да пристукнутый дубинкой Поль оставались лежать на нарах. И прах отца Беренжера со своего трона мертвыми глазами смотрел на нас.
И я понимал… После того, что сказал четвертый бесстатейник, в отличие от нас троих еще и безымянный, обозначенный только литерой – о да, после этого я, кажется, понимал, что с нашим преподобным когда-то произошло.
Но в ту минуту и думать об этом не хотелось, наблюдая за всеобщим порханием…
Задумаюсь еще. Будет время. У тебя еще впереди твое Чистилище и твой Рай, Диди.
Неужели это был Поль?Не знаю, сколько времени прошло, день или два. Очнулись мы с Полем в лазарете почти одновременно – он приходил в себя после удара дубинкой по голове, а у меня уже понемногу спадал жар, и только если я прикрывал глаза, казалось, что все еще вижу кружение под потолком барака свободных, как мотыльки, людей.
Мы лежали на настоящих простынях, о существовании которых давно забыли оба. Они были измяты и грязны, напоминая о том, что из ада мы далеко не ушли, но уже то, что существовала эта не Бог весть какая прослойка между нами и нарами, вселяло ощущение едва ли не уюта.
– Помнишь, что говорил тот, с литерой "Ф", про Орден? – спросил Поль.
Да, что-то он такое, безусловно, говорил, но что именно, я успел позабыть уже – больше думал об отце Беренжере и, кажется, что-то уже в самом деле понимал. Впрочем, в той давнишней записке за подписью "К" – в ней тоже было про некий Орден. Я вдруг отчетливо почувствовал холод стали где-то между лопатками.
– Про Орден, который всегда знал о деспозинах, – напомнил Поль.
Я спросил:
– По-твоему, он действительно существует?
– По крайней мере, существовал до недавнего времени, – сказал Поль. – Великое братство, умевшее хорошо хранить свою главную тайну.
– И ты в это веришь?
Вместо ответа Поль извлек невесть откуда слишком хорошо для этих мест сделанную заточку с перламутровой рукояткой и какими-то надписями на клинке:
– Смотри…
Это была вовсе не заточка, а старинный, превосходной работы стилет. Тот самый стилет, – я в этом уже не сомневался. Как его удалось пронести через все круги ада, один Бог ведает. Надписи были выполнены на том же древнем языке, что и те, которые когда-то я видел на поясе у отца Беренжера.
– Древнееврейский? – спросил я. Спросил без страха, ибо страх, оказывется, исчезает, если знаешь, от кого ждать удар. А я знал, теперь я знал своего ангела-убийцу, и от этого почему-то было легче на душе.
– Да, – кивнул Поль. – А знаешь, что тут написано? "Да умрет всякий, чей язык оказался длиннее разума", – вот что означает надпись, сделанная еще тамплиерами.
– Болтун то есть? – Сам удивляясь своему спокойствию, спросил я.
Лицо Поля было серьезным, как никогда.
– Не всякий болтун, – сказал он. – Только тот, который слишком много знает о деспозинах и трезвонит об этом кому не лень.
– Так ты из этого Ордена? – все так же спокойно спросил я. Страха по-прежнему не было.
– С некоторых пор, – кивнул Поль.
– Но ведь от том, что отец Беренжер деспозин, я знал давным-давно, – сказал я. – Старина Поль, неужели ты собираешься меня убить?
Он покачал головой:
– Нет, Диди. Ты не подавал повода… А теперь, после того, что я услышал от настоящего деспозина, я уже не знаю, кого мне следует убивать.
– Что ты имеешь в виду? – не понял я.
– Вспомни надпись, – сказал он. – Умереть должен тот, чей язык длиннее разума. Боюсь, что речь шла как раз о моем языке.
Я не понял:
– Твой-то язык при чем? Если ты о чем-то и знал, то молчал об этом как рыба.
– Да, молчал, – согласился Поль. – Но ты еще не знаешь главного, Диди. Все эти годы я собирался бежать. Вместе с тобой и Пьером. Глупая, конечно, мечта – я не слышал, чтобы кто-нибудь живой ушел из этого ада. Но мечта всегда нужна, без нее жизнь теряет всяческий смысл, только она помогала мне выжить в аду. Но со вчерашнего дня эта мечта вдруг стала бессмысленной.
– Почему же? – спросил я, хотя осуществима его мечта была в той же мере, что и мечта допрыгнуть до луны.
– Потому, – сказал он, – что если я вернусь во Францию, я теперь не смогу больше молчать. Это там, в Ренн-лё-Шато, могут забыть о своем протухшем кюре. Они, в отличие от меня, не видели настоящего ада, в который люди могут сами себя завести. И заведут непременно! Здесь мы с тобой видели только его начало, а он бескраен. Но здесь хотя бы есть род деспозинов, а стало быть есть надежда. Провонявший Беренжер лишил такой надежды мир, в который я хотел бежать. Его ждет ад, причем безнадежный ад, я в этом уверен. А бежать из одного ада в другой, да еще в безнадежный, это, согласись, самое глупое, что можно выдумать. Если я и сбегу, то, видит Бог, я не смогу молчать. Значит, как тут написано, язык мой окажется длиннее разума. Вот и взвесь, что мне осталось. Оставаться в аду, бежать в другой ад или пасть от этого стилета. И – знаешь, Диди, я тут решил, что последнее – наилучший выход. Быстрая смерть лучше, чем лишенная всякой надежды жизнь… Ты ведь был мне другом, не так ли, Диди?
– И остаюсь тебе другом, – сказал я.
– Спасибо, Диди. Тогда прошу тебя… Хоть, говорят, и Ордена уже нет, но прошу, Диди, соверши милосердие. Только друга я могу об этом попросить?
Я посмотрел на него непонимающе.
– Убей меня этим стилетом, – сказал он. – Я бы попросил Пьера, но он – ты вчера видел – сошел с ума, и его куда-то увезли. Так что вся надежда на тебя, Диди. Вот, возьми. И вонзи его сюда… – Он распахнул рубаху и указал на место между торчащими наружу ребрами. – Стилет длинный и войдет в самое сердце. Смерть будет мгновенная. Тебя никто и не заподозрит, скажешь, что это я – сам себя…
Я лишь покачал головой. Не мог, не мог я убить своего старого друга, кем бы он ни был, и никакого обета никакому Ордену я не давал.
Поль продолжал меня уговаривать:
– Убей меня без колебаний, Диди. Ведь это я должен был тебя убить, так что сам Господь тебя не осудит. Кроме того, я должен был тебя оберегать от опасностей, а видишь, нарушаю свой долг. Убей меня хотя бы за это.
– Ну а Турок? – спросил я. – Ведь это же ты спас меня от него, верно? И от Креста спас. Не знаю, как ты это сделал, но он бы меня точно убил. Как же я теперь могу собственной рукой убить своего спасителя?
С каждой минутой он терял силы и говорил все тише и тише, уже надо было напрягаться, чтобы слышать его.
– Нет, это не я, – проговорил он. – То был ангел, настоящий ангел…
"А башмачника Баклажана – тоже ангел?" – хотел было спросить я, но Поль к этому времени уже впал в забытье, и мне больше не оставалось ничего, кроме как понадежнее спрятать стилет в щель между досками его нар.
И потом, лежа на соседних нарах, думал и надумать никак не мог, как мне с ним быть, когда он очнется. Почему-то было жаль его больше, чем себя.
И еще вспоминал отца Беренжера, смрадом созывающего псов к своему смертному трону.
И еще ты думал, Диди, о том, что вот и разрешилась еще одна тайна – быть может, последняя в жизни тайна твоя: ты узнал наконец-таки своего ангела, ангела-убийцу, ангела-спасителя…
И еще ты думал о том, что лежать тебе самому уже скоро когда-то в этой неподатливой ни на жалость, ни даже на кайло вечной мерзлоте…
Ты думал, Диди. Ты думал наперед.
Бессмысленное занятие. Ибо никому ничего не дано предугадать. Никому, кроме ТОГО, КТО НАЧЕРТЫВАЕТ И ЗАМЫКАЕТ ВСЕ ЗЕМНЫЕ КРУГИ…
И об ангеле своем ничего ты не знаешь, все еще глупый, почти восьмидесятилетний Диди…
6
…Да, не дано предугадать. Ибо через час в лазарет войдет не больше не меньше как начальник лагеря подполковник Панасёнков и скажет тебе, бесстатейному, что тем не менее, в соответствии с некоей статьей, ты отправляешься на поселение, за 101-й километр, ибо там, за каким-то из бесчисленных тут 101-х срочно требуются механизаторы.
Тебя отправляют прямиком из Ада в Чистилище! И не лежать тебе в здешней мерзлой земле. Попробуй вспомни, ты сразу это уразумел или хлопал глазами в непонимании. Вспомни, если можешь, Диди…
А уже в поезде, убывая на свой 101-й, ты услышишь от соседей по поездным нарам ты между делом услышишь от своих попутчиков, таких же, как ты, счастливцев, чьей-то незримой волей отпущенных каждый в свое Чистилище, ты услышишь между делом, что в середине дня покончил с собой какой-то старик в лазарете. Сам воткнул себе заточку точнехонько под третье ребро. Отошел мигом, даже не охнув.
Покойся с миром, мой друг Поль.
А был ли ты все это время ангелом моим?..
Загляни в эту последнюю папку, глупый Диди. Там уже всего две странички-то и осталось…
Бумажное эхо( окончание)
…и после Вашего последнего послания я вдруг понял, что волен! Волен, как птица, выпущенная из клетки! Наверно, такую же волю ощутили и Вы, узнав, что Ордена более не существует и Вы отныне принадлежите только себе.
Вы не поверите – со мной даже случилось нечто вроде припадка. Клянусь, я скакал по нарам и как оглашенный кричал что-то о свободе до тех пор, пока меня не укутали в смирительную рубашку.
Сейчас, пребывая в тюремном "доме скорби", отчасти сожалею о том, что напоследок имел неразумие совершить. Не так давно, боясь, что покину мир сей, не исполнив до конца долга перед Орденом, раскрылся перед своим другом Полем и передал ему на этот случай для выполнения известной Вам миссии свой тамплиерский стилет.
Бедняга Поль! Он и так помешался умом на мечте о невозможном – о побеге из этих краев. С приобщением к несуществующему Ордену он, кажется, обрел дополнительный смысл жизни.
Увы – ненадолго.
Он сам вонзил в себя стилет. Так что свой побег он все-таки совершил, причем в места куда более отдаленные, нежели те, что представали в его безумных мечтаниях.
Зато Дидье Риве, которого я, право, успел полюбить, жив, и я радуюсь хотя бы этому, столь малому.
Не могу Вам нынче ничего приказывать, но, памятуя об общей тайне, когда-то связывавшей нас, покорно прошу об одолжении, сделать которое вполне в Ваших силах. Употребите крохотный кусочек Вашей власти на то, чтобы Риве отправили из зоны на 101-й километр.
Я знаю о существовании Центра в вашей стране, занимающегося Деспозинами. Допускаю, что Риве может оказаться ему полезен, но при том лишь единственном условии, что останется жив. На Колыме это весьма сомнительно.
Все прочие заботы о Риве беру на себя сам. Это уже обязанность, диктуемая мне моею собственной душой, а не послушанием Ордену, то есть позыв опять же свободного человека.
Впрочем, сделаю это не сразу, сначала хочу насладиться сполна той единоличной свободой, которую обрел.
"Дом скорби", в котором я пока нахожусь, тому не помеха, скорее подмога. Не взыщите за многословие, кое, думаю, простительно для того кого окружающие считают душевно больным. Хочу поведать Вам, что в детстве мне приснился один сон, запомнившийся на всю жизнь…
Далее идет подробный пересказ детского сна Пьера, где его, новорожденного принца, вдруг унесло шальным ветром из дворца.
…и вот хочу Вам сказать, что сон мой почти исполнился – правда, много позже, чем я полагал. К своим всего лишь восьмидесяти – чем я не принц? Я себе кажусь даже монархом-самодержцем, каковых сейчас по пальцам сосчитать, ибо отныне воля моя принадлежит мне одному и никому более. Стены и санитары меня при этом нисколь не смущают: они не помеха той свободе, которая внутри тебя самого. Да и компания тут подходящая – Юлий Цезарь, два Наполеона, царь Давид. (Можете счесть за шутку, если угодно.)
С обещанием более Вас не тревожить,
По рождению – Батист Клеман,по мирской легенде – Пьер Обинье,по орденскому имени – Регуил,ныне – Король Самого Себя
6
Вот и все. Закончилась последняя папка. Далее – пустота. Такая же ожидает вскорости и тебя самого, Диди.
Но в отличие от ангела своего, ты еще не свободен. Верно, память твоя удерживает тебя своими зияющими пустотами, которые ты, не осмыслив, так и оставил лежать под броней забвения – этой неподатливой мерзлотой.
Но ты уже вроде бы поумнел, Диди – по крайней мере, tellement il te on ne sait pourquoi. [62]62
Так тебе почему-то кажется (фр.)
[Закрыть]Ты общался с бесстатейным русским деспозином и какие-то крохи, возможно, сумел понять.
Кроме того, ты прошел через Ад, Диди. Ты стал опытным копальщиком, кайлильщиком любой, даже самой неподатливой мерзлоты.
Давай, Диди! Бери же свое кайло!
Коли не страшно – давай!..
IX
Без названия
( ибо не все в мире можно обозначить словами)
…ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии.
Иоиль (2:13)
6
Давай же, Диди, давай!
С чего начать? Начинать всегда непросто. Поэтому с чего еще как не с крика человек начинает жить?
А заканчивать?.. По крайней мере, если речь идет о жизни, которую давно пора бы заканчивать – то, наверное, куда легче. Тем более, что ты уже давно в Раю. Обойдется без крика, я надеюсь.
Но – начинай все-таки. Кайло в твоих руках. Мерзлота памяти – вот она, пред тобою. И тебе не 99 а всего 45, ты полон сил, мерзлота поддастся первому же твоему удару.
Чего тебе не хватает? Крика?
Да напрягись! Прислушайся! Вот он!
Кричишь, правда не ты, но крик этот уже докатился до твоего дома.
Третий год идет Мировая война. захлебнувшееся немецкое наступление под Верденом, потом прорыв нашего генерала Невеля… Однако все это так далеко от твоей Ренн-лё-Шато, живущей, помимо известий с фронта, еще и своими собственными заботами.
Пять утра, ты пока дремлешь, увалень ты эдакий, но уже слышишь сквозь дрему этот крик, разносящийся по всей деревне: "Le cheval! Le cheval!…" [63]63
Лошадь! Лошадь!.. (Фр.) Впрочем, здесь понимается по-другому (см. далее).
[Закрыть]
n
«Шваль» в Ренн-лё-Шато«Le cheval! Le cheval!..» – доносится сначала издалека, потом все ближе и ближе. Можно было бы подумать, что кто-то гонится через всю деревню за сбежавшей лошадью, но я сразу же узнал голос моего выжившего из ума прадедушки Анри, который сжег Москву. Так выкрикивать это слово мог только он: «Шуваль, шуваль!..» В таком виде он вынес его из русского плена вместе со словом «говньюк» – так его там, видимо, тоже называли. (Потом и тебя будут называть, Диди. Только уже на чистом русском. И звучать оно будет: «шваль».)
Кстати, по рассказам прадедушки, которых я от него наслушался, когда он пребывал еще в относительно здравом уме, к нашей французской лошадке, к le cheval, это слово имело вполне прямое отношение. Пока мой прадедушка вместе с Наполеоном Первым драпал по морозу из сожженной ими обоими Москвы, по всей дороге валялись сдохшие французские лошаденки – в отличие от людей, ни одна из них не выдержала бескормицы и русских морозов. От этого смрад над дорогой стоял невыносимый. Пленные французы объясняли русским казакам его происхождение, виновато указывая на дорогу, и говоря: "Le cheval". Те, верно, поняли это по-своему и стали называть "швалью" (или "шувалью", как это вынес из России прадедушка) все, что смердит, в том числе провонявших пленных французов, прадедушку Анри в том числе.
С тех пор, если что-то казалось ему дурно пахнущим, он не медлил щегольнуть "русским" словцом: "Шуваль".
В то утро, услышав его крик, я уже не мог больше уснуть: воняло вокруг и вправду не слабее, чем в камере ретельской тюрьмы. Только запах был совсем иным. Это был… (уже окончательно проснувшись, я понял)…это был, вне всяких сомнений, запах отца Беренжера, но вдруг усилившийся настолько, что окутал собою всю Ренн-лё-Шато.
Через несколько минут ко мне в комнату заглянула матушка:
– Ты чувствуешь, Диди, чем-то воняет? Где-то, наверно, падаль. И волки, по-моему, ночью с горы выли. Может, мне показалось? Ты не слыхал?
И в этот самый миг со стороны горы впрямь раздался заунывный вой.
С роду к нам в Ренн-лё-Шато с гор не спускались волки. По преданию, когда-то их было тут много, они набегали целыми стаями терзать трупы катаров, но в те же древние времена граф Симон де Монфор велел отстрелять их всех, так что трупы людей зарывали вперемешку с трупами волков, хотя наверняка тот же Симон де Монфор считал последних тварями, куда более угодными Господу и имеющими куда большее право разгуливать по земле.
Матушка сказала, глянув в окно:
– Вон, мужчины с ружьями уже пошли. Давай-ка и ты, Диди, с ними.
Я быстро оделся, потом достал с чердака и зарядил отцовское ружье. Когда вышел из дома, у порога меня уже поджидали друзья, Поль и Пьер, у обоих в руках тоже были охотничьи ружья.
– Вонища вправду откуда-то… – сказал Пьер, пока мы шли в сторону горы.
– И по-моему, совсем с другой стороны, – заметил Поль. – Ветер-то вон откуда.
А ветер дул как раз со стороны дома отца Беренжера. Но почему-то я им этого не сказал.
Уже прогремело несколько выстрелов, вой, однако, не прекращался. Мы двинулись на звук.
У подножия горы стояло несколько мужчин, склонившись над трупом косматого зверя с размозженной головой.
– Да собака это, говорю вам! Не видите, что ли, обыкновенная собака, – объяснял собравшимся лавочник Жерар. – Волков я, что ли, не видел? У волка башка – во какая! И холка другая совсем.
– Точно, собака, – согласился с ним старик Шарль. – И там, – он указал в сторону, куда целился, – там, по-моему, тоже собаки.
Я пригляделся. У меня глаза были лучше, чем у него. Да, там, безусловно, сидела стая бездомных собак, самых разных цветов и размеров, от мелких шавок до здоровенных кобелей, и все они, глядя на нас, продолжали выть. Не разбежались и не утихли даже после того, как Поль тоже выстрелил и сразил одну из них наповал.
– Вы как хотите, – сказал Жерар, – а я в собак стрелять больше не стану. Если бы волки – другое б дело, а в собак – ну уж нет! – и он стал разряжать свое ружье.
– Да, в собак – оно как-то… – С этими словами Шарль тоже вытащил патроны. И добавил: – Чего ж они сбежались-то?.. И странное дело: собаки – а воют совсем по-волчьи. В жизни такого не видал.
– А запах тебе этот странным не кажется? – спросил Жерар. – Право, как в аду, прости Господи. Сроду такого не нюхивал, даже когда в Каркассоне на бойне работал. Только вот откуда, никак не пойму…
– Да вон же, оттуда! – старик указал в ту сторону, где стоял дворец кюре. – Пойдем-ка посмотрим.
Мы с Пьером и Полем двинулись за ними. А в спины нам несся нарастающий собачий вой.
Возле ворот священника скакал на своих копытцах мой прадедушка Анри и, указывая на эти ворота, знай себе повторял:
– Шуваль! Шуваль!..
Все согласились, что пахнет именно оттуда, но никто почему-то никак не решался вступить во двор.
Тут я увидел, что Натали сидит на переносной скамеечке и подстригает розовые кусты. Судя по этому, у них в доме вроде все было спокойно, поэтому я все-таки решился открыть ворота и войти. И, входя слышал, как со стороны горы пробивается и сюда собачий вой.
– Странные дела творятся у нас в Ренн-лё-Шато, – проговорил мявшийся у ворот старик Шарль.
Ах, если бы вы знали, дорогие мои соседи, до какой степени странные!..








